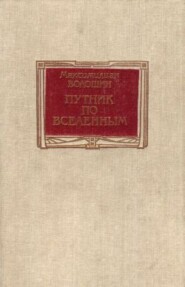 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Путник по вселенным
Иконография
Кошелев{27} Портрет маслом во весь рост. 1901
Е. С. Кругликова. Поясной порт<рет> маслом. 1901 Много карикатур, рисунков и силуэтов разных годов.
Сливинский{28}. Порт<рет> маслом с книгой. 1902.
Якимченко{29}. Голова, масло. 1902.
В. Харт{30}. Голова углем. 1907.
А. Я. Головин. Портрет поясной. Темпера. 1909.
Голова, литография. 1909.
Э. Виттиг{31}. Бюст в виде герма. 1909.
Е. Зак{32}. Голова, сангина. 1911.
Диего Ривера{33}. Мал<ый> порт<рет>, вся фигура. 1915.
Колоссальная голова. Масло. 1916.
Баруздина{34}. Порт<рет> маслом. 1916. Рис<унок> головы. 1916.
Бобрицкий{35}. Сангина. 1918.
Мане-Кац{36}. Поясной, масло. 1918.
Хрустачев{37}. Сангина. 1920.
Остроумова-Лебедева{38}. Голова акварелью. 1924.
Поясной портрет. Масло. 1925.
Кустодиев. Масло. 1924.
Костенко{39}. Гравюра на лин<олеуме>. 1924–1925
Верейский{40}. Литография.
Библиография.
Вот в каком порядке мои стихи должны быть изданы:
Две книги лирики:
Годы странствий (1900–1910)
SELVA OSCURA (1910–1914).
Книга о войне и революции:
Неопалимая купина (1914–1924).
Путями Каина.
Из франц<узских> поэтов мною переводились: Анри де Ренье, Верхарн, Вилье де Лиль Адан <«Аксель»>, Поль Клодель («Отдых седьмого дня», ода «Музы»), Поль де Сен-Виктор («Боги и люди»).
Из критических моих статей под названием «Лики творчества» {41} вышел только первый том о Франции в изд<ательстве> «Аполлона» (Спб., 1912). Остальные же, посвященные театру, живописи, русской литературе и Парижу – 4 тома, остались неизданными.
О самом себе
Автор акварелей, предлагаемых вниманию публики под общим заглавием «Коктебель», не является уроженцем Киммерии по рождению, а лишь по усыновлению. Он родом с Украины, но уже в раннем детстве был связан с Севастополем и Таганрогом. А в Феодосию его судьба привела лишь в 16 лет, и здесь он кончил гимназию и остался связан с Киммерией на всю жизнь. Как все киммерийские художники, он является продуктом смешанных кровей (немецкой, русской, итало-греческой). По отцовской линии он имеет свои первокорни в Запорожской сечи, по материнской – в Германии. Родился я в 1877 году в Киеве, а в 1893 году моя мать переселилась в Коктебель, а позже и я здесь выстроил мастерскую.
В ранние годы я не прошел никакого специально живописного воспитания и не был ни в какой рисовальной школе, и теперь рассматриваю это как большое счастье – это не связало меня ни с какими традициями, но дало возможность оформить самого себя в более зрелые годы, сообразно с сознательными своими устремлениями и методами.
Впервые я подошел к живописи в Париже в 1901 году. Я только что вернулся туда из Ташкента{1}, где был в ссылке около года. Я весь был переполнен зрительными впечатлениями и совершенно свободен в смысле выбора жизни и профессии, так как был только что начисто выгнан из университета за студенческие беспорядки «без права поступления». Юридический факультет не влек обратно. А единственный серьезный интерес, который в те годы во мне намечался, – искусствоведение. В Москве в ту пору – в конце 90-х годов прошлого века – оно еще никак не определилось, а в Париже я сейчас же записался в Луврскую школу музееведения, но лекционная система меня мало удовлетворяла, так как меня интересовало не старое искусство, а новое, текущее. Цель моя была непосредственная: подготовиться к делу художественной критики.
Воспоминания университета и гимназии были слишком свежи и безнадежны. В теоретических лекциях я не находил ничего, что бы мне помогало разбираться в современных течениях живописи.
Оставался один более практический путь: стать самому художником, самому пережить, осознать разногласия и дерзания искусства.
Поэтому, когда однажды весной 1901 года я зашел в мастерскую Кругликовой и Елизавета Сергеевна со свойственным ей приветливым натиском протянула мне лист бумаги, уголь и сказала: «А почему бы тебе не попробовать рисовать самому?» – я смело взял уголь и попробовал рисовать человеческую фигуру с натуры. Мой первый рисунок был не так скверен, как можно было ожидать, но главными его недостатками были желание сделать его похожим на хорошие рисунки, которые мне нравились, и чересчур тщательная отделка деталей и штрихов. Словом, в нем уже были все недостатки школьных рисунков, без знания, что именно нужно делать. Словом, я уже умел рисовать и мне оставалось только освободиться от обычных академических недостатков, которые еще не стали для меня привычкой руки. На другой же день меня свели в Академию Коларосси{2}. Я приобрел лист «энгра», папку, уголь, взял в ресторане мякоть непропеченного хлеба и стал художником. Но кроме того я стал заносить в маленькие альбомчики карандашом фигуры, лица и движения людей, проходящих по бульварам, сидящих в кафе и танцующих на публичных балах. Образцами для меня в то время были молниеносные наброски Форена{3} Стейнлена{4} и других рисовальщиков парижской улицы. А когда три месяца спустя мы с Кругликовой, Давиденко и А. А. Киселевым отправились в пешеходное путешествие по Испании через Пиренеи в Андорру, я уже не расставался с карандашом и записной книжкой.
В те годы, которые совпали с моими большими переходными странствиями по Южной Европе – по Италии, Корсике, Балеарам, Сардинии, – я не расставался с альбомом и карандашами и достиг известного мастерства в быстрых набросках с натуры. Я понял смысл рисунка. Но обязательная журнальная работа (статьи о художественной жизни в Париже и отчеты о выставках) мне не давала сосредоточиться исключительно на живописи. Лишь несколько лет спустя перед самой войной я смог вернуться к живописи усидчиво. В 1913 году у меня произошла ссора с русской литературой из-за моей публичной лекции о Репине. Я был предан российскому остракизму, все редакции периодических изданий для меня закрылись, против моих книг был объявлен бойкот книжных магазинов.
Оказавшись в Коктебеле, я воспользовался вынужденным перерывом в работе, чтобы взяться за самовоспитание в живописи. Прежде всего я взялся за этюды пейзажа, приучил себя писать всегда точно, быстро и широко. И вообще, все неприятности и неудачи в области литературы сказывались в моей жизни успехами в области живописи.
Я начал писать не масляными красками, а темперой на больших листах картона. Это мне давало, с одной стороны, возможность увеличить размеры этюдов, с другой же, т. к. темпера имеет свойство сильно меняться высыхая, это меня учило работать вслепую (т. е. как бы писать на машинке с закрытым шрифтом). Это неудобство меня приучило к сознательности работы, и тот факт, что <в> темпере почти невозможно подобрать тон раз взятый, – к умеренности в употреблении красок и чистоте палитры.
Акварелью я начал работать с начала войны. Начало войны и ее первые годы застали меня в пограничной полосе – сперва в Крыму, потом в Базеле, позже в Биаррице, где работы с натуры были невозможны по условиям военного времени. Всякий рисовавший с натуры в те годы, естественно, бывал заподозрен в шпионстве и съемке планов.
Это меня освободило от прикованности к натуре и было благодеянием для моей живописи. Акварель непригодна к работам с натуры. Она требует стола, а не мольберта, затененного места, тех удобств, что для масляной техники не требуются.
Я стал писать по памяти, стараясь запомнить основные линии и композицию пейзажа. Что касается красок, это было нетрудно, так как и раньше я, наметив себе линейную схему, часто заканчивал дома этюды, начатые с натуры. В конце концов, я понял, что в натуре надо брать только рисунок и помнить общий тон. А все остальное представляет логическое развитие первоначальных данных, которое идет соответственно понятым ранее законам света и воздушной перспективы. Война, а потом революция ограничили мои технические средства только акварелью. У меня был известный запас акварельной бумаги, и экономия красок позволила мне его продлить долго. Плохая акварельная бумага тоже дала мне многие возможности. Русская бумага отличается малой проклеенностью. Я к ней приспособился, прокрывая сразу нужным тоном, и работал от светлого к темному без поправок, без смываний и протираний.
Эту эволюцию можно легко проследить по ретроспективному отделу моей выставки. Это борьба с материалом и постоянное преодоление его.
Если масляная живопись работает на контрастах, сопоставляя самые яркие и самые противоположные цвета, то акварель работает в одном тоне и светотени. К акварели больше, чем ко всякой иной живописи, применимы слова Гете{5}, которыми он начинает свою «теорию цветов», определяя ее, как трагедию солнечного луча, который проникает через ряд замутненных сфер, дробясь и отражаясь в глубинах вещества. Это есть основная тема всякой живописи, а акварельной по преимуществу.
Ни один пейзаж из составляющих мою выставку не написан с натуры, а представляет собою музыкально-красочную композицию на тему киммерийского пейзажа. Среди выставленных акварелей нет ни одного «вида», который бы совпадал с действительностью, но все они имеют темой Киммерию. Я уже давно рисую с натуры только мысленно.
Я пишу акварелью регулярно, каждое утро по 2–3 акварели, так что они являются как бы моим художественным дневником, в котором повторяются и переплетаются все темы моих уединенных прогулок. В этом смысле акварели заменили и вытеснили совершенно то, что раньше было моей лирикой и моими пешеходными странствованиями по Средиземноморью.
Вообще в художественной самодисциплине полезно всякое самоограничение <:> недостаток краски, плохое качество бумаги, какой-либо дефект материала, который заставляет живописца искать новых обходных путей и сохранить в живописи лишь то, без чего нельзя обойтись. В акварели не должно быть ни одного лишнего прикосновения кисти. Важна не только обработка белой поверхности краской, но и экономия самой краски, как и экономия времени. Недаром, когда японский живописец собирается написать классическую и музейную вещь, за его спиной ассистирует друг с часами в руках, который отсчитывает и отмечает точно количество времени, необходимое для данного творческого пробега. Это описано хорошо в «Дневнике» Гонкуров{6}. Понимать это надо так: вся черновая техническая работа уже проделана раньше, художнику, уже подготовленному, надо исполнить отчетливо и легко свободный танец руки и кисти по полотну. В этой свободе и ритмичности жеста и лежат смысл и пленительность японской живописи, ускользающие для нас – кропотливых и академических европейцев. Главной темой моих акварелей является изображение воздуха, света, воды, расположение их по резонированным и резонирующим планам.
В методе подхода к природе, изучения и передачи ее я стою на точке зрения классических японцев (Хокусаи, Утамаро), по которым я в свое время подробно и тщательно работал в Париже в Национ<альной> Библиотеке, где в Галерее эстампов имеется громадная коллекция японской печатной книги – Теодора Дерюи{7}. Там <у меня> на многое открылись глаза, например, на изображение растений. Там, где европейские художники искали пышных декоративных масс листвы (как у Клода Лоррена{8}), японец чертит линию ствола перпендикулярно к линии горизонта, а вокруг него концентрические спирали веток, в свою очередь окруженных листьями, связанными с ними под известным углом. Он не фиксирует этой геометрической схемы, но он изображает все дефекты ее, оставленные жизнью на живом организме дерева, на котором жизнь отмечает каждое отжитое мгновенье.
Таким образом, каждое изображение является в искусстве как бы рядом зарубок, сделанных на коре дерева. Чтобы иметь возможность отличать «дефекты» от нормального роста, художник должен знать законы роста. Это сближает задачи живописца с задачами естественника. Раз мы это поняли и приняли, мы не можем отрицать, что в истории европейской живописи в эпоху Ренессанса произошел горестный сдвиг и искажения линии нормального развития живописи. Точнее, этот сдвиг произошел не во времена Ренессанса, а в эпоху, непосредственно за ним последовавшую. При Ренессансе опытный метод исследования был прекрасно формулирован Леонардо. Но на го́ре живописцев этот метод не был тогда же воспринят наукой, а был принят два поколения спустя в формулировке не художника, а литератора Фр. Бекона{9}. Это обстоятельство обусловлено, конечно, самим складом европейского сознания.
Таким образом, экспериментальный метод попал из рук людей, приспособленных и природой и профессией к эксперименту, к опыту и наблюдению, в руки людей, конечно, способных к очень точному наблюдению, но никогда не развивавших и не утончавших своих естественных чувств восприятия, что привело прежде всего к горестному дискредитированию «очевидности», но через это и к неисправимому разделению путей искусства и науки.
Правда, в области научного познания это привело к созданию различных механических приспособлений для точного определения мер и веса.
В свое время Ренессанс еще до раздвоенности науки и искусства создал различные дисциплины для потребностей живописцев: художественную перспективу и художественную анатомию. Но в наши дни художник напрасно будет искать так необходимых ему художественной метеорологии, геологии, художественной ботаники, зоологии, не говорю уже о художественной социологии. Правда, в некоторых критических статьях, например, у Рескина есть нечто, заменяющее ему эти нехватающие дисциплины (в статьях о Тернере), но ничего по существу вопроса еще не существует в литературе.
Точно так же, как и художник не имеет сотрудничества ученого, точно так же и ученый не имеет сейчас часто необходимого орудия эксперимента и анализа – отточенного тонко карандаша, потому что научный рисунок – художественная дисциплина, которую еще не знает современная живописная школа.
Пейзажист должен изображать землю, по которой можно ходить, и писать небо, по которому можно летать, т. е. в пейзажах должна быть такая грань горизонта, через которую хочется перейти, и должен ощущаться тот воздух, который хочется вдохнуть полной грудью, а в небе те восходящие потоки, по которым можно взлететь на планере.
Вся первая половина моей жизни была посвящена большим пешеходным путешествиям, я обошел пешком все побережья Средиземного моря, и теперь акварели мне заменяют мои прежние прогулки. Это страна, по которой я гуляю ежедневно, видимая естественно сквозь призму Киммерии, которую я знаю наизусть и за изменением лица которой я слежу ежедневно.
С этой точки зрения и следует рассматривать ретроспективную выставку моих акварелей, которую можно характеризовать такими стихами:
Выйди на кровлю. Склонись на четыреСтороны света, простерши ладонь..Солнце… Вода… Облака… Огонь… —Все, что есть прекрасного в мире…Факел косматый в шафранном тумане…Влажной парчою расплесканный луч…К небу из пены простертые длани…Облачных грамот закатный сургуч…Гаснут во времени, тонут в пространствеМысли, событья, мечты, корабли..Я ж уношу в свое странствие странствийЛучшее из наваждений земли…P. S. Я горжусь тем, что первыми ценителями моих акварелей явились геологи и планеристы, точно так же, как и тем фактом, что мой сонет «Полдень»{10} был в свое время перепечатан в Крымском журнале виноградарства. Это указывает на их т о ч н о с т ь.
Портреты современников
В каждой статье я стремлюсь дать цельный лик художника.
Произведения же художника для меня нераздельны с его личностью.
Если я, как поэт, читаю душу его по изгибам его ритмов, по интонации его стиха, по подбору его рифм, по архитектуре его книги, то мне, как живописцу, не меньше говорит о душе его и то, как сидит на нем платье, как застегивает он сюртук, каким жестом он скрещивает руки и подымает голову. Мне мало прочесть стихотворение, напечатанное в книге, – мне надо слышать, как звучит оно в голосе самого поэта; книга мертва для меня, пока за ее страницами не встает живое лицо ее автора.
М. ВолошинСергей Городецкий
«Ярь» – это прекрасное старое слово войдет снова в русский язык вместе с этой книгой. Редко можно встретить более полное и более согласное слияние имени с содержанием.
Ярь – это все, что ярко: ярость гнева, зеленая краска – ярь-медянка, ярый хмель, ярь – всходы весеннего сева, ярь – зеленый цвет.
Но самое древнее и глубокое значение слова Ярь – это производительные силы жизни, и древний бог Ярила властвовал над всей стихиею Яри.
Какое лучшее имя мог дать своей книге молодой фавн, написавший ее?
Что Сергей Городецкий молодой фавн, прибежавший из глубины скифских лесов, об этом я догадался еще раньше, чем он сам проговорился в своей книге:
Когда я фавном молодымНосил дриад в пустые гнезда…{1}Это было ясно при первом взгляде на его худощавую и гибкую фигуру древнего юноши, на его широкую грудную кость, на его лесное лицо с пробивающимися усами и детски ясные, лукавые глаза. Волнистые и спутанные волосы падали теми характерными беспорядочными прядями, стиль которых хорошо передают античные изображения пленных варваров.
Огромный нос, скульптурный, смело очерченный и резко обсеченный на конце смелым движением резца сверху вниз, придавал его лицу нечто торжественно-птичье, делавшее его похожим на изображения египетского бога Тота{2}, «трижды величайшего», изображавшегося с птичьей головой, которому принадлежали эпитеты «носатый», «достопочтенный Ибиси» и «павиан с блестящими волосами и приятной наружностью».
Та же птичья торжественность была и в поворотах его шеи, и в его мускулистых и узловатых пальцах, напоминавших и орлиные лапы, и руки врубелевского «Пана»{3}.
Но когда я видел его в глубине комнаты при вечернем освещении en face, то он напоминал мне поэтов двадцатых годов. Так я представлял себе молодого Мицкевича, с безусым лицом и чуть-чуть вьющимися бакенбардами около ушей.
А над его правым ухом таинственно приподымалась прядь густых волос, точно внимательное крыло, и во всей его фигуре и в голосе чувствовалась «Ярь непочатая – Богом зачатая»{4}.
«Ярь» открывается странной и необычайной космогонией мира, в которой звездное так слито с чревным, астрономия с биологией, что разделить их невозможно.
Я бы сказал, что это слияние было только у одного художника – у покойного Эжена Карриера. Но разница громадна. Карриер в сумеречной комнате и в движущихся людях видел звездные вихри и образующиеся миры, которые никогда не соприкоснутся друг к другу, в поцелуях матери ребенка, которым он придавал такую страстную безнадежность, чувствовалась бесконечная грусть последнего прикосновения млечной туманности к новообразовавшейся звезде, которая сейчас оторвется совсем и начнет свой одинокий бег в холодных пространствах вселенной.
Этой грусти совершенно нет у Городецкого. Он сам – молодая звезда, молодая вселенная, только что вышедшая из чьих-то чресл, хранящая воспоминание «чревных очей»; в нем еще живы «скорбь исхождения, путы утробные»; он полон весь ярою радостью найденного земного лика…
Михаил Кузмин
Как песня матери{1}Над колыбелью ребенка.Как горное эхо,Утром на пастуший рожок отозвавшееся,Как далекий прибойРодного, давно не виденного моря,Звучит мне имя твоеТрижды блаженное:Александрия!{2}(«Александрийские песни»)Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: «Скажите откровенно, сколько вам лет?», но не решаешься, боясь получить в ответ: «Две тысячи».
Без сомнения, он молод, и, рассуждая здраво, ему не может быть больше 30 лет, но в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. Только он не из мумий Древнего Египта. Такие лица встречаются часто на эль-файумских портретах{3}, которые, будучи открыты очень недавно, возбудили такой интерес европейских ученых, дав впервые представление о характере физиономий Александрийской эпохи. У Кузмина такие же огромные черные глаза, такая же гладкая черная борода, резко обрамляющая бледное восковое лицо, такие же тонкие усы, струящиеся по верхней губе, не закрывая ее.
Он мал ростом, узкоплеч и гибок телом, как женщина.
У него прекрасный греческий профиль, тонко моделированный и смело вылепленный череп, лоб на одной линии с носом и глубокая, смелая выемка, отделяющая нос от верхней губы и переходящая в тонкую дугу уст.
Такой профиль можно видеть на изображениях Перикла и на бюсте Диомеда{4}.
Но характер бесспорной античной подлинности лицу Кузмина дает особое нарушение пропорций, которое встречается только на греческих вазах: его глаз посажен очень глубоко и низко по отношению к переносице, как бы несколько сдвинут на щеку, если глядеть на него в профиль.
Его рот почти всегда несколько обнажает нижний ряд его зубов, и это дает лицу его тот характер ветхости, который так поражает в нем.
Несомненно, что он умер в Александрии молодым и красивым юношей и был весьма искусно набальзамирован. Но пребывание во гробе сказалось на нем, как на воскресшем Лазаре в поэме Дьеркса.
«Лоб его светился бледностью трупа. Его глаза не вспыхивали огнем. Его глаза, видевшие сияние вечного света, казалось, не могли глядеть на этот мир. Он шел, шатаясь, как ребенок. Толпа расступалась перед ним, и никто не решался с ним заговорить. Сам ужаснувшись своей страшной тайны, он приходил и уходил, храня безмолвие»{5}.
Древняя Александрия была одной из последних областей истории, которую открыло внутреннее око европейца, устремленное в свое прошлое. Флобер, Анатоль Франс, Пьер Луис один за другим произносили призывные заклинания над древними александрийскими гробницами, и в нашем сонном сознании возникали радостные и трагические тени богов и людей: Таис{6}, св. Антоний, Билитис{7}. Но заклинания их действовали не только в области искусства. Когда Анатоль Франс произнес свое заклинание над душой Таис, то гробница св. Таис действительно раскрылась, и труп ее вышел и был привезен в Париж, где он лежит теперь в круглом зале музея Гимэ, под стеклянным колпаком, с ужасом глядя своими широко раскрытыми золотыми глазами, сияя своими обнаженными зубами, скрестив стройные костяные ноги, тонко обтянутые желтым пергаментом кожи. А кругом нее лежат другие обитательницы Александрии, их одежды, их украшения и их изображения.
Почему же не могло случиться, чтобы призывная сила властных заклинаний, обращенных к Александрии, не вызвала к жизни одного из тех, в чьем набальзамированном теле продолжала тлеть в течение тысячелетий неугасающая искра земной жизни?
Мне бы хотелось привести Кузмина в музей Гимэ, подобно тому как следователи приводят подозреваемых преступников в морг, и внимательно следить за каждым изменением его лица и ждать, как задрожат его руки, как вспыхнет огонь в его огромных и мертвых агатовых глазах, когда он узнает в одной их тех, что лежат рядом с Таис, ту, которая танцевала для него «Осу» на зеленой лужайке, в обуглившихся от времени лохмотьях ту шелковую ткань, которой он одевал ее тонкое тело, узнает те золотые запястья и ожерелья из разноцветных камней, которые он покупал ей, «продав свою последнюю мельницу», и на куске истлевшего папируса прочтет стихи, написанные своею собственной рукой:
Что ж делать, что перестану я видетьТвое лицо? Слышать твой голос?Что выльется вино, улетучатся ароматы,И сами дорогие ткани истлеют через столетье?Разве меньше я стану любить эти милые хрупкие вещиЗа их тленность?Я знаю, что он быстро овладеет собой и, когда мы выйдем из музея, он будет напевать про себя:
Что мы знаем? Что нам знать? О чем жалеть?Кружитесь, кружитесь, держитесь крепче за руки.Звуки звонкого систра несутся, несутся,В рощах томно они отдаются.Мы знаем, что все – превратно,Что все уходит от нас безвозвратно.Мы знаем, все все – тленно,И лишь изменчивость неизменна.Мы знаем, что милое телоДано для того, чтобы потом истлело.Вот что мы знаем, вот что мы любим,За то, что хрупко, трижды целуем!Мне хотелось бы восстановить подробности биографии Кузмина – там, в Александрии, когда он жил своей настоящею жизнью в этой радостной Греции времен упадка, так напоминающей Италию восемнадцатого века.
Подобно лирику Мелеагру{8} – розе древней Аттики, затерявшейся в хаосе александрийской антологии, Кузмин несет в своих песнях цветы истинной античной поэзии, хотя сквозь них и сквозит александрийское рококо.
В жилах его не было чистой эллинской крови. Вероятно, он, как и Мелеагр, был сирийцем. По крайней мере в одном месте он вспоминает о «родной Азии и Никомедии»{9}.
Так же, как и Мелеагр, он имел право написать на своей гробнице:
«Я, Мелеагр, сын Эвкрата, я возрос вместе с музами и первое свое странствие совершил сопровождаемый меницейскими грациями. Что ж из того, что я сириец? Чужеземец! У нас одна родина – Земля. Единый Хаос породил всех смертных. Подойди к гробнице моей без боязни. Эроса, муз и харит славил я стихами. Мужем я жил в божественном Тире и в священной земле Гадары, милый Кос приютил мою старость. Если ты сириец – «Салям», если ты финикиец – «Хайдуи», если грек – «Хайрэ». И ты скажи мне то же».



