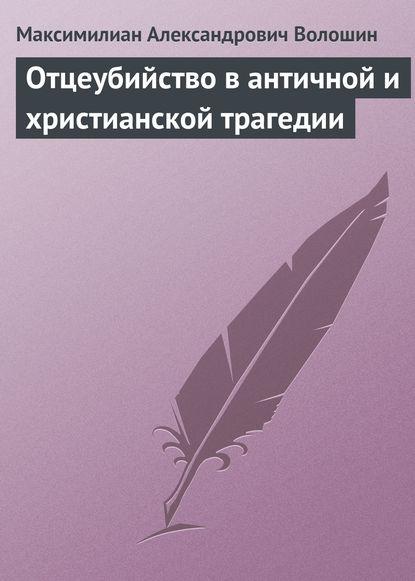 Полная версия
Полная версияОтцеубийство в античной и христианской трагедии
Но в таком познании тайны, насильно раскрывающем свои первоистоки, греки видели нечто кощунственное и преступное. Кровь, которая несет в себе тайны человека, не может видеть солнца – она свертывается и чернеет, будучи пролита. Так и Эдип, познавший тайны крови, не имеет права видеть Солнце – он вырывает себе глаза. Вещий провидец должен стать слепым, как кровь.
Но все же конечная вина Эдипа лежит не в нем. Он не своей волей узнал запрещенные тайны. Он случайно оступился над бездной. Припомните сдержанно-стыдливый диалог между Эдипом и Хором в «Эдипе в Колонне».
Хор.
Старое, спящее горе будитьСтрашно, – но все ж спросить мы хотели…Эдип. О чем?
Хор.
О несказанном, неизгладимомЯвном страданьи твоем.Эдип.
Именем Зевса молю вас, о милые,Не обнажайте позорного.Хор.
Здесь о тебе уже слышали многое, –Ныне же знать мы всю правду хотим.Эдип. Тяжко.
Хор. О друг, умоляем…
Эдип.
Увы мне, увы!Зло я терпел, лишь терпел, но, свидетель мне Бог,Сердце мое и не чаяло –Все против воли…Хор. Какое же зло?
Эдип.
Люди меня сочетали, не зная, что делаютС матерью в мерзостном браке!Хор.
И несказанную святость родимого ложаТы осквернил, говорят?Эдип.
Горе мне! Смерть – это слышать; молчите!Боже, ведь это родные мои…Хор. Что говоришь?
Эдип. Эти дочери – обе проклятые!
Хор. Зевс!
Эдип. Сыном зачаты – о мерзость! – от матери!
Хор. Это дети твои!..
Эдип. Дети и сестры отца.
Хор. Страшно.
Эдип. Страшно воистину: узел из тысячи бед!
Хор. Ты терпел!..
Эдип. То, чего не забыть никогда.
Хор. Совершил…
Эдип. Не свершал ничего…
Хор. Как?
Эдип.
Увы! Только принял в подарок от Города то,Что не должен был брать я, несчастный.Хор. Бедный, ты – и убийца?..
Эдип. Что вы? Тише! О ком говорите?..
Хор….Отца?
Эдип. Рана за раною – сжальтесь!
Хор. Убил?..
Эдип. Да, – но слушайте, есть у меня…
Хор. Что? Кончай…
Эдип. Оправданье.
Хор. Какое?
Эдип.
Убил – отрекаться не буду: но разве я зналЧто творю? Я пред Богом невинен!В таком безвыходном круге с исполненною недоумений душою, чувствуя себя игрушкой богов, стоит Эдип. Примиренья нет. Смерть покрывает все, но не примиряет. Когда он совершает очистительные обряды в роще Эвменид, дверь Аида тихо раскрывается и поглощает его целиком с невинным духом и согрешившей плотью. Но этим судьба его на земле не погашена: остаются еще его дочери и его сыновья, на которых тяготеет проклятие их преступного рождения. С какой бы стороны[60] не подходили бы мы, люди настоящего времени, к трагедии Эдипа, все-таки в конце концов, глубоко на дне сердца, у нас останется нечто неразрешенно‹е› и непримиренное, потому что между Эдипом и нами лежит новое христианское самосознание.
В основе учения Христа лежит именно то, что в истории Эдипа, символически, является его отцеубийством.
«Не мир пришел Я принести, но меч.
Ибо Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее.
И враги человеку домашние его.
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня.
И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня».
На место сыновней преемственности плоти Христос ставит преемственность и сыновность в Духе. Это символическое отцеубийство в христианстве ведет к познанию тех же тайн, что открылись для Эдипа. Но тайны древнего мира разоблачаются Христом:
«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях».
То, что составляло радостную весть освобождения от ига древних тайн крови и запрещений, на них лежавших, заключено в отношении Христа к внутреннему человеческому «Я».
Ветхозаветный Бог говорит человеку:
«Аз есмь твой Бог. И да не будет тебе богов иных, кроме Меня!»
Христос пришел не нарушить этот закон, а укрепить и углубить его. И в христианстве эта первая заповедь звучит так:
«Я – есть твой Бог. И да не будет тебе богов иных, кроме твоего Я, поэтому не сотвори себе кумира ни на небесах, ни на земле, всякое познание Бога возможно не во внешнем мире, а только в глубине твоего Я».
Христос – это само внутреннее духовное Я человека. Поэтому всюду, где он говорит «Я», мы должны читать «сознание внутреннего человеческого Я».
Это сознание «Я», непосредственно исходящего от Бога, приносит на землю меч; это «Я» должно разделить человека с отцом и с матерью его, родившими его во плоти, но не в духе.
Вот та глубочайшая перемена человеческого сознания о своем месте на земле, которая легла между отцеубийством Эдипа и отцеубийством «Братьев Карамазовых».
Отцеубийство в «Эдипе» бессознательно и конкретно, отцеубийство в «Карамазовых» сознательно и совершено только в сознании и в чувстве.[61]
Трагедия и Дмитрия, и Ивана, и Алеши Карамазовых в том прежде всего, что они Карамазовы, в том, что они чувствуют в себе отцовскую плоть, насыщенную грехом и извращениями, в том, что для того чтобы перестать быть Карамазовыми, они прежде всего должны в себе преодолеть своего отца. Христос кладет на детей обязательство преодолеть в себе своих родителей, для того чтобы подняться до сознания своей сыновности Божьей. Но чем преодолеть: отрицанием или любовью? Христос говорит, с одной стороны: оставь отца и мать, а с другой стороны, подтверждает древний закон: «Чти отца своего и мать свою».
Каждый страстный и безоглядный порыв человека к духу связан неизбежно с отречением от плоти. А отрицание плоти – отцеубийство. Аскетизм, убиение плоти – в христианстве равносильно отцеубийству Эдипа. Вот почему отцеубийство, как трагическая коллизия, лежит неизбежно в основе христианской трагедии.
Но эта трагедия не безвыходна: кроме убиения и отречения от плоти, возможно ведь еще возлюбить ее, освятить, преобразить, одухотворить ее, покрыть ее собою, принять и всею своею жизнью оправдать свою физическую наследственность.
Если перед Дмитрием и Иваном Карамазовыми Достоевский ставит безвыходность отцеубийства, то Алеше он раскрывает последний, святой выход, которого Христос требует от человека. «Братья Карамазовы» являют все элементы трагического действа в духе: Дмитрий всею страстью пожелал смерти отца, проклиная в нем свою карамазовскую плоть, Иван разумом осудил отца и карамазовщину; ни один не убил физически. Но страсть одного и логика другого, не чудесно, а совершенно естественными путями создали убийцу Смердякова, и оба они несут трагические последствия своей вины, как если бы они были фактическими отцеубийцами. Все, что лишь помыслено, все, что лишь почувствовано, – уже становится конкретным фактом жизни – вот закон христианского трагического действа.
Безликая судьба, руководящая Эдипом, сведена в «Карамазовых» до конкретной и живой фигуры Феодора Павловича Карамазова. Феодор Павлович – сладострастник, циник, прирожденный приживальщик, казуист и кощунник, засевает свою плоть в разных матерях.
Двигающая пружина трагедии в том, что все четыре брата Карамазовых, несущие в себе карамазовскую плоть, одухотворены различными женственными стихиями, унаследованными от разных матерей.
Плоть Феодора Павловича, сочетавшись с Аделаидой Ивановной Миусовой – «дамой горячей, смуглой, смелой, нетерпеливой, которая, по преданию, била его», родила Дмитрия. Материнская стихия сказывается в Дмитрии и в неудержимом буйстве характера, в той страстной жажде правды и высшей красоты, которая сотрясает его в самые унизительные моменты жизни. Дмитрий чувствует отца внутри себя как «сладострастное насекомое». Он ненавидит отца, потому что ненавидит все[62] подлое в самом себе. Он может только истребить, каблуком раздавить насекомое, и самого себя[63] истребить вместе с ним. Он не убивает отца только потому, что «верно, мать в то время молилась за меня», и принимает обвинение в отцеубийстве как законное возмездие за всю свою жизнь и за желание убить. Поэтому в его гибели есть возможность и обетование воскресения.
От брака Феодора Павловича с кроткой Софьей Ивановной в первый год рождается Иван. Иван – огромный ум, устремленный к Богу. Но у этого ума нет иных путей познания, как разум. За две секунды непосредственной веры он готов бы был пройти квадрильон лет. Карамазовская плоть сказывается в Иване не страстными судорогами и приступами, как в Дмитрии, – она отравила его ум. «Если есть который из сыновей, более похожий на Феодора Павловича по характеру, то это Иван Федорович», – суфлирует Смердяков прокурору. Бессилие ума Ивана в том, что он подчинен циничной и подлой логике вещества,[64] до того, что у него нет путей не согласиться с умом Феодора Павловича. «Папенька наш Феодор Павлович, хотя и был поросенок, но мыслил он правильно». Он совершает отцеубийство не в порыве страсти, а холодно и обдуманно словами: «Пусть один гад убьет другую гадину». Как может он предполагать, что мысль может убить? А между тем его мысль воплощается в Смердякова и убивает. И узнав, что убийца – он сам и есть, он внутренно не принимает на себя убийства, как Дмитрий. Он дает против себя показания на суде, исполняя формальный долг спасти брата. Поэтому жертва его не принята и весь его ум, как камень, падает на него же самого и поражает его безумием. Роман оставляет его в горячке между жизнью и смертью. Но трагическая логика говорит нам, что это[65] гибель.
После нескольких лет брака София Ивановна, уже ставшая кликушей, рождает Алешу. Первое, что запомнил в жизни Алеша, это исступленное и прекрасное лицо матери, которая протягивает его к образу Богоматери. В Алеше этот исступленный порыв веры,[66] этот экстаз женщины, в которой сгорело все земное, побеждают карамазовскую плоть. Алеша – ангел. Но карамазовская плоть потенциально в нем присутствует. Трагедии Алеши в романе[67] нет, потому что весь роман в его Целом служит только прологом к ней. Но мы можем угадать по роману, в чем эта трагедия должна была заключаться. Алеша знает, что он Карамазов. Он говорит Дмитрию: «Разница между нами только в том, что ты стоишь где-то на тридцатой ступеньке, а я ступил лишь на первую. Но кто ступил на первую, тот пройдет и остальные».[68] Старец Зосима, умирая, не дозволяет Алеше оставаться в монастыре, он посылает его в мир и заповедует ему «пожениться». Ясно, что Алеша должен воплотиться и до конца сознать свою карамазовскую плоть, чтобы вступить с ней в борьбу и победить ее. Для Дмитрия и для Ивана на всех путях жизни, ведущих от плоти к духу, стоит отцеубийство. У них трагическая безвыходность: или самим духовно погибнуть, или отца убить. А убийство[69] мыслью или желанием, в той атмосфере, в какой развивается действие романа, становится реальным убийством. Очевидно, что Достоевский предназначал Алеше не убить, а преобразить в себе Карамазова, стать спасителем грешной и изолгавшейся плоти Феодора Павловича. В том, что Феодор Павлович уже после смерти должен был быть спасен сыном кликуши, которую, может, одну во всю свою жизнь[70] на минуту полюбил и пожалел искренно и бескорыстно, может, была тайная мысль Достоевского. Не была ли кликуша «луковкой» Феодора Павловича?
Наконец, от кощунственного насилия Феодора Павловича над юродивой и идиоткой Лизаветой Смердящей родился лакей Смердяков, который фактически убивает своего отца, являясь орудием волений Дмитрия и Ивана. Смердяков – урод с душой, не просвещенной никакой искрой духа, идущей от женщины, унаследовавший хамский разум[71] Феодора Павловича, презирающий мать и ненавидящий отца, является[72] на землю как бы только для жеста трагического возмездия Феодору Павловичу Карамазову, пораженному исчадием самого кощунственного из своих поступков. Совершив единственное дело, для которого он рождался, – отцеубийство, Смердяков вешается. Его самоубийство не обусловлено никакой определенной причиной: ему просто больше нечего делать в жизни.[73]
Трагедия Дмитрия и трагедия Ивана начата и закончена в романе. Трагедия Алеши только проецируется из него.
В общем плане романа есть большая последовательность и стройность, гармоничность замысла, редкая для Достоевского.
Трагедия Дмитрия идет нарастая ровно до половины романа, где действие надламывается катастрофой – смертью Феодора Павловича. Достоевский так ведет нарастание гнева и безвыходности положения Дмитрия, что когда он ставит многоточие после тех строк, где Митя подбегает к окну и видит отца, то у читателя остается несомненное чувство, что он не может не убить.
Трагедия Ивана начинается только тогда, когда трагедия Дмитрия окончена. Первая часть шла к убийству, вторая развивается от убийства. Нарастание ужаса в трагедии Ивана именно то же самое, что в «Эдипе-царе»: он обвиняет в отцеубийстве брата и вдруг начинает узнавать, что отцеубийца – он сам. Это постепенно‹е› разоблачение его виновности совершается так же постепенно, неизбежно и страшно, как у Софокла.
Когда Иван говорит Алеше о том, что есть «собственноручный Митенькин документ, математически доказывающий, что он убил Феодора Павловича», Алеша восклицает: «Не он убил отца, такого документа быть не может».
«Иван Феодорович вдруг остановился.
– Кто же убийца по-вашему? – как-то холодно спросил он, и какая-то высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.
(Вспомним, как высокомерен Эдип с Тирезием и Креоном).
– Ты сам знаешь кто, – тихо и проникновенно проговорил Алеша.
– Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте? О Смердякове? Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.
– Ты сам знаешь кто, – бессильно вырвалось у него. Он задыхался. (Алеша проходит через все моменты душевного состояния Тирезия, который отказывается отвечать Эдипу на его вопросы, заклиная не спрашивать ради собственного своего счастия).
– Да кто, кто? – уже почти свирепо вырвалось у Ивана. Вся сдержанность его вдруг исчезла (как она исчезает в этот момент у Эдипа).
– Я знаю только одно, – все так же почти шепотом проговорил Алеша, – убил отца не ты».
Вот оборот, сделанный вполне в духе гения греческой трагедии!
До сих пор Иван поймал себя только на одном: ночью, за день до отъезда в Москву, он вставал, потихоньку выходил на лестницу, прислушиваясь[74] со странным любопытством к тому, что делается в комнатах отца. Ждал убийства, сам себе в том не сознаваясь. Этого «поступка» он стыдился больше всего и считал самым подлым в своей жизни. Но в этом стыд, а не преступление. И вот идут три последовательных разговора со Смердяковым, архитектурно соответствующие рассказу Иокасты об заброшенном в горы ребенке, рассказу вестника о царе Полибе и рассказу пастуха об том, как он спас ребенка Эдипа.
Смердяков, глядя в глаза Ивану, говорит саркастически:
«Не надоест же человеку! С глазу на глаз сидим, с чего бы, кажется, Друг друга-то морочить, комедь играть? Али все еще на меня одного свалить хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему это дело и совершил».
Смердяков всюду сопровождает Ивана, как его двойник, как его хамское подобие. В Смердякове в чистом виде воплощена та подлая, кощунственная, казуистическая карамазовщина, которая в Иване сильнее, чем в Дмитрии. И когда Иван после этого третьего, окончательного разговора выходит от Смердякова и тот вешается у себя в комнате, в это самое время у Ивана происходит разговор с Чертом. Черт Ивана Феодоровича – это мировое преображение Смердякова, истинный дух Смердякова, гений карамазовщины. Черт говорит мысли Ивана, но говорит их тоном, ужимками и оборотами Смердякова. В его лике встает перед Иваном та логика вещества, против которой он боролся путем отцеубийственным, но отцеубийство не уничтожило, а только освободило грозящие ему силы.
Тот же параллелизм, который существует между Иваном и Смердяковым, можно уловить между Дмитрием и Алешей. Только Алеша воплощает[75] те духовные силы, которые лежат в Дмитрии. В сходстве Ивана со Смердяковым лежит его гибель. В сходстве Дмитрия с Алешей возможность «воскресения из мертвых».
Достоевский намеренно как бы, чего он никогда не делал, подчеркнул этот параллелизм.
В ту самую ночь, когда в монастыре лежит тело почившего «святого» старца Зосимы, духовного отца Алеши, его отец по плоти – грешный старик Феодор Павлович Карамазов, лежит в своем кабинете с проломленным черепом.
В эту же самую ночь Митя мчится на тройке в Мокрое и молится исступленно:
«Господи, прими меня в моем беззаконии, но не суди меня. Пропусти мимо без суда твоего… Не суди, потому что я сам осудил себя, не суди, потому что я люблю тебя, Господи! Мерзок сам, а люблю тебя: во ад пошлешь, и там любить буду, и оттуда буду кричать, что люблю тебя во веки веков».
И Достоевский спешит отметить, что это была та самая ночь и тот самый час, когда Алеша вышел из кельи, где стояло тело старца Зосимы, только что проснувшись от того сна, когда ему[76] было вещее видение о пире в Кане Галилейской:
«Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние, роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездной… Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.
Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее во веки веков. „Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…“ – прозвенело в его душе. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления сего. Как будто нити от всех этих бесчисленных миров божьих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь мирам иным. Простить ему хотелось всех и за все и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а „за меня и другие просят“, прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно, как бы осязательно, что что-то твердое и незыблемое, как свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. „Кто-то посетил мою душу в тот час“, – говорил он потом с твердой верой в слова свои…
Через три дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему „пребывать в миру“».
Я целиком прочитал эту страницу потому, что она является[77] центральной точкой всего романа. Без того света, которым озаряет она мрачные страницы «Братьев Карамазовых», трагедия Карамазовых была бы так же безвыходна, как трагедия Эдипа. В этом экстазе любви к земле, к плоти, ко всему сущему Достоевский раскрывает тот путь, которым карамазовщина может быть преодолена без отцеубийства; тот путь, на котором требование: «оставь отца и мать и иди за Мною», не нарушает, а утверждает заповедь: «чти отца своего и матерь свою».
Как известно, те «Братья Карамазовы», которых мы имеем в настоящее время, по замыслу Достоевского должны были стать только прологом к большому роману, который бы охватывал всю жизнь Алеши. Этого романа Достоевский не написал, потому что умер или, как было сказано [в этом году][78] – умер, потому что не мог бы написать.
Мы не знаем, как бы должен был разрешиться в обстановке обыденной жизни этот пророчественный момент экстаза, какими путями должна была разрешиться борьба Алеши с отцовскою злою плотью.
Но мы знаем по предисловию, что действие этого второго романа должно было происходить в 1880 году, т. е. в страшно напряженной общественной атмосфере, сходной с атмосферой 1905 года. Мы имеем право предположить, что многое в нем могло напоминать «Бесы», но что вопросам, оставшимся неразрешенными в «Бесах», здесь должно было быть дано разрешение. Было ли бы это так или нет, во всяком случае загадка о судьбе Алеши Карамазова есть основная загадка русского духа. До сих пор отцеубийственного во всех своих порывах и революционных[79] устремлениях.
Трагические пути Алеши – вот к чему неизбежно сведутся все осуществления в области русской трагедии в той или иной форме.
Но окончательного ответа, конечно, не сможет дать ни один гений будущих времен, как не дал[80] и Достоевский, потому что он сможет разоблачиться только ‹в› конечных исторических судьбах всего русского народа.
Сноски
1
Далее было начато: Эта
2
Далее было: инсценировки
3
Далее было: переделки
4
Далее было: и пояснения
5
Было: Театральная пресса
6
В оригинале: Она судила
7
Далее зачеркнуто: (Обычно, когда закройщиком является какой-нибудь из обычных драматургов-ремесленников – моральная вина падает всецело на него, а театр судят только за осуществление. Здесь Художественный театр сам явился и драматическим закройщиком, и воплотителем; и потому является ответственным за все).
8
Было: Но прежде
9
Было: Но не является ли
10
Далее было: а не
11
Далее было начато: но он нико‹гда›
12
Далее было: выучил
13
Было: Пусть над литераторами тяготеют нелепые обвинения в заимствованиях и плагиатах, но мы
14
Было: ‹…› ‹та›кого мирового художника, как Достоевский.
Но он неправилен в самой своей сущности: никогда
15
Далее было: одну из тысяч
16
Было: Поэтому мы можем
17
Далее было начато: Таким образ‹ом›
18
Далее было: приходит
19
Вписано: Marie Duplessy
20
Далее было начато: Нет ли
21
Далее было: работы
22
Далее было: обработаны
23
Далее было начато: исторические
24
Далее было: ‹…› определенному концу. Дух трагедии не допускает неожиданностей. Он может творить только во всенародном, в общеизвестном, т. е. в мифе. Запомним это.
25
Зачеркнуто карандашом
26
Далее было: какое-то
27
Далее было: не выйти из эпоса, а
28
Далее было: Русская историческая трагедия в лице [своего лучшего представителя] хотя бы Алексея Толстого обнаружила все обычные слабости исторической трагедии. Историческая канва – лишь несовершенный суррогат мифа. Исторические события, к каким бы важным моментам истории народа они не относились, недостаточно проработаны моральным чувством народа, недостаточно канонизированы, чтобы стать заменой мифа. Историческая хроника по внутреннему своему духу есть нечто совершенно иное, чем трагедия.
29
Далее было начато: были
30
Было: «Семи против Фив» и мифов об Эдипе.
31
Было: Мити Карамазова.
32
Было: уподоблений.



