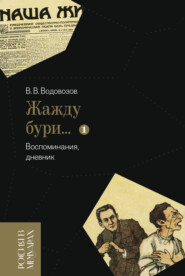скачать книгу бесплатно
Статья 26. «Лица поднадзорные могут ходатайствовать по судебным делам, относящимся только до них самих, их родителей и детей».
Статья 27. «Врачебная, акушерская, фармацевтическая практика дозволяется поднадзорным не иначе как с разрешения министра внутренних дел».
И, наконец, увенчивала все эти запретительные статьи статья 28, которая гласила:
«Все остальные занятия, дозволенные законом, разрешаются поднадзорным, но с тем, что от местного губернатора зависит воспретить поднадзорному избранное им занятие[275 - Пропущены слова: «если оно сему последнему служит средством осуществления его предосудительных замыслов или по местным условиям представляется опасным для общественного порядка и спокойствия» (Там же).]».
Эти постановления лишали ссыльного возможности заниматься каким бы то ни было интеллигентским трудом и отдавали его связанным по ногам и рукам в руки местной администрации; особенно хороша была в этом отношении последняя статья. А если прибавить к ней некоторые другие, например о праве министра внутренних дел предписать администрации контролировать его переписку[276 - Имеется в виду статья 29, по которой министру внутренних дел предоставлялось право воспрещать поднадзорному непосредственное получение им частной почтовой или телеграфной корреспонденции, препровождаемой на просмотр местному начальнику губернского жандармского управления или уездному исправнику, которые либо передавали ее «по принадлежности», либо, «в случае предосудительного содержания», задерживали (Там же).] и тому подобное, то станет совершенно понятно, какие тяжелые воспоминания связаны у русской интеллигенции с административной ссылкой.
Стесненный запретительными постановлениями закона и часто еще более диким произволом трусливой, злобной и невежественной администрации, оторванный от привычных занятий, административный ссыльный обыкновенно не мог найти никакого заработка. Правда, он получал денежное пособие, но оно в большинстве случаев было совершенно ничтожно: в иных городах – 6 рублей в месяц, в иных – 3 рубля 60 копеек и даже меньше, – жить на него было совершенно невозможно. За самое пустое нарушение правил, – а правила таковы, что не нарушать их почти невозможно, – а то и без нарушения виновный по усмотрению местной администрации подвергался аресту и высылке в другое место той же губернии, иногда – в тундры, в болота или в совершенно глухой улус[277 - Улус – административно-территориальная единица на восточных и северных окраинах Российской империи.], населенный исключительно полудикими якутами или тунгусами.
Всякий, кто читал «Записки моего современника»[278 - Правильно: «История моего современника». Первое издание: СПб., 1909. Т. 1; Одесса, 1919. Т. 2.] Короленко, помнит, конечно, что представляла из себя такая ссылка. А в качестве яркого примера бессмысленности и закона о полицейском надзоре, и в особенности его применения можно вспомнить хорошо в свое время (в конце 70?х или начале 80?х годов) известный случай, когда в одном из сибирских городов против ссыльного врача Долгополова было возбуждено «дело о противозаконном вынутии пули из тела» какой-то местной обывательницы. Эта обывательница – притом из общественных верхов города, чуть ли не жена городского головы. В городе не было другого врача, и муж обывательницы слезно умолял ссыльного врача спасти его жену, что тот и исполнил благополучно после некоторых колебаний. Но исправник – вследствие ли враждебных отношений с головой или неприязни к Долгополову, или из опасения, что незаконное врачевание может потрясти основы государственного порядка и приблизить революцию, – поспешил только возбудить «дело» против Долгополова; было произведено следствие в административном порядке, составлено толстое «дело» за определенным номером со значительным числом подшитых к нему листов, и в результате законность была восстановлена, а врач, проявивший своим врачеванием «вредность для общественного спокойствия», после нескольких месяцев тюрьмы был переведен в какое-то совсем скверное место, где, конечно, тоже не было другого врача, но где он лечить уже не решался[279 - Н. И. Долгополов, студент пятого курса медицинского факультета Харьковского университета, сосланный в августе 1880 г. в Курган и переведенный оттуда в октябре 1882 г. в Сургут, ввиду осеннего бездорожья задержался в Тюкалинске, где за «самовольное» извлечение пули из ноги супруги городского головы попал в тюрьму, после чего был отправлен в село Пелымское Туринского округа, но, заболев по дороге тифом, остался в Ишиме.].
Таковы были условия ссыльной жизни «вообще», преимущественно – в Сибири. Но в частности, в зависимости от случайного личного состава местной администрации, в особенности губернатора, а также многих других условий жизнь складывалась и иным образом, и иногда – весьма сносно. И, на мое счастье, в Архангельской губернии и в особенности в Шенкурске она в мое время сложилась именно так. Отчасти это объяснялось личными свойствами двух губернаторов, известного Н. М. Баранова, управлявшего Архангельской губернией в течение нескольких первых лет царствования Александра III, и его заместителя, князя Голицына, управлявшего ею при мне.
Баранов, моряк, командир «Весты» во время турецкой войны 1877–1878 гг., прославился каким-то весьма сомнительным подвигом[280 - Пароход «Веста», построенный как торговое судно в 1858 г. и оснащенный в начале Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 5 мортирами, 3 орудиями и 4 скорострельными пушками, 11 июля 1877 г. выдержал неравный пятичасовой бой с неприятельским броненосным корветом, обратив его в бегство, за что командир фрегата, капитан-лейтенант Н. М. Баранов, удостоился ордена Св. Георгия 4?й степени и был произведен во флигель-адъютанты. Но поскольку в газете «Биржевые ведомости» (1878. № 195. 17 июля) появилась статья артиллериста «Весты» капитан-лейтенанта З. П. Рождественского, утверждавшего, что командир фрегата сильно приукрасил события (поскольку в течение пяти часов пытался уйти от погони турецкого корвета), Баранов настоял на проведении следствия и суда, окончившегося для него отставкой.], за который он должен был оставить флот; в 1881 г. был петербургским градоначальником и здесь прославился созданием курьезного представительного собрания, известного под именем «бараньего парламента»[281 - Назначенный после убийства Александра II столичным градоначальником, каковой пост занимал в марте – августе 1881 г., Н. М. Баранов создал при градоначальстве временный совет «для ограждения общественной безопасности» из 25 членов, избираемых выборными от населения Петербурга (домовладельцами, квартиросъемщиками, собственниками промышленных и торговых предприятий); голосование производилась по квартирам, куда полицейские сами приносили избирательные урны.]; в наказание за это был отправлен в ссылку архангельским губернатором. Через два года его прежние вины были прощены, и он был переведен в Нижний Новгород, где вновь прославился своим самодурством. Самодуром он был, конечно, и в Архангельске, но самодурство его было очень непоследовательное и не злобное; напротив, под некоторыми влияниями он иногда мог совершать очень хорошие поступки. И вот в хорошую минуту, действуя под влиянием одного чиновника своей канцелярии, бывшего политического ссыльного (помнится, его фамилия Лудмер; он был сотрудником «Юридического вестника» и «Русских ведомостей»), Баранов обратился в Петербург к высшему начальству с указанием на бедственное положение административных ссыльных и необходимость увеличить им казенное пособие.
Обращение его имело успех, и казенное пособие было поднято от какой-то очень низкой нормы до 12 рублей в месяц для привилегированных и 6 рублей в месяц для непривилегированных; сверх того раз в год выдавались «одежные» в количестве 22 рублей для привилегированных и не помню скольких для непривилегированных. На добровольно следующих за ссыльными жен тоже полагалось пособие, хотя в несколько меньшем размере. При этом привилегированность признавалась очень широко: не только по происхождению, но и по образованию, причем для нее считалось достаточным окончить 6 классов гимназии, как для льготы по воинской повинности[282 - Согласно Уставу о всесословной воинской повинности, принятому 1 января 1874 г., для лиц, окончивших курс шести классов гимназий или реальных училищ, устанавливался сокращенный срок службы: на действительной – полтора года, в запасе – 13 лет и 6 месяцев.]. Так как в мое время массовой ссылки рабочих еще не было, то привилегированными оказывались почти все: за мое время из трех десятков прошедших через Шенкурск политических ссыльных к непривилегированным принадлежали только трое или четверо.
В нашей ссыльной среде добровольно производилась уравнительная дележка казенного пособия, а затем все имевшие либо заработок, либо получку из дому должны были отдавать 15% в общую кассу; из этих получек за вычетом некоторых очень незначительных расходов на общественные потребности выдавалась известная сумма не имеющим заработка или дохода с воли. Такова была наша внутренняя конституция, выработанная на общих собраниях и действовавшая некоторое время; позднее она распалась вследствие внутренних раздоров. До этого распада низший доход ссыльного не спускался, сколько я помню, ниже 14 рублей на человека и, следовательно, 28 [рублей] на мужа и жену. При тех удивительных ценах, которые тогда господствовали в Шенкурске, этого было вполне достаточно, – конечно, для скромного существования.
Сносны были и духовные условия. Правда, ни одной общественной библиотеки в Шенкурске не было, но я привез в ссылку два чемодана книг и многократно выписывал из Петербурга новые их партии; была библиотечка у Никонова; были в небольшом количестве книги у многих из нас (у местных жителей их почти не было). Подбор имевшихся книг был довольно односторонен, по большей части – по юриспруденции и отчасти – по экономии. Кто стремился к систематическому чтению по собственной программе, тот не мог не чувствовать духовного голода (особенно если он был естественником). Но жаловаться на полное отсутствие книг все же не приходилось и заполнить время невольного безделья в ссылке разумным чтением было, во всяком случае, возможно. Главное, у нас были, и притом бесплатно вследствие любезности редакций, все лучшие журналы того времени и газета «Русские ведомости». Комплект этих журналов, с 1885 г., вместе с несколькими случайными книгами представлял нашу общественную библиотечку. Для получения этих журналов мы в конце каждого года обращались в редакции с коллективными просьбами о бесплатной их высылке нам и всегда получали благоприятный ответ.
Инициатором этих обращений был, впрочем, не политик, а один уголовный ссыльный по фамилии Виноградский, сосланный по судебному приговору на житье с ограничением в правах состояния за присвоение себе не принадлежащего ему графского титула, принятие другой фамилии («граф Марков») и ношение не принадлежащего ему ордена. Этот Виноградский был человеком с очень жульническими наклонностями, но вполне интеллигентный, очень неглупый и интересный собеседник. Читать он любил и читал много. Прибыв в Шенкурск, когда там не было ни одного политика, он обратился в главные редакции Петербурга и Москвы с просьбою высылать ему их издания как одинокому политическому ссыльному, живущему в некультурных условиях и не имеющему средств для выписки журналов. Таким образом, тюрьма и ссылка не излечили его от склонности к самозванству. Вначале оно увенчалось полным успехом, но точно так же, как и первое его самозванство, скоро было разоблачено. Когда в Шенкурск прибыли первые действительно политические ссыльные, то они, ничего не зная о выходке Виноградского, обратились в редакции с теми же просьбами, на этот раз – коллективными, и получили удивленные ответы: неужели на несколько ссыльных маленького городишки не хватает одного экземпляра их издания? Пришлось разъяснить редакциям недоразумение, Виноградский был ими лишен их изданий, и они отныне приходили на один из наших адресов.
Когда я прибыл в Шенкурск и узнал все это, то я высказал мысль, что хотя мы, обращаясь в редакции с просьбой о даровой высылке изданий, и не самозванствуем, как Виноградский, но все же злоупотребляем нашим званием политических ссыльных, так как мы не настолько бедны, как ссыльные Сибири или хотя бы соседней с нами Вологодской губернии, чтобы нуждаться в благотворительном получении журналов. Но со мной не согласились, и практика даровой подписки продолжалась.
Для культурного существования у нас случайно, особенно в первое время моего там пребывания, было чрезвычайно благоприятное обстоятельство: довольно высокая музыкальность. Один из нас, именно А. А. Никонов (впоследствии довольно известный адвокат, деятельный член кадетской партии), обладал превосходным баритоном, громадной музыкальной памятью и совершенно исключительной вокальной неутомимостью; он, несомненно, мог, если бы захотел, выделиться на музыкальном поприще и, может быть, напрасно пожертвовал им для юриспруденции. Когда мы собирались вместе, то он целыми часами пел нам романсы – особенно хорошо знал Чайковского – и арии из опер. И мы часто видели, как летом мимо открытых наших окон при пении Никонова начинали прогуливаться горожане и горожанки, причем в числе этих неприглашенных слушателей имелась вся местная аристократия: жандармский офицер, исправник, судья, с женами и домочадцами, и другие. Еще один наш товарищ, Бродский, обнаруживал хотя и не такой выдающийся, как у Никонова, но все же порядочный, достаточно приятный в небольшой компании голос, на этот раз тенор. Было и несколько недурных женских голосов, и, наконец, одна из дам недурно играла на гитаре, которую привезла с собою в ссылку.
Кроме местной аристократии, у наших музыкантов или по крайней мере у этой дамы была и еще одна категория неприглашенных слушателей. Когда она играла, то из щелей в большом числе вылезали мыши и садились неподалеку от нее; если она сидела посередине комнаты, то мыши рассаживались вокруг нее кружком, устремив на нее внимательные мордочки и радиусами вытянув свои хвосты. В это время их хоть руками бери, – но ни у кого из нас не хватало душевной сухости, чтобы пользоваться эстетическим чувством для охоты над нашими врагами, с которыми мы боролись иными, более общеупотребительными способами. Я не знаю, отмечена ли в научной литературе эта любовь мышей к музыке, не знаю также, направлена ли она только на гитару; насколько я мог заметить впоследствии, рояль мышей к себе не привлекает. Но знаю, что в драме Ибсена «Маленький Эйольф»[283 - Пьеса Г. Ибсена 1894 г., рус. перевод – СПб., [1895].] для удаления мышей из дома пользуются музыкой, – но не гитарой, а дудкой.
Весьма сносны были, особенно вначале, и полицейские условия жизни, и это – при мне – объяснялось, для всей Архангельской губернии, личными свойствами князя Голицына, который не желал делать карьеру на притеснении ссыльных, а специально для Шенкурска в первое время – также личными свойствами жандармского офицера Шафаловича и исправника Глебовского. Со сменою первого в начале 1889 г. и смертью второго в конце того же года дело несколько изменилось к худшему.
Шафалович был страшно ленив: работать он не любил, целыми ночами играл в карты, а половину дня спал и своим делом совершенно не интересовался. Со служебной точки зрения он должен был быть на самом дурном счету, но мы, судя его со своей точки зрения, были им чрезвычайно довольны. Он сам мне говорил:
– Вы ведь знаете, что я за человек. Выслеживать, подсматривать, копаться в грязи я не люблю. Живи и жить давай другим – вот мое правило. Ну, пальца в рот мне не клади. И если вы мне в бороду наплюете, – не прогневайтесь: не прощу.
И это была совершенная правда. Как бы он вел себя, если бы кто-нибудь действительно наплевал ему в бороду, не знаю; судя по физиономии, он действительно должен быть очень злым и мстительным, но, к счастью, никому из нас (и наших предшественников также) ни разу не случилось сделать этого, и потому, действительно, ничего дурного мы от него не видали. Наклонности создавать дела из пустяков у него не было. А повод к этому один раз был.
В одну летнюю ночь 1888 г. дом, в котором занимал квартиру Шафалович, сгорел; говорят, виновницей пожара была его жена, будто бы забывшая свечу в платяном шкафу; сам Шафалович и его жена выскочили в одном ночном белье; сгорело все дотла, и в течение нескольких недель Шафалович щеголял в мундире нижнего жандармского чина, снабдившего его им, к тому же совсем не подходившем его росту и фигуре. Через несколько дней из Архангельска был прислан другой жандармский офицер, Сомов (позднее заменивший у нас Шафаловича), с задачею выяснить, не политические ли подожгли Шафаловича. Но Шафалович, едва ему Сомов сказал это, с негодованием отверг его подозрение, действительно ни на чем не основанное. Конечно, об этом подозрении я знаю только от самого Шафоловича; возможно, что всю линию Сомова он просто выдумал, но, как бы то ни было, глупого дела против нас не возбудил. Не много, конечно, но бывало и хуже.
От исправника Глебовского придирок мы тоже не видели.
Однажды я явился к нему с просьбою отпустить почти всю нашу колонию на прогулку за город с ночевкой в близлежащей деревне. Вообще в обычных прогулках за город нас не стесняли, но тут шло дело о прогулке с ночевкой в деревне, и притом почти в полном составе. На этот раз Глебовский категорически отказал.
– Нет, этого разрешить никак не могу, – говорил он.
А потом, наклонившись к самому моему уху, прибавил шепотом:
– Вы поезжайте, но… только я не разрешал.
И мы поехали, и ничего из этого не воспоследовало.
Нас не обязывали являться в определенные сроки в полицию для регистрации, как это делалось во многих других ссыльных местах, всегда вызывая очень болезненные конфликты. Никто не мешал нам селиться там, где мы хотели (конечно, в пределах города), и притом отдельно или целыми группами; все зависело от наличности свободных квартир в городе. Никто не мешал столоваться самостоятельно или сообща с другими.
Переписка наша не была под официальным контролем и не подвергалась даже тайному вскрытию: мы часто прибегали на почту тотчас после прихода почты (она приходила два раза в неделю с юга, причем с юга шла московская и петербургская, и два раза в неделю с севера, то есть из Архангельска) и получали письма немедленно по ее распаковке; у властей не было физической возможности вскрытия наших писем так, чтобы мы этого не знали. Если письма к нам и от нас вскрывались, то разве только в месте отправления первых и в месте назначения последних; но никаких признаков такого вскрытия никто из нас никогда не заметил. И совершенно естественно, что мы не стесняли себя в нашей переписке и никогда не видели дурных последствий от этого.
Мы могли сколько угодно посещать друг друга и горожан, и у нас нередко происходили довольно многолюдные собрания (своих товарищей, но с прибавлением нескольких горожан), и на этих собраниях шла совершенно свободная беседа, пели и играли на гитаре (к сожалению, также – и очень усиленно – в карты), иногда читались рефераты. Конечно, это не были «публичные лекции» или «публичные сценические представления» в смысле закона, ибо доступ на них был только по особому приглашению и о входной плате не было и речи, но при неограниченной власти администрации раздуть их в таковые было бы вполне возможно. А однажды мы (говорю «мы», хотя лично я как раз в этом не принял участия, но только вследствие признания своей неспособности и отсутствия охоты) устроили даже домашний спектакль. Кто-то из горожан, местный сравнительно богатый лавочник, дал свою квартиру, ссыльные выбрали пьесу, распределили роли, устроили занавес и разыграли ее, – конечно, без декораций.
Пьеса была «Бабье дело», не помню, чья она[284 - См.: К[ана]ев А. Н. Бабье дело: шутка в 2?х д. М., 1882.] и откуда мы ее выкопали. Содержание таково: муж, занятый на службе, все время говорит о своих трудах, а когда жена, занятая хозяйством, позволяет себе устать, то презрительно фыркает: устала? от чего устала? какое твое дело? бабье дело! Жена настаивает на том, что ее бабье дело нисколько не легче мужского. Муж соглашается на опытную проверку их спора. Жена находит себе службу и прекрасно с ней справляется, а муж берет «Подарок молодым хозяйкам»[285 - Имеется в виду поваренная книга Е. И. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» (Курск, 1861), выдержавшая до революции 29 изданий.] и начинает по нему хозяйничать; разумеется, он на каждом шагу попадает впросак, и жена в конце концов торжествует.
На спектакль был приглашен весь город; не было только жандармского офицера, который находился в отпуску и в Шенкурск не вернулся, и не было исправника, несмотря на приглашение. Но другие чиновники присутствовали с женами; присутствовало также купечество. Духовенство было приглашено, но, конечно, не явилось. Пьеса была разыграна для любителей весьма недурно: особенно хорош был Гильгенберг в роли попадающего впросак мужа. Пьеса – вполне по уровню понимания местного общества, и публика весело смеялась, а дамы были прямо в восторге. Мужчины были несколько недовольны, что мы подуськиваем их жен к домашнему бунту. Полиция никакой придирки не сделала. На беду, через месяц или полтора в Шенкурск явился новоназначенный жандарм, который, конечно, услышал о спектакле и сейчас же сделал донос в Архангельск; оттуда прислали запрос исправнику. Не заинтересованный в раздувании дела, исправник представил его так, как оно и было, то есть что спектакль не был публичным, что публика присутствовала только особо приглашенная, – и дело кончилось ничем.
Бывали и еще более яркие случаи попустительства. Педагогическая деятельность ссыльным прямо запрещена, безразлично, платная ли она или бесплатная, и вообще очень строго преследуется. И вот однажды, в темный осенний вечер, ко мне пришел местный дьякон и сообщил, что у него сын, мальчик лет 13, ученик местного духовного училища, по всем предметам идет ничего себе, но вот по арифметике постоянно получает единицы; из?за арифметики сидит второй год в одном классе и очень боится, что его выключат. Так не позанимаюсь ли я с ним?
Дьякон, конечно, знал о моем положении и недаром выбирал темный вечер. И даже счел нужным прибавить просьбу:
– Только вы, пожалуйста, никому не говорите об этом, а то дойдет до училища, будут неприятности.
Конечно, и для меня могли быть неприятности, – об этом он, разумеется, не думал. Я охотно согласился, и никаких неприятностей ни для мальчика, ни для меня не вышло; правда, занятия продолжались недолго, всего с месяц (хотя каждый день)[286 - Уроки продолжались недолго, потому что я сам отказался от них, а сделал это потому, что мальчик оказался совершенно невероятным тупицей. Ему задавали на дом задачи, как четыре брата делят наследство в 23 592 р., да так, чтобы первому и второму брату вместе досталось столько, сколько одному третьему, а второму и третьему вместе – в два раза больше, чем четвертому, и т. д. А он только после продолжительных выкладок на бумаге мог ответить, и то часто ошибочно, сколько стоит 5 фунтов хлеба по 3 копейки фунт, и никак не мог понять разницы между «на сколько-нибудь больше» или «во сколько-нибудь раз больше». Задачи, задаваемые ему в классе, были совершенно так же ему недоступны, как дифференциальное исчисление, и объяснить ему их так, чтобы он понял и усвоил, не было никакой возможности почти. Я просто решал их ему, а затем объяснял четыре действия над числами до 20. Бился, бился и устал, отказался. Однажды я его спросил:– Скажи, отчего ты такой простой вещи сообразить не можешь? Ведь другие мальчики куда меньше тебя, а понимают.– А тятька меня – усе по голове, усе по голове. Чуть не по нем, сейчас – по голове.Я уже хотел отказаться от уроков, но этот ответ привел меня в ужас, и я взял себя в руки. В конце концов, однако, я не выдержал, призвал его отца и заявил об отказе. Отец вообразил, что мне нужна плата, но я сказал, что я не могу заниматься ни за какую плату, так как не вижу никакой пользы от моих уроков.– Нет, он теперь хорошие отметки приносит.(Значит, ему ставили отметки за решенную мною задачу, не проверяя, сам ли он решил! Он, несомненно, не мог бы объяснить ни одного действия.)– Скажите мне, почему он у вас такой неспособный? – спросил я. – Не бьете ли вы его? Может быть, случается бить по голове, – вы знаете, это ведь очень вредно. Всего хуже по голове.– Нет, что вы, как можно. Никогда пальцем не трогаю. Заругаться, правда, на него случается, а бить, что вы, как можно!][287 - В рукописи далее зачеркнуто: «Жалко мне было и отца, и сына, но ничего поделать я не мог».], и мальчик всегда приходил вечером. По-видимому, факт этих уроков остался властям неизвестным, но только благодаря отсутствию строгого надзора, – при таком надзоре это было бы невозможно.
Но вот случай, который вряд ли мог остаться неизвестным властям.
Однажды один мальчик, знавший, что у меня имеется небольшая библиотечка, обратился ко мне с просьбой: а нет ли у вас занятной книжки почитать? Таковая нашлась, и я ему дал. Через несколько дней он вернул ее и просил дать другую, а сверх того привел приятеля, просившего о том же. Подходящих книг в достаточном количестве у меня, конечно, не было, но я выписал их себе из Петербурга и обзавелся таким образом специально подобранной для такого рода читателей библиотечкой, в которую входили народные рассказы Толстого[288 - Имеются в виду «Народные рассказы» Л. Н. Толстого («Чем люди живы?», «Два брата и золото», «Три старца», «Свечка» и др.), написанные в 1881–1886 гг.], сказки Пушкина, некоторые произведения Гоголя, «Конек-Горбунок» Ершова, популярные книжки по истории и естествознанию и другие, причем подбор был произведен известной деятельницей по народному просвещению А. М. Калмыковой (умерла около 1925 г.[289 - Неточность: А. М. Калмыкова скончалась 1 апреля 1926 г.]) и, следовательно, не без некоторой тенденции.
Круг моих читателей тотчас же расширился и достиг полутора или двух десятков; по большей части это были ученики городской школы и местного четырехклассного духовного училища; девочек не было ни одной. Этот круг расширился бы, вероятно, еще значительнее, если бы я менял книги без всяких разговоров; но я всегда спрашивал, понравилась ли книжка и, не довольствуясь простым утвердительным ответом, обыкновенно производил легкий экзамен. Я не отказывал в новой книжке даже и в тех случаях, когда мой читатель на таком экзамене не мог связать осмысленно двух фраз[290 - Зачеркнуто: «кроме шаблонного: “Да, понравилось”».]. Тем не менее этот экзамен многим не нравился и заставлял их прекратить хождение ко мне. Как бы то ни было, у меня постоянно бывали мальчишки из нижнего слоя местного населения, и я с ними вел беседы о Царе Салтане, Мертвой Царевне, об Аленьком Цветке, о том, как Бог правду видит, да не скоро скажет[291 - Имеется в виду рассказ Л. Н. Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет», впервые напечатанный в журнале «Беседа» (1872. № 3).], о Петре Великом или о затмениях и землетрясениях. Беседы были самые невинные; незаконного я ничего не делал, ибо моя библиотечка не могла назваться публичной или общественной и запретных книг в ней не было, но тем не менее самый факт таких бесед несомненно противоречил если не букве, то духу, которым проникнуто положение о полицейском надзоре. И тем не менее эти беседы благополучно продолжались до моего отъезда из Шенкурска, даже после смены у нас начальства.
Любопытнее всего, что инициатором обращений ко мне за книгами был сын одного из жандармских нижних чинов, очень смышленый и живой мальчик. У этого жандарма был собственный двухэтажный дом; в нижнем жил он сам, а верхний[292 - Зачеркнуто: «состоявший из трех комнат и кухни, сдавал мне с женой за 6 рублей в месяц».] сдавал мне. Несомненно, этот жандарм по обязанностям службы должен был наблюдать за мною, и он не мог не знать о совершающихся ко мне хождениях, инициатива которых к тому же принадлежала его сыну. Доходило ли это до более высокого начальства? Наверное не знаю. Во всяком случае, я не получил за это никакой неприятности, и, насколько мне известно, никто из моих читателей тоже.
Иногда ко мне приходили местные шенкурские обыватели или крестьяне из недальних деревень за юридическими советами, и я давал их и писал им прошения. Это бывало не часто, но бывало. И тоже ни разу не вызвало неприятности. Крестьяне за эти прошения всегда предлагали какую-нибудь вещную мзду, – я, конечно, всегда отказывался. Чаще, чем крестьяне и местные обыватели, за такого рода советами и прошениями обращались местные уголовные ссыльные. Это все были люди совершенно не интеллигентные или полуинтеллигентные; единственное исключение составлял Виноградский, о котором я уже упоминал. Уголовные ссыльные беспрестанно совершали всякие дебоши и вообще были элементом крайне вредным. Но при этом это были люди чрезвычайно щепетильные в том, что касается их чести. Покажет один из них своему товарищу кукиш с соответственным словесным прибавлением, обругает его «подлецом» или «мерзавцем» или даст пощечину, – и сейчас готова жалоба в суд за оскорбление действием, словом или символом. Такими делами был завален местный суд, особенно с 1889 г., когда на Архангельскую губернию было распространено действие судебных уставов с некоторыми особенностями (без присяжных и др.), и в Шенкурске взамен прежнего дореформенного уездного суда, вершившего дела на основании письменных материалов и непублично, появились мировой судья и устное и публичное разбирательство дела. И эти уголовные ссыльные нередко обращались ко мне за юридическими советами. Не очень редки были случаи, что только я отпущу обиженного, как ко мне заявляется обидчик, или наоборот.
И эта моя деятельность не встречала никаких препятствий со стороны начальства.
Как я уже сказал, наша идиллия объяснялась, по крайней мере отчасти, личными свойствами жандарма Шафаловича и исправника Глебовского. В начале 1889 г. Шафалович был заменен Сомовым, который все время выискивал, как бы нагадить ссыльным, и, в противоположность очень вежливому Шафаловичу, отличался большой грубостью обращения. У нас было с ним несколько второстепенных по значению конфликтов, но, к счастью, из Архангельска он не получал поощрения; в конце концов он обломался, и трагического ничего не произошло.
Неприятен был такой эпизод. На одной свадьбе, произошедшей в нашей среде, шафером был молодой студент-медик, не ссыльный, но местный уроженец, сын лавочницы, на каникулах гостивший у матери. И вот по требованию Сомова его призвал к себе местный воинский начальник и в качестве его начальства (наш медик, студент Военно-медицинской академии, был ему подчинен) сделал строжайший разнос с угрозой всякими карами за близость с нами. Студент не сумел отстоять себя, испугался и отошел от нас.
Глебовский умер поздней осенью 1889 г. Месяца через два, около Нового года, на его место явился новый исправник – Соломко. Он вызвал нас всех в полицейское управление и обратился к нам с грозной речью:
– Здесь до меня была распущенность! Вы ходили по городу, вы шлялись за город. Я этого не позволяю! Вы – под надзором в городе, и за город – ни ногой! Чтобы не сметь!
Прокричав это, не слушая того, что мы начали ему возражать, он, как бомба, выскочил в другую комнату.
– Ну, господа, сейчас все за город! – прокричал один из нас так, что это слышали все полицейские, находившиеся в комнате, а вероятно, слышал в другой комнате и Соломко. Во всяком случае, он это узнал.
И мы двинулись толпой. Партий, вражды между нами больше не было, двинулись все. Однако протест удался не вполне. Была страшная вьюга, мороз – градусов в 20, и я первый заявил, что готов протестовать против исправника, но не против вьюги; меня начали стыдить, взывая к моим цивическим[293 - гражданским (устар., от лат. civis – гражданин).] чувствам, но ко мне сразу присоединилась женская половина колонии (хотя вообще к протестам она была склонна более мужской), и минут через двадцать прогулки мы повернули назад. Все-таки мы были за городской чертой и ждали последствий. Но их не было.
В следующие месяцы мы вели себя по-прежнему. Продолжались хождения ко мне мальчиков за книгами, мы продолжали прогуливаться за городом. Последствий не было. Прошло два месяца.
На Масленицу большая часть ссыльной колонии наняла две тройки и поехала кататься за город; не приняли участие те, кто был в ссоре с основным зерном колонии; не принял участие и я, потому что получил уже разрешение выехать через месяц в Петербург для сдачи экзаменов и усиленно занимался. Жена моя поехала[294 - Имеется в виду будущая жена В. В. Водовозова Вера Петровна Шейдакова.]. Зато присоединился к колонии ссыльный духобор[295 - Духоборы (духоборцы) – одна из групп «духовных христиан», приверженцы которой, считая, что Бог – в душе человека, отвергали всякую обрядность.], известный Веригин, который вообще не считал себя политическим и держался довольно далеко от нас.
Так как за два месяца мы никаких особенных мероприятий со стороны исправника не видели, то уже не думали о его угрозе и не смотрели на поездку как на демонстрацию. Это была прогулка, и только. Проездивши часов 5 или 6, покатавшись на салазках с горы, наши, разрумяненные, спокойные и очень довольные, вернулись по домам.
Недели через две всем отлучавшимся – повестка с вызовом к следователю. Там допрос – зачем ездили, куда ездили и прочее. Но все это следователь прекрасно знал и без допроса. Через несколько месяцев – разбирательство у мирового судьи за «самовольное оставление места, назначенного для жительства по распоряжению власти»[296 - В протоколе, составленном 12 февраля 1890 г. полицейским надзирателем Шенкурска Ф. А. Черноруцким, указывалось, что политические ссыльные Вера Шейдакова, Матвей Винокуров, Иван Гильгенберг, Людмила Ермилина, Николай Горев, Казимир Варпеховский, Александр Машицкий, Виктор Курнатовский, Франц Баньковский, Анна Захарова (будущая жена Машицкого), Аделаида Пумпянская и Клеопатра Чеботарева (по мужу Гриневицкая) самовольно отбыли на лошадях в 2 часа пополудни 11 февраля за 12 верст от города в Шелашское общество Усть-Паденской волости, откуда вернулись около 8 часов вечера. Акт дознания о самовольной отлучке был передан на распоряжение мировому судье 1?го участка по Шенкурскому уезду Ф. Ф. Юкову, но к судебному заседанию 3 мая выяснилось, что Варпеховского и Гриневицкой уже нет в живых, а Винокуров и Ермилина выбыли из Шенкурска, из?за чего, для выяснения места их нахождения, разбирательство отложили. Тем не менее 14 мая мировой судья приговорил Ф. И. Баньковского, Н. И. Горева, И. И. Гильгенберга и В. П. Шейдакову к аресту сроком на 3 недели каждого (ее, как лицо «привилегированного сословия», дочь купца, – при тюрьме, остальных – при полиции), а В. К. Курнатовского, А. А. Машицкого, А. М. Пумпянскую и А. С. Захарову – по совокупности с другим их приговором, от 5 мая, по такому же проступку, – сроком на 1 месяц каждого (первых двух, как дворян, – при тюрьме, остальных – при полиции) (см.: ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 118. Л. 1, 9–13).]. Таких дел в практике мировых судов различных городов со ссыльными бывало много, но, насколько я знаю, только в случае отлучки с ночевкой; ввиду несомненности формальной вины мировые судьи обыкновенно признавали факт правонарушения и приговаривали, по 63?й статье Мирового устава[297 - Имеется в виду Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (четвертая часть Судебного устава, принятого 20 ноября 1864 г.). Статья 63 главы 5 «О нарушениях Устава о паспортах» гласила: «За самовольное оставление места, назначенного для жительства по законному распоряжению надлежащей судебной или правительственной власти, а равно за самовольное возвращение в места, из коих виновные высланы, они подвергаются аресту не свыше трех месяцев или денежному взысканию не свыше трехсот рублей».], к 1 рублю или к 3 рублям штрафа. Но в Архангельской губернии только что (в 1889 г.) введенные мировые судьи были особенные: по назначению, без права несменяемости, без мировых съездов, с апелляцией в Архангельскую палату уголовного и гражданского суда и без права кассации.
При разбирательстве наши подсудимые защищались и произносили более или менее пылкие речи. Хотя меня и не было в это время в Шенкурске, но проект некоторых речей был написан мною, и защита в общем держалась в выработанных мною рамках. То есть подсудимые доказывали, что 6-часовая прогулка не может быть квалифицирована как «самовольное оставление места жительства», для которого необходимо нарушение паспортного устава (самая статья 63 находится в главе о нарушении паспортного устава). Само собою разумеется, что эта аргументация не произвела впечатления на судью (несмотря на точные ссылки на кассационные решения Сената), и подсудимые были признаны виновными; зная судью, этого мы и ожидали, но приговора к трем неделям ареста не ожидал решительно никто.
Дело большинством подсудимых было перенесено в архангельскую палату, но некоторые, считая апелляцию практически бесполезной, а вместе с тем опасаясь, что они окажутся в состоянии подсудности по окончании срока ссылки на воле, этого не сделали. В апелляционной жалобе, написанной мною, мы стояли исключительно на принципиальной почве, настаивая на своем различении прогулки и отлучки, и не прибавили второй части, в которой следовало сказать, что если даже признать инкриминируемое деяние за противозаконную отлучку, то все-таки трехнедельный арест является карой, совершенно не соответствующей обстоятельствам дела. Я указывал на желательность такой прибавки, но ни один из подсудимых со мной не согласился. Палата воспользовалась этим и, отвергнув наши соображения в принципе, прибавила: ввиду отсутствия в апелляционном отзыве указания на меру наказания, палата оставила его без рассмотрения. Приговор, таким образом, был утвержден[298 - Хотя ссыльные подали апелляционную жалобу, доказывая, что имели право без предварительного разрешения совершать прогулки за черту города, которые не воспрещаются ни Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, ни Положением о полицейском надзоре, ни взятыми от них подписками, 7 сентября 1890 г. Архангельская палата уголовного и гражданского суда утвердила вынесенный приговор. Посчитав, что «самовольные отлучки, хотя непродолжительные и неотдаленные, но вне того города, где поименованные лица обязаны были находиться налицо под полицейским присмотром, равносильны, по смыслу Положения о надзоре, отлучкам, караемым по 63 ст. Устава о наказаниях», палата оставила жалобу осужденных без последствий (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2003), и их дальнейшие попытки оспорить приговор в вышестоящих судебных инстанциях оказались бесплодны.]. К сожалению, в палате наших интересов не представлял никто, и она решила дело исключительно на основании письменного отзыва.
Приговор, явно несправедливый, вступил в силу. Сенат его, наверное, отменил бы как явно несправедливый и даже не соответствующий установившейся практике, но, как я уже сказал, на архангельский суд кассация не допускалась. Быстротой наша архангельская юстиция не блистала, и если лица, не подававшие апелляции, отбывали наказание еще в Шенкурске через несколько месяцев после преступления, то лица, ее подававшие, отсидели свои три недели более чем через два года. Моя жена сидела, уже будучи на свободе, в Петербурге, в январе 1893 г., а преступление совершено было в феврале 1890 г.! Об этом деле я в свое время напечатал небольшую статью в «Юридическом вестнике» (за 1892 г.)[299 - См.: [Водовозов В.] Дело о самовольной отлучке // Юридический вестник. 1892. Т. 10. Кн. 2. С. 262–268.], выходившем тогда под редакцией С. А. Муромцева, а за ней там же – большую статью о дореформенной юстиции[300 - Водовозов В. Дореформенная юстиция: Из недавнего прошлого юстиции в Архангельской губернии // Там же. 1892. Т. 11. Кн. 1/2. С. 65–99.] вообще[301 - Зачеркнуто: «начатую мною еще в Шенкурске, но законченную в Петербурге».].
Одним из наиболее тяжелых условий шенкурской жизни было положение медицинской помощи. В этом отношении Шенкурск был очень обездолен. В соседнем Вельском уезде Вологодской (земской[302 - В рамках земской реформы 1864 г. в 34 губерниях империи, в том числе Вологодской в 1870 г., были введены выборные распорядительные и исполнительные органы местного всесословного самоуправления (земские собрания, земские управы).]) губернии было целых три врача: земский, военный и судебный, и первый из них, Леонтьевский, был исключительно талантливым врачом и очень хорошим человеком; он знал и зубоврачебное дело и недурно рвал и даже пломбировал зубы. В Шенкурском уезде на гораздо более значительную территорию и на население в 80 000 человек приходился всего один казенный врач, который соединял в своем лице и городского, и уездного, и судебно-полицейского врача. Хотя во время набора из Архангельска присылался другой врач, но наш шенкурский должен был вместе с ним свидетельствовать рекрутов и в эти дни не мог ходить к больным. Когда где-нибудь в другом конце уезда обнаруживалось мертвое тело, он должен был мчаться туда за 100, 140 верст, иногда по непроходимым дорогам, на вскрытие, оставляя больных без помощи. Больница была, но очень жалкая; при ней – один вечно пьяный фельдшер. К тому же порядочные врачи шли в Шенкурск крайне неохотно. Когда я прибыл в Шенкурск, врачом там был старик лет за семьдесят, про которого говорили, и, кажется, с полным основанием, что по окончании медицинского курса лет пятьдесят тому назад он не прочел ни одной медицинской книги, ни одного медицинского журнала, а с другими врачами видался только во время военного набора и потом, в те же дни, вечером за карточным столом. Во всяком случае, о его медицинских познаниях рассказывали страшные вещи. К счастью, он месяца через два вышел в отставку.
К счастью, говорю я; однако после него месяца три-четыре, если не больше, Шенкурск оставался вовсе без врача. Потом прибыл некто Бурцев, врач недурной, но месяцев через девять он перевелся куда-то в другое место. Опять месяца два Шенкурск оставался без врача (кстати: что делали в такие междуцарствия мертвые тела, нуждавшиеся во вскрытии? – не знаю). В конце 1889 г. к нам прибыл молодой, только что окончивший курс врач Кашкадамов и засел у нас прочно, на многие годы. Он сразу окунулся в тину провинциальной жизни. Вечера и ночи проводил за карточным столом, преимущественно у жандарма и исправника, ездил на вскрытия, куда его тащила полиция, ходил к больным более состоятельным, где рассчитывал получить гонорар, и вовсе не ходил или ходил крайне неохотно туда, где на гонорар рассчитывать было нельзя, хотя в качестве казенного врача обязан был всех лечить бесплатно. От лечения зубов категорически отказывался и даже рвал их очень неохотно; обязанность зубного врача исполняла в Шенкурске одна женщина, уголовная ссыльная, у которой были щипцы и которая уверяла, что кончила где-то курс зубоврачебного искусства; рвала зубы она сносно, – я это испытал на себе, хотя усиленно говорили, что иногда рвала по ошибке здоровые зубы вместо больных, – но лечить их не могла.
Как врач Кашкадамов был лучше первого врача хотя бы в том отношении, что выписывал газету «Врач» (лучшую в то время медицинскую газету, выходившую в Петербурге еженедельно под редакцией известного проф. Манассеина), имел несколько медицинских книг и, по-видимому, в них иногда заглядывал. Но медицинских знаний у него все же было мало, и он делал грубейшие ошибки. Все общество, ссыльное и не ссыльное, кроме исправника и жандарма, его постоянных партнеров за картами и его больших друзей (это были уже новые исправник и жандарм, Соломко и Сомов), относились к нему очень отрицательно[303 - И. И. Гильгенберг в письме В. В. Водовозову называет врача «Кошкодраловым» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2120. Л. 1).]. В 1891 г., в последний период моего шенкурского пребывания, я начал собирать о нем материалы и собрал довольно большое количество фактов, которые и изложил в длинной и обстоятельной корреспонденции. Направил я ее в газету «Врач» и просил напечатать с моей подписью. Корреспонденция заинтересовала Манассеина, но вместе с тем и немного пугала. Он, как я потом узнал, наводил в Петербурге справки о моей личности, желая выяснить, заслуживаю ли я доверия, и, получив благоприятные обо мне сведения и довольно значительно сократив и смягчив корреспонденцию[304 - Ссылаясь на свою корреспонденцию «Из Шенкурска (Архангельской губ.)», напечатанную без подписи автора в 1891 г. в «Неделе» (№ 26), в которой указывалось, что весь уезд обслуживает лишь одна больница на 24 места, за содержание в которой взимается 9 рублей в месяц, каковым считают даже несколько дней, проведенных в ней, В. В. Водовозов негодовал, что местный врач В. П. Кашкадамов «не только не принимает на дому больных из простого народа, но даже в больнице принимает их крайне неохотно, почти никогда не производит освидетельствования, а обыкновенно довольствуется только несколькими вопросами и на основании ответов на них прописывает лекарства; даже обходы больных, лежащих в больнице, он делает крайне редко…» Приводились конкретные примеры «халатного отношения» к пациентам, но редакция газеты убрала из публикации упоминание о «грубейших ошибках» врача, который «смешал брюшной тиф с воспалением мозга, не сумел распознать причины болезни человека, отравившегося фосфорными спичками, лечил ушиб лавровишневыми каплями, ошибался в распознавании сифилиса», а также «отказывается от всех мало-мальски серьезных хирургических операций» (Водовозов. Письмо в редакцию из Шенкурска (Архангельской губернии) // Врач. 1891. № 52).], напечатал ее, снабдив примечанием, что все сообщенные в корреспонденции сведения оставляет на моей ответственности. Несмотря на смягчения, корреспонденция все же вышла очень сердитой. К сожалению, она появилась в свет уже после того, как я окончательно уехал из Шенкурска[305 - В рукописи далее зачеркнуто: «и я не видел того впечатления, которое она произвела, но имею о нем некоторые сведения».].
Я просил Манассеина напечатать мне 100 оттисков моей корреспонденции, и Манассеин это исполнил; напечатаны они были в форме листка небольшого формата в 4 страницы[306 - См.: Письмо в редакцию из Шенкурска (Архангельской губернии). Из «Врача» № 52-го. Дозволено цензурою. С.-Петербург, 17 января 1892 г. Типогр. Я. Трея. С. 1–3.]. Оттиски я разослал в открытых бандеролях в Шенкурск на имя ссыльных, чиновников, купцов и других лиц и получил несколько писем в ответ. Из них я узнал, что Кашкадамов, получив номер «Врача», никому его не показал и о появлении моей корреспонденции никто до получения оттисков ничего не знал. Оттиски были получены в день, когда большая часть местного чиновничества собралась на загородный пикник. На прогулке был и Кашкадамов, – и был своего рода героем торжества; главной темой всех разговоров была корреспонденция. Кашкадамов страшно злился и говорил, что он уже написал возражение мне, и возражение такое, что мне не поздоровится.
Его возражение действительно появилось во «Враче». Начиналось оно удивлением. Он, Кашкадамов, удивлялся, как могла редакция серьезного медицинского журнала поместить статью политического ссыльного, тогда как она должна бы знать, что политические ссыльные – это люди, готовые на все, чтобы только очернить администрацию. К этим словам, не к ответу в целом, а именно к этим словам, редакция сделала примечание в таком роде: помещаем ответ г. Кашкадамова, следуя принципу audiatur et altera pars[307 - следует выслушать и другую сторону (лат.).], хотя думаем, что для чести автора лучше было бы некоторых мест его ответа не помещать; к тому же мы думаем, что врач должен уметь возбуждать к себе не злобу, а любовь.
Это примечание давало мне редкое торжество, да, впрочем, и весь ответ Кашкадамова тоже. Хотя у меня нет под руками ни моей корреспонденции, ни ответа Кашкадамова и достать их в Праге, где я пишу свои воспоминания, мне негде, но я безусловно ручаюсь за совершенную точность передачи текста этого примечания, – слишком оно мне понравилось, да и впоследствии мне не раз случалось перечитывать его[308 - В примечании редакции говорилось: «Ради возможно широкого применения правила “audiatur et altera pars” мы печатаем письмо г. Кашкадамова без малейших изменений, как он сам того желает, хотя в его собственных интересах было бы лучше не печатать некоторых мест этого письма. В частности, все рассуждения о политических ссыльных никакого отношения к фактам, приводимым г. Водовозовым, не имеют; это во-первых, а во-вторых, прежде чем напечатать письмо г. Водовозова, мы из удостоверений лиц, лично нам известных и заслуживающих безусловного доверия, убедились, что г. Водовозов не только сведущий и почтенный юрист, но и человек, не способный сознательно исказить истину». Упоминая о «рассуждениях» В. П. Кашкадамова, редакция имела в виду следующую его сентенцию: «Надо жить в ссыльном городе, чтобы знать, что это за люди и как они стараются очернять имя лиц, составляющих местную администрацию. Ввиду этого я, как находящийся на службе в ссыльном городе и знакомый с образом их жизни и с их умственным развитием, не считаю нужным отвечать лично г. Водовозову, а предназначаю свое возражение для товарищей врачей, прочитавших эту корреспонденцию и, пожалуй, поверивших ей». Считая, что обвинения его в «халатном отношении» к больным «голословны» и «даже нелепы», ибо «юристу, незнакомому с медициной, весьма многое может казаться странным», Кашкадамов повторял, что «ссыльные под влиянием ненависти, питаемой ими к местным служащим, считают своею обязанностью выразить ее в чем бы то ни было». Но в примечании редакции указывалось: «Нам кажется, что врач, как естественный представитель человеколюбия, всегда и всюду может и должен вселять к себе не ненависть, а любовь» (Кашкадамов, Шенкурский уездный врач. Письмо в редакцию. 16 января 1892 г. // Врач. 1892. № 7. С. 167–169).].
На указание, что он ходит только к богатым больным, Кашкадамов возражал, что богатых людей в Шенкурске нет; есть только чиновники, получающие жалованье, и мелочные лавочники, которые богатыми считаться не могут. На сообщение, что однажды одного заболевшего сифилисом он выписал из больницы через две недели как «радикально излеченного», он, признавая факт, возражал, что в литературе есть указания на такое быстрое излечение сифилиса (врачи, с которыми мне приходилось говорить об этом, смеялись над этим как над непроходимой глупостью), и т. д. Вообще, когда я показывал его ответ знакомым врачам, то они в один голос говорили, что лучшего подтверждения корреспонденции нельзя было бы и пожелать.
И, однако, через много лет после этого Кашкадамов оказался в Петербурге, в печати появлялись кое-какие его работы, между прочим – о чуме[309 - См. брошюры и оттиски статей В. П. Кашкадамова: Чума в Индии за 1896–1898 гг. СПб., 1898; Отчет о командировке в Индию с 20 февраля 1899 года по 17 июля 1900 года. СПб., 1901. (Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины); О чуме согласно новейшим данным. СПб., 1901; Краткий очерк индусской медицины. СПб., 1902. (Больничная газета Боткина); Предупреждение и лечение чумы. СПб., 1902. (Русский врач. № 3); О чуме и мерах личного предохранения от нее. СПб., 1911, и др.], которую он где-то наблюдал, и в печати же я встречал его имя как врача не без заслуг. Люди, очевидно, меняются. Тем не менее я своей тогдашней корреспонденции ошибкой признать не могу.
Глава IV. Ссылка (продолжение). Состав политической ссылки в Шенкурске. – Внутренняя жизнь ссыльной колонии. – Знакомства с горожанами
Когда я прибыл в Шенкурск, я застал там одну ссыльную женщину, бывшую замужем тоже за шенкурским ссыльным, и семь ссыльных мужчин, из которых четверо были с добровольно последовавшими за ними в ссылку женами, а один (Никонов) – на придачу еще с грудным ребенком. Все они, за исключением Никонова, приходили в ссылку, изведав ужасы этапного пути, – ужас гораздо худший, чем сама ссылка. Никонов, а затем я были в Шенкурске первыми, которым было разрешено ехать в ссылку на собственный счет, а за нами этапные чередовались с едущими на собственный счет. С Шейдаковой и мной число ссыльных возросло до 10, а всех взрослых в колонии— до 14. Некоторые прибыли в ссылку месяца за 3–4 до меня, самые давние старожилы насчитывали 2?–3 года, и они были пионерами, некоторое время остававшимися в Шенкурске в одиночестве.
Напротив, раньше, в 70?е годы, Шенкурск был переполнен политическими, – одно время их насчитывалось чуть ли не до полусотни, если не больше. Из лиц, более или менее известных в литературе, в том числе были Н. М. Ядринцев, Шашков, П. Ефименко и другие. Постепенно, с конца 70?х годов, ссыльные вследствие окончания срока или амнистии начали разъезжаться, а новых не присылали, – не потому, конечно, чтобы в России были прекращены политические гонения, а потому, что ссыльных начали направлять в другие места, в том числе и в другие города Архангельской губернии. В течение 3–4 лет Шенкурск как ссыльный центр пустовал. Затем, начиная с 1885 г., он вновь наполняется и число ссыльных начинает быстро расти.
За мной, всего недели через 3–4, прибыл по этапу Гильгенберг (о котором я уже упоминал как о своем соседе по тюремной камере), за ним другие. Однако рядом с приливом новых был и отлив старых. Еще до моего прибытия в Шенкурск из него уехал Панкратов, один из старожилов нашей ссылки (с 1885 г.), подав на высочайшее имя прошение о помиловании. Через несколько месяцев после моего прибытия Никонов по хлопотам родных (его отец – адмирал или вице-адмирал[310 - Вице-адмирал А. И. Никонов, тогда – член Главного военно-морского суда, был назначен его председателем и произведен в адмиралы в 1891 г.]) был переведен куда-то на юг; за ним другие кончали срок ссылки, умирали или переводились в другие места. Сперва прилив превышал отлив, и в 1890 г. общая численность нашей колонии, считая с «добровольными» женами, достигала 20 или 21, но с 1890 г. баланс прилива и отлива стал отрицательным, и к середине 90?х годов (уже после моего отъезда) Шенкурск вновь освободился от ссыльных, чтоб вновь наполниться ими в конце 90?х годов.
В этом чередовании была известная система: Департамент полиции, от которого de facto зависело направление ссыльного потока, не хотел, чтоб «политики» создавали колонии с преемственной прочной организацией и с прочными традициями. Мы знали, например, что у прежней ссылки, нашей предшественницы, была недурная общая библиотечка, но она исчезла безвозвратно (ее частью раздарили местным обывателям, а частью взяли с собой последние уезжавшие); нам пришлось создавать таковую заново, и при нашем разъезде ее постигла та же участь: ссылка ХX века ее от нас не унаследовала. Не менее, если не более важно, что у каждой группы ссыльных завязываются более или менее прочные связи с местными жителями; образуется свой modus vivendi[311 - способ существования, образ жизни (лат.); имеются в виду условия, обеспечивающие возможность мирного сосуществования противостоящих сторон.] с администрацией; группа отвоевывает некоторые вольности, – и каждый новоприбывающий встречает уже готовую ссыльную колонию и как бы даром получает готовую систему обычного ссыльного права. Я на себе испытал, насколько готовая ссыльная колония облегчает жизнь каждого новоприбывшего. И вот, с разъездом колонии, все это рушится.
По своему социальному составу все ссыльные колонии того времени были по преимуществу интеллигентскими, хотя уровень интеллигентства был не высок. Массовой рабочей ссылки в то время еще не было Подавляющее большинство были студенты и студентки, и только изредка, по исключению, попадал какой-нибудь рабочий, мещанин, мастеровой, мелкий служащий. За все время моего пребывания в Шенкурске на три десятка прошедших через него ссыльных были только четыре человека (два из них с женами), не принадлежавших к интеллигенции.
По партийно-политическому характеру состав ссыльных колоний в Холмогорах и Шенкурске довольно значительно отличался друг от друга. В Холмогорах была публика определенно партийная, группировавшаяся по двум партиям: народовольцев и народников. Социал-демократов, как сколько-нибудь организованной силы, тогда еще почти не было[312 - Далее зачеркнуто: «хотя за границей в эмиграции существовала уже и вела боевую агитацию организация “Освобождение труда”, уже выпустившая в свет первые социал-демократические книжки Плеханова (“Социализм и политическая борьба” и “Наши разногласия”), а в самой России (в Одессе) возникла и уже была разгромлена первая социал-демократическая организация болгарина Благоева».]. Лично я, познакомившийся во время заграничного путешествия в 1884 г. с Плехановым, Верой Засулич и несколькими другими социал-демократами, в России такового увидел в первый раз только в 1889 г.
Когда я проезжал через Холмогоры, мне был чуть не с первого слова поставлен в укор вопрос: «Како веруеши?»[313 - Исповедь начиналась с вопроса: «Како веруеши?», что соответствует чинопоследованию Таинства покаяния; в «Псалтире с восследованием» в «Изложении вкратце о вере, и вопросах и ответах о богословии» (М., 1874) на вопрос: «Како веруеши?» следует ответ: «Верую во единаго Бога Отца, и единаго рождшагося от Него Бога Сына, и во единаго Духа Святого, от Отца исходяща, Бога».], и притом в форме вполне определенной дилеммы: народник я или народоволец (любопытно, что для прокуратуры я был чернопередельцем, а здесь о таковых уже и не вспоминали). Но я не был ни тем, ни другим. Я считал себя радикалом и социалистом, но ни к какой организованной партии не принадлежал, и даже мои убеждения, несмотря на мои занятия историей революционных партий, не выкристаллизовались в той степени, чтобы я чувствовал полную солидарность с какою-нибудь из существовавших партий. В разные моменты моей жизни мое отношение к политическому террору как средству политической борьбы колебалось, но в ссылку я ехал его противником, и это решительно разводило меня с народовольцами.
Зато я издавна очень интересовался политическими вопросами и политическими формами общественной жизни, горячо сочувствовал принципам парламентаризма, очень интересовался вопросами избирательного права, тогда не интересовавшими почти никого, кроме ученых-государствоведов.
В нашей как легальной, так и нелегальной литературе слова «всеобщее избирательное право» если иногда и употреблялись, то не как ходячий общеупотребительный термин, а как редкое, специально свойственное данному автору выражение наряду с более обычным французским наименованием «suffrage universel»[314 - всеобщее избирательное право (фр.).] и иногда с разными терминами собственного изобретения (например, проф. Трачевский, ведший в начале 90?х годов иностранный отдел в газете «Русская жизнь», пытался ввести в обиход выражение «всеобщая голосовка»). Я сам в своем иностранном обозрении, которое вел до своего ареста в «Неделе», обычно употреблял французский термин.
Отрицательное отношение к «политике» у народников решительно отделяло меня от них. В то время я уже прочел оба вышедших тогда тома «Капитала» Маркса[315 - Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Процесс производства капитала / [Пер. Г. Лопатина и Н. Даниельсона]. СПб., 1872; Т. 2. Процесс обращения капитала / Под ред. Ф. Энгельса. [Пер. Н. Даниельсона]. СПб., 1885.], обе книжки Плеханова[316 - Плеханов Г. Социализм и политическая борьба. Женева. 1883; Он же. Наши разногласия. Женева, 1884.] и знал о марксизме больше, чем большинство моих товарищей по ссылке в Холмогорах и Шенкурске; в марксизме меня привлекало к себе соединение политической программы с социализмом (то, что особенно полно развито в первой брошюре Плеханова), но философия истории марксизма была не по мне, и народническая закваска, вынесенная мною из дому (полученная главным образом от В. И. Семевского), была слишком сильна, чтобы я мог признать себя марксистом. В ответ на поставленный мне вопрос: «Како веруеши?» я это высказал и своим ответом дал повод к длинному, горячему и обычно бестолковому спору.
В Шенкурске, напротив, в момент моего приезда туда почти все были в том же положении, что и я; настроение было гораздо менее радикальным, и вопроса о символе веры с первого абцуга[317 - От нем. Abzug – букв. метание в карточной игре; с первого абцуга (устар.) – с самого начала, сразу же.] не ставили; убеждения друг друга узнавались постепенно, из бесед, хотя и довольно быстро. Многие из ссыльных, которых я застал, были сосланы по прикосновенности к лопатинскому делу. Так, один из нас, senior[318 - старший по возрасту (лат.).] нашей колонии (ему было уже за 40 лет, тогда как почти все остальные находились в возрасте между 20 и 25 годами), Франц Бонковский[319 - Ф. И. Баньковскому в марте 1888 г. было 39 лет.], поляк, человек без формального образования, по профессии – железнодорожный кондуктор, перевез для лопатинской организации груз с нелегальными книгами и на этом попался. Сделал он это не за плату, а, во-первых, по общему сочувствию к делу революции, а, во-вторых, из личной услужливости к хорошему человеку: Бонковский был человеком в высшей степени общительным, легко заключающим дружеские связи, очень охотно оказывающим, так же и принимающим, услуги от знакомых, полузнакомых и даже незнакомых. Сочувствие его делу революции было очень общее, не вылившееся ни в какие определенно партийные рамки. Ни к какой партии или организации он не принадлежал, и политические убеждения его представляли большую мешанину, в которую входили и социализм, и политический радикализм; польский национализм можно было прощупать у него только с большим трудом, несколько больше – у его жены, хотя ни ей, ни ему он нисколько не мешал сближаться и завязывать самые дружеские связи с русскими.
Напротив, его большой приятель, Гриневицкий, тоже поляк, но уже совершенно лишенный польского национального чувства, бывший студент, являлся единственным (в момент моего приезда) членом шенкурской колонии, имевшим вполне определившиеся убеждения: он был народовольцем. Таким же определенным и решительным народовольцем был его друг Панкратов[320 - В рукописи далее зачеркнуто: «фамилию которого я плохо помню: не то Панкратов, не то Панкратьев; во всяком случае, это был не известный впоследствии шлиссельбуржец Панкратов)»; правильно: П. Э. Панкратьев.], которого я в Шенкурске уже не застал[321 - Зачеркнуто: «За несколько месяцев до моего приезда он получил помилование и уехал».]. Но я еще застал не вполне утихшие споры о нем. Будучи, как я сказал, народовольцем, по всем вопросам занимая в шенкурской колонии, вместе с Гриневицким, место на крайнем левом фланге, Панкратов внезапно подал на высочайшее имя прошение о помиловании и получил таковое. Большинство товарищей по ссылке возмутилось этим, но Гриневицкий взял его под свою защиту: он, дескать, хотел продолжать активную революционную борьбу; что же ему стесняться обмануть царя, которого, может быть, он убьет?
Когда я вошел в состав шенкурской колонии, то я решительно занял место в рядах противников Панкратова, настаивая на том, что если Панкратов действительно убьет царя или даже просто вновь провалится на революционной деятельности, то какой богатый материал он даст «Московским ведомостям» и вообще всем реакционерам для обвинений революционеров в нравственной низости! А если даже не попадется, то самая возможность подобных споров в нашей среде о праве делать низости с хорошей целью, конечно, не возвышает уважения к нам в обществе. К тому же за одним человеком, который подаст прошение о помиловании с целью возобновления революционной деятельности, последуют другие, которые уже исключительно по эгоистическим соображениям будут подавать прошения, оправдывая себя примером серьезного революционера Панкратова. А это само по себе будет понижать нравственный уровень людей, принадлежащих к радикальным кругам.
Лет 10–12 спустя этот эпизод получил свой яркий эпилог. Петербургский адвокат Вржосек публично назвал Панкратова шпионом; тот притянул его к мировому суду за клевету, но Вржосек представил какие-то доказательства, и мировой судья оправдал его. После этого Панкратов уже открыто служил в охранке, занимал какую-то очень невысокую должность[322 - Разоблаченный как «агент 1?й степени» (Предостережение // Искра. 1901. № 11. 20 нояб.), П. Э. Панкратьев был определен на службу в Департамент полиции на должность «чиновника для письма» с указанием, что оглашение в «Правительственном вестнике» приказа о его назначении, по мнению С. В. Зубатова, «представляется по особым соображениям нежелательным». Сам Панкратьев сообщал: «С мая 1891 г. до определения на службу в Департамент полиции 1 декабря 1902 г. я состоял на службе по вольному найму при С.-Петербургском охранном отделении и в этот период времени, в течение 5 лет 11 месяцев, состоял на государственной службе по другим ведомствам: с 19 октября 1893 г. по 1 апреля 1896 г. в Департаменте герольдии Правительствующего Сената и с 1 апреля 1896 г. по 1 октября 1899 г. в Департаменте железнодорожной отчетности Государственного контроля; остальные же 5 лет 7 месяцев моя служба была только вольнонаемной». Исправляя с января 1906 г. должность старшего помощника делопроизводителя Департамента полиции и ходатайствуя в апреле 1908 г. о зачислении ему в стаж трех лет службы по вольному найму при С.-Петербургском охранном отделении, Панкратьев снова просил не публиковать приказ об этом в «Правительственном вестнике», поясняя: «Такое оглашение моей прежней службы, по обстоятельствам Вашему Превосходительству известным, представляется мне крайне нежелательным и может сопровождаться вредными для меня последствиями…» Заболев туберкулезом осенью 1908 г., старший помощник делопроизводителя надворный советник Панкратьев был исключен из списков чиновников Департамента полиции как умерший с 12 сентября 1911 г. (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 22. 1 д-во. 1902. Д. 824. Л. 12, 34–35).], ни в каком смысле не соответствовавшую гордым мечтам о цареубийстве.
После моего приезда в Шенкурск прибыло много новичков, и некоторые из них внесли большое разнообразие в партийно-политический характер колонии. В их числе был один польский националист, Овсинский. Землевладелец по социальному положению, агроном по образованию, он был чужд каких бы то ни было социалистических стремлений, весь напитан идеологией польского восстания 1863 г. Ненависти к нам, русским, как таковым он, кажется, не питал или, по крайней мере, умел ее скрывать. Напротив, он жил общею нашею жизнью, охотно бывал в нашей среде, а когда среди нас появилась одна хорошенькая барышня из уральских казачек, курсистка Чеботарева, он начал усиленно ухаживать за нею и был, видимо, не прочь жениться на ней, – она, однако, предпочла ему Гриневицкого и вышла за него. Но свои политические убеждения он выдвигал очень определенно, очень решительно: единственная политическая задача, ради которой стоит жить и над которой стоит работать, – это восстановление независимости Польши; все остальное – вздор. И он сплачивал против себя и русских, и наших поляков – Гриневицкого, даже Бонковского, не говоря уже о социал-демократе Варпеховском.
В числе новичков, прибывших через год после меня (в 1889 г.), были и два социал-демократа: упомянутый сейчас поляк Варпеховский и Машицкий. Это были первые социал-демократы, которых я встретил на русской почве. Из них Машицкий, сын полицейского исправника одного из южных городов, был человек малоинтеллигентный (хотя и интеллигент по формальным признакам: он был студентом, кажется, Харьковского университета)[323 - Отец А. А. Машицкого служил приставом 2?го стана Бендерского уезда Бессарабской губернии с 1889 г. и помощником пристава кишиневской полиции с 1891 г., а сам он недолго учился в Одесском пехотном юнкерском училище, но, арестованный в августе 1887 г. за распространение запрещенной литературы, в октябре был сослан в Архангельскую губернию.], напоминавший скорее всего какого-то сектанта; в марксизм он верил как в Священное Писание, доказывать его истины не умел, тем более что ни в области политической экономии, ни в области истории сколько-нибудь серьезных знаний у него не было, а язык у него был суконный. Варпеховский, напротив, недавно нелегально прибывший из?за границы, где он, по его словам, был хорошо знаком с Плехановым, Аксельродом и другими видными русскими, а также швейцарскими и немецкими социал-демократами, был очень не глуп, обладал некоторыми знаниями, умел аргументировать и спорить. Мне знакомство с ним дало очень много. Он читал у нас рефераты по разным вопросам, систематически проводя свою точку зрения, и хотя его рефераты не оставались без возражений, но след в душе слушателей оставляли.
Остановлюсь еще на одной ссыльной, А. М. Пумпянской, единственной из моих товарищей по ссылке, с которой мне приходилось постоянно встречаться и после ссылки в течение более 30 лет, до самого конца моего пребывания в России (до 1922 г.). Как-то так случалось, что, когда я был в Самаре, и она оказывалась там; когда я попал в Киев, и она нашла там на некоторое время работу, а когда в 1904 г. я окончательно водворился в Петербурге, то вскоре (после амнистии 1905 г.) и она поселилась там. Это была сравнительно пожилая особа, – ей было тогда (в 1889 г.) лет 36 или более[324 - Неточность: Э. В. Пумпянская родилась в 1854 г.]. Прибыла она по этапу вместе с восьмилетним сыном. Еврейка (крещеная) по национальности, антисемитка по чувству, однако настолько честная, что никогда не скрывала своего еврейского происхождения, акушерка-фельдшерица по образованию и профессии, особа на редкость некрасивая, она была человеком очень мало интеллигентным, но глубоко чтущим интеллигентность и страдающим от сознания отсутствия ее у себя, человеком очень честным и трудолюбивым и очень сварливым и в общежитии тяжелым, особенно в шенкурских условиях. По своему миросозерцанию она была решительной революционеркой и несколько напоминала Машурину из тургеневской «Нови»[325 - Фекла Машурина – персонаж романа И. С. Тургенева «Новь» (1877), «натура скрытная, своевольная – и едва ли добрая, едва ли очень умная – но даровитая»; «вся – огонь, вся – страсть и вся – противоречие: мстительна и добра, великодушна и злопамятна, верила в судьбу и не верила в Бога».], хотя с сильными отклонениями в сторону.
Я сказал, что по миросозерцанию она была революционеркой. Может быть, правильнее сказать – по чувству, так как миросозерцания у нее, в сущности, не было. Она была вся напитана ненавистью к царю, к правительству, к полиции; называла себя социалисткой, но привести свою ненависть и свой социализм в систему не умела и по отсутствию образования, и по неумению систематически мыслить. Ни к какой партии она никогда не принадлежала, но готова была оказывать услуги всем, кто боролся с правительством. Когда она прибыла в 1889 г. в Шенкурск, за ней был уже более чем пятнадцатилетний политический стаж, и когда она в Шенкурске отбывала арест по делу о прогулке, то оказалось, что сидела ровно в 25?й тюрьме. В начале своей политической карьеры она была арестована по делу 193-х[326 - Эйдель Вульфовна Пумпянская (после принятия православия в 1881 г. – Аглаида, Аделаида Михайловна), проходя обучение в Повивальном институте в Петербурге, предоставляла свой адрес для нелегальной переписки и носила, под видом невесты, тюремные передачи, за что 13 февраля 1875 г. была арестована и, заключенная в Петропавловскую крепость, находилась там с 15 марта по 15 января 1876 г. Вновь арестованная 19 декабря 1876 г., она содержалась в Спасской части, с июля 1877 г. – в Доме предварительного заключения и, привлеченная к дознанию по «Делу о пропаганде в Империи», оказалась среди подсудимых, участников «хождения в народ», на «процессе 193-х» (18 октября 1877 г. – 23 января 1878 г.), но была оправдана (см.: ГАРФ. Ф. 533. Оп. 1. Д. 1368. Л. 288–291).] и провела 3? или 4 года в предварительном заключении, хотя какого-нибудь конкретного содержания в обвинении против нее не было: принадлежность к партии, к которой она в действительности не принадлежала и которая доказывалась фактом ее знакомства с несколькими подсудимыми, присутствие на вечеринке, где пели революционные песни, и недонесение о них, – вот и все содержание обвинения. Во время суда она принадлежала к решительным сторонникам протеста и вместе с Мышкиным, Коваликом, Войнаральским и другими демонстративно отказалась от защиты на этом позорном суде, которого не могла признать, и вместе с другими была несколько раз удалена из зала. Но когда прокурор подошел к ее обвинению, то он не нашел решительно никакого материала – и отказался от обвинения по отсутствию состава преступления. Вышло нечто курьезное: подсудимая отказывается в виде протеста от защиты, а обвинитель – от обвинения. Она, конечно, была оправдана – и, как все почти оправданные по этому делу, выслана в административном порядке из Петербурга.
А четыре года тюрьмы за то, в чем сам свирепейший Желеховской не нашел материала для обвинения, были пережиты и свое дело сделали. Революционер был готов. Но революционер, революционность которого выражалась не в каких-либо действиях, а в резких, оскорбительных фразах по отношению ко всякому исправнику или тем более жандарму, с которым ей приходилось встречаться, в радикальных знакомствах, иногда – в чтении той или другой нелегальной брошюрки. Средств у нее, разумеется, не было, и она постоянно нуждалась в работе; кроме того, она, как я имел случай многократно убеждаться, действительно любила работу, и несколько раз ей удавалось пристроиться при разных учреждениях по своей специальности: акушеркой-фельдшерицей, а иногда – при какой-нибудь студенческой или другой столовой: хозяйкой. Всегда и везде она оказывалась превосходной работницей, и ею были всегда очень довольны[327 - Например, в «удостоверении» от 24 сентября 1892 г. самарский вице-губернатор А. П. Рогович засвидетельствовал «выдающуюся деятельность г-жи Пумпянской», ибо, приглашенная в марте «на службу в частную Самарскую больницу для тифозных», число коих доходило до сотни, она из?за заболевания двух больничных фельдшеров, заменяя их, трудилась одна, а в мае «изъявила согласие отправиться в Новоузенский уезд в составе санитарного отряда, сформированного Самарским губернским благотворительным комитетом для борьбы с эпидемиями сыпного тифа и цинги», причем «совершенно самостоятельно заведовала двумя больницами, временно открытыми в районе четырех больших сел» и затем участвовала в борьбе с холерой в Бузулукском уезде, отличившись «неутомимым усердием к исполнению принятых на себя обязанностей» и заслужив «полное одобрение гг. врачей, под руководством которых она работала» (Там же. Ф. 102. Оп. 127. 5 д-во. Д. 7527. Л. 89).], до поры до времени. Но нигде она не засиживалась долго. Или она подвергалась новому аресту по новому, как всегда, в высшей степени пустяковому делу, или же на службе у нее начинались нелады. Нелады же у нее начинались не из?за дурной работы, – этого не могло быть, а из?за того, что она вдруг находила, что доктор или кто-нибудь другой из начальства проводит различие между пациентами из высших классов и простонародья в ущерб последним или что кто-нибудь из начальства высокомерно обращается с прислугой, – и переставала с ним кланяться, не отказываясь вместе с ним работать. При этом обвинения, возбуждаемые ею, по основательности часто не превышали тех, жертвою которых она была сама в процессе 193-х. Выходили неприятности, и в конце концов ей приходилось оставлять службу.
Все это выходило в высшей степени принципиально, но вместе с тем в высшей степени глупо. Обыкновенно ее ссоры были лишены эгоистического элемента: она заступалась, как Дон Кихот, за других, притом даже за людей, не просящих ее заступничества. Так было по большей части, но не всегда. У нас в Шенкурске она возненавидела Чеботареву, хорошенькую и веселую барышню, любившую кружить головы мужчинам и пользовавшуюся совершенно обычными в таких случаях жизненными преимуществами. Этого Пумпянская вынести не могла как проявление человеческой несправедливости; в этом случае ей приходилось негодовать прежде всего за себя, хотя она делала вид, что заступается за права и интересы Ермиловой – другой ссыльной барышни, как и она, весьма некрасивой.
Я сказал уже, что у Пумпянской был сын, мальчик лет восьми. Отцом его был Поливанов, известный в начале 80?х годов народоволец, в это время сидевший не то в Петропавловской, не то в Шлиссельбургской крепости за устроенное им (кажется) в Саратове вооруженное покушение на освобождение в дороге одного политического арестанта, не увенчавшееся успехом[328 - За неудачную попытку освободить народовольца М. Э. Новицкого, при совершении которой убил тюремного служителя, охранявшего заключенного на прогулке, П. С. Поливанов был приговорен к смертной казни через повешение, замененной вечной каторгой, которую с 1882 г. отбывал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, а с 1884 по 1902 г. – в Шлиссельбургской крепости.]. Где-то Пумпянская сошлась с ним[329 - В декабре 1878 г. студент ветеринарного отделения Медико-хирургической академии П. С. Поливанов был выслан в Кадников Вологодской губернии, куда в апреле 1879 г. под строгий надзор полиции водворили и А. М. Пумпянскую; их незаконнорожденный сын Николай Пумпянский появился на свет 9 февраля 1881 г., когда его отец уже покинул Кадников, переведенный в августе 1880 г. на родину под гласный надзор полиции.], и плодом был мальчик.
У мальчика этого были грубые черты лица, мясистые чувственные губы, низкий лоб и всегда злобное выражение глаз. Он производил впечатление дегенерата и был тяжелым крестом своей матери. Когда ему что-нибудь было не по вкусу, он обнаруживал решительную неспособность сдерживаться и бросался на всякого с кулаками, впивался зубами и ногтями, и делал это по отношению к людям взрослым, здоровым и сильным, – и, конечно, получал совершенно естественный отпор. Не плакал никогда. Несмотря на наличность в Шенкурске достаточного числа людей, готовых его учить, учился он неохотно, почти из-под палки и довольно плохо, хотя способности у него были средние, и иногда довольно легко схватывал объяснения. Он сошелся с уличными мальчишками и в качестве их предводителя участвовал иногда в довольно скверных похождениях; мать свою, ничего не имевшую, обворовывал, утаскивая запасы сахара, а иногда и деньги, которые тотчас же тратил на сласти. Мать, со своим раздражительным характером, страшно злилась, кричала на него, но он ее в грош не ставил, и она не могла с ним ничего поделать. Позднее, по освобождении ее из ссылки, она несколько раз отдавала его в учебные заведения, но его отовсюду исключали. Отдавала его и в приют для испорченных детей доктора Маляревского (под Петербургом), своего рода частную колонию для малолетних преступников, куда я же его и пристраивал[330 - 19 сентября 1890 г. В. В. Водовозов, получивший разрешение приехать в Петербург для сдачи экзаменов, писал А. М. Пумпянской в Шенкурск: «У Маляревского я был, когда еще приют не переехал в город, видел только жену М[аляревского] и говорил с нею. Плата за учеников очень различна, до 600 рублей в год; иногда они принимают и даром, но теперь решительно не могут. Впрочем, пусть лучше я поговорю с самим д-ром М[аляревским] по переезде приюта в город. Я там буду непременно, т. к. приют меня очень заинтересовал; но в близком будущем собраться туда мне было бы очень трудно, т. к. приют находится от нас верст за 6–7 (на Охте), а теперь у меня экзамены» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 118. Л. 57).], но и там с ним ничего не сумели сделать, и оттуда тогда пришлось его взять. Лет с 13–14 он начал обнаруживать рано проявившиеся, но сильно повышенные половые инстинкты, и мать страшно боялась, чтобы в этой области он не наделал какой-нибудь беды. Однако лет в 15 он несколько переменился; научился сдерживаться, начал учиться, поступил в какое-то учебное заведение (кажется, в реальное училище) и даже кончил его; очень рано женился, и нашлась молоденькая и миловидная девушка, которая за него вышла, – скоро он бросил ее. Тем не менее, когда я встречался с ним в этот период жизни, я выносил убеждение, что перемена в нем внешняя, поверхностная и что в конце концов ему не миновать каторги, но не за деяния политического характера. Уж очень злобным огоньком зажигались его глаза при всяком возражении ему, и очень страшные нервные судороги пробегали по лицу и телу, и очень отталкивательное было выражение его лица. Кажется, мать его держалась того же мнения.
Однако факты не подтверждали моего убеждения. С грехом пополам он находил какую-то работу и мог – с помощью матери – существовать. В то же время он сошелся с левым крылом социалистов-революционеров (максималистов)[331 - Имеется в виду Союз социалистов-революционеров – максималистов (ССРМ), учредительная конференция которого проходила 10–24 октября 1906 г. в Финляндии.] и принял участие в их работе. В 1907 г. в Фонарном переулке (в Петербурге) было совершено ограбление казенного экипажа, перевозившего деньги, – и главную или одну из главных ролей в этом деле сыграл молодой Пумпянский[332 - Правильно: 14 октября 1906 г.; известно, что Н. П. Пумпянский через знакомых банковских служащих выяснил час отправки и сумму перевозимых денег.]. Ограбление не удалось[333 - Неверно: с помощью бомб, остановив в Фонарном переулке экипаж помощника казначея Петербургской портовой таможни С. П. Германа, группа боевиков (двое из них погибли, а четверо были схвачены и уже 18 октября повешены) сумела захватить около 400 тыс. рублей, большая часть которых бесследно исчезла; обвинение в похищении их Маргаритой (Аделью Каган), которая в пролетке вывезла с места экспроприации два мешка с деньгами, а вскоре открыла в Париже мастерскую дамских нарядов, стало предметом разбирательства 17–18 января 1908 г. на собрании парижской группы социалистов-революционеров – максималистов с участием В. Л. Бурцева (подробнее см.: Генис В. Л. «Человек патологический». Максималист Добковский и провокаторы. М., 2018. С. 319–330).], организаторы его были арестованы и поплатились каторгой в Сибири. Таким образом моя уверенность в его будущей судьбе оправдалась лишь наполовину или вовсе не оправдалась: Пумпянский попал на каторгу, но как раз за преступление, которое было, по своим заданиям и по официальной квалификации, политическим. Мать его, которую я в это время видал довольно часто, просто сияла от счастья: сын попался не по уголовному делу. Она ходила к Зарудному с просьбой взять на себя защиту ее сына, но Зарудный, которому все это дело глубоко претило, отказался. Она очень упрашивала меня убедить Зарудного, и я, которому это дело тоже претило, скрепя сердце, очень неохотно, но делал это, – однако без успеха.
Мать, неожиданно составившая себе очень высокое мнение о своем сыне, была в страшном негодовании на Зарудного и шипела на него еще долго спустя: отказался от защиты ее сына, очевидно, потому, что ей нечем ему заплатить; ведь взялся же он (через несколько времени после дела ее сына) за защиту каких-то лоботрясов, убивших даму с целью грабежа бриллиантов.
– А вы читали, как он их защищал, и согласились бы, чтобы он таким же образом защищал вашего сына? – спрашивал я ее.
– А как?
– Да ведь он все построил, во-первых, на том, что деяние этих господ неправильно подведено обвинительным актом под разбой, когда тут налицо только грабеж, а во-вторых, на том, что они были смолоду развращены условиями жизни.
Кажется, некоторое впечатление на Пумпянскую это произвело, но все-таки, несмотря на все мои ссылки на факты, доказывавшие бескорыстие Зарудного, она осталась при своем убеждении.
Несмотря на то что Пумпянский попал в «политические», я оставался при своем убеждении, что по существу, в глубине души, он все-таки уголовный тип и если попал в политические, то как раз по такому делу, в котором не сразу скажешь, где кончается уголовщина и начинается политика.
Мне было суждено еще несколько раз встречаться с молодым Пумпянским. В 1917 г. я был в Таврическом дворце на торжестве в честь прибывшей в Петербург Брешковской[334 - «Бабушка русской революции» Е. К. Брешко-Брешковская, приехавшая в Петроград 29 марта 1917 г., была торжественно встречена на Николаевском вокзале тысячами людей во главе с министром юстиции А. Ф. Керенским и председателем Петроградского совета Н. С. Чхеидзе, которые повезли ее в Таврический дворец, где открывалось Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов.]. В честь нее говорились речи; Керенский вместе с несколькими другими несли ее на кресле. В числе этих других я заметил уже не молодого человека, лицо которого мне показалось знакомым и заинтересовало меня, но которого я никак не мог вспомнить.
Через полчаса он подошел ко мне.
– Не узнаете? Пумпянский.
Через несколько дней он посетил меня. Я его действительно не узнавал. Он говорил по вопросам, в то время волновавшим всех, говорил горячо, искренно и – очень не глупо, возбуждая интерес к себе и к своим мнениям.
– Я эсер, – сказал он в разговоре, – и притом правоверный.
Освобожденный с каторги, он быстро вошел в Сибири в партийную среду и энергично работал в ней. Приехал в Петербург на короткое время и скоро собирался уезжать (и действительно уехал) в Сибирь, откуда вернулся в конце 1917 г. членом Учредительного собрания[335 - По списку эсеров Н. П. Пумпянский был выбран членом Учредительного собрания в Забайкальском избирательном округе.]. Тут я его не видал. После разгона Учредительного собрания он опять уехал в Сибирь и пропал для меня без вести; в наступившие годы разрухи даже его мать не получала от него никаких вестей. Но она страшно гордилась тем, что ее сын – член Учредительного собрания.