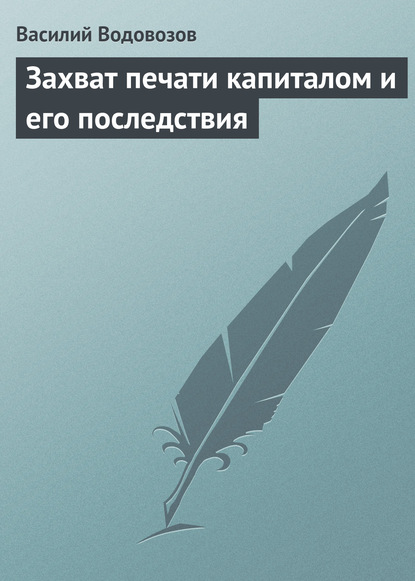 Полная версия
Полная версияЗахват печати капиталом и его последствия
Многие молодые, умные и образованные французы, начиная журнальную карьеру в широко-распросграненных газетах, пробовали обстоятельно говорить о серьезных вопросах текущей жизни, знакомить читателей с общественным и умственным движением в других странах, но их статьи бросались в редакционную корзину, потому что это «скучно», «тяжело», «ce n'est pas drôle, потому что это не интересует читателя». В это время, когда во главе бывшего органа французской рабочей партии «Petite République» (принадлежащей акционерному обществу) находился один депутат, некоторые молодые журналисты, проживавшие заграницей, посылали в газету статьи о выдающихся явлениях общественной жизни в обитаемых ими странах, не требуя даже за них гонорара. «Но ни одна из этих интересных корреспонденций не была напечатана, между тем, как «Petite République» ежедневно посвящала скабрезным анекдотам, рассказам об убийствах, воровствах и драках, скачкам и отвратительным бульварным романам по крайней мере три четверти своего содержания»[9].
«Petite République» принадлежала, впрочем, акционерному обществу и была предоставлена в распоряжение рабочей партии по соображениям коммерческим, причем неполитическая её часть осталась в заведывании дирекции общества и наполнялась обычным для капиталистической газеты содержанием. Более характерным следует считать факт подчинения нездоровым вкусам читателя изданий, менее зависимых от капиталистических влияний. «Кто будет читать листок, в котором нет страшного романа? спрашивает г. Белорусов. И вот, почтенный «Radical», заинтересованный в возможно широком распространении политических идей радикально-социалистической партии среди избирателей, видит себя принужденным печатать крикливые и раздражительные романы, полные убийств из-за любви и денег, полные преступлений и подвигов апашей и полицейских». И даже социалистическая «L'Humanité» Жореса, одно время не печатавшая ни хроники сенсационных преступлений, ни романов, должна была отступить от этого правила[10].
Начатая на страницах газеты, система развращения читателя продолжается в популярной книжке.
Известно, какое распространение получила в последнее время развращающая литература разного рода: порнографическая, сыщицкая и разбойничья. Изданием такой литературы занимаются в Германии 52 фирмы; продается она в 800 книжных магазинах, в писчебумажных, табачных лавочках и при посредстве 30-ти тысяч книгонош, проникающих во все закоулки. Оборот этой литературы в 1907 и 1908 г. достигал 60 милл. марок, а в 1910 г. оборот одного лишь берлинского издательства составлял 25 милл. марок. В 1911 г., впрочем, оборот такой литературы составлял всего 50 милл. марок. Продается эта литература выпусками ценою в 10 пфенигов, и составляются книжки с таким расчетом, чтобы не давать остывать интересу читателя, и чтобы последний непременно требовал следующего выпуска, продолжающего рассказ. Данная литература является поэтому плодом самого необузданного воображения. «Если это «кухонная» (Hintertreppenromane) литература, то её содержание – разбойничьи подвиги самого гнусного и кровожадного характера. Если это подвиги сыщика, то это – борьба ловкого преступника и еще более ловкого шпионажа. Если это эротическая литература, то это – смесь садизма, мазохизма и т. п.». «Книжки, спекулирующие на народное суеверие, представляют смесь самых невероятных явлений чародейства, вызова духов, плясок мертвецов, преступлений, совершенных трупами, и пр., и пр…. любое сенсационное событие обрабатывается этой литературой под вкус самого невзыскательного читателя, без всякого внимания к действительному характеру событий». Один немецкий роман, напр., дает описание 2293 убийств и не только обычными средствами холодного и огнестрельного оружия или отравления, но и изощренными способами оскальпирования, потопления, заколачивания кулаками, зарытия в землю, отдачи на съедение крысам и т. п. Всего печальнее, что эта литература составляет самое распространенное чтение среди детей рабочего класса в школьном и послешкольном возрасте, причем главным потребителем порнографических изданий являются девочки 13–15 лет. Не менее того распространено среди школьников и чтение газет. Согласно недавно произведенной анкете в ряде немецких школ, 90 % учеников читают газеты, причем только 40 % интересуется в них чем-нибудь другим, кроме судебной хроники и происшествий.
Отдельные группы из общества обратили внимание на развращающее влияние популярной прессы, но тщетно ищут действительных средств борьбы с нею. На съезде общества народного образования в Дортмунде в 1909 говорилось о заполнившей германские книжные рынки сенсационной и бульварной литературе, оказывающей гибельное влияние на литературные вкусы среднего читателя, до учащихся включительно. В конце того же года в Германии основалось женское общество для борьбы с грязью и развратом, распространяемыми посредством литературы. В Гамбурге с тою же целью основалось «Немецкое общество памяти писателей», и борьбе с развращающей литературой посвящает в последние годы свои силы ряд культурных обществ в Берлине, Мюнхене, Кельне, Лейпциге, Висбадене. В последнее время делают попытай применения международных правительственных мер для борьбы с порнографическими произведениями. В одной из недавних книжек «La Revue» помещены мнения известных французских писателей о влиянии литературы на увеличение числа кровавых преступлений и воззваний к представителям печати не пропагандировать преступления сенсационным их описанием и симпатичным отношением к преступникам, а к читателям – не поощрять такого рода описаний. Эта литература успела уже произвести прочные изменения в психике читателя, и гамбургское, напр., общество памяти писателей должно было во внимание к этой психике издавать криминальные же рассказы Пауля Гейзе, Мейера, Давида и др. для отвлечения читателя от уличной литературы. Мы знаем, что в угоду читателю, бульварный и сенсационный отделы должны были завести парижские социалистические газеты, и все это доказывает, что развращающая пресса покоится на твердом психическом основании, что она сеет свои зловредные семена на подготовленной для того почве, и так или иначе, удовлетворяет каким-то общим потребностям[11].
Газета, стоющая всего две-три копейки, может быть прямо покупаема читателем. Но сенсационного романа такой газеты недостаточно для удовлетворения последнего, и кто стесняется в средствах для приобретения бульварных романов в собственность, тому предоставляется возможность зачитываться ими в библиотеках. Большие лондонские библиотеки, напр., забирают от одной до трех тысяч экземпляров нового романа, а меньшие, находящиеся на окраинах – по 30-50-ти экземпляров, и весь этот запас зачитывается «до дыр, до выпадения листов». Уже из такой жадности к чтению читатель, конечно, догадается, что предметом его являются не лучшие произведения человеческого гения, и популярнейший сегодня роман через 6–7 месяцев погружается в лету забвения. «Англичанке (клиентами описанных библиотек являются преимущественно женщины) среднего круга, говорит г. Дионео, позволяется не иметь никакого представления о континентальной литературе; разрешается не знать своих классиков, но совершенно непростительно, не читать какой-нибудь роман «The Blindness of d-r Grey», о котором говорит «весь Лондон». И романы этой категории, издающиеся в количестве сотен тысяч экземпляров, «поражают своей шаблонностью или, точнее, своим шаблонным оригинальничаньем»»[12].
V
Порабощение капиталом печатного слова осуществляется, конечно, при посредстве писателей. Писатель мало-помалу обращается в такого же рабочего в капиталистическом предприятии, каким является рабочий завода, фабрики, угольной копи и т. н. Он продает свой труд и исполняет работу, какую ему поручают, и как ему приказывают. «Газетный сотрудник и даже редактор американской газеты, говорит, напр., г. Гурвич, – литературный батрак, нанятый для того, чтобы делать всякую работу, какую укажет хозяин. О личных убеждениях литература не справляется; умеешь писать по заказу на заданную тему в том духе, как велят – вот и все, что нужно!». Не нужно современному газетному работнику не только убеждений, но и знаний, и широкого образования. Познакомившись из выше приведенных фактов с содержанием, напр., типичной французской газеты, мы не удивимся сообщению г. Смирнова, что «от журналистов не требуется ни знания иностранных языков, ни знания всего, что происходит вне Франции, и невежество в этом отношении парижских журналистов поражает всякого иностранца». Не нужно ему знать и своей родной страны, о которой сообщаются лишь сенсационные известия; «не нужно знать экономических и социальных вопросов, волнующих весь мир; не нужно ни научной, ни даже настоящей литературной подготовки». Зато он должен быть «хорошим сыщиком» и уметь по двум-трем данным ему фактам и при помощи, может быть, словаря Ларуса набросать на заданную тему легкую и занятную статейку. Он должен быть вместе с тем, говорит г. Смирнов, «хорошим сыщиком», и эволюция в данном направлении газетного работника идет так успешно, что понемногу стирается граница между газетным репортером и подлинным сыщиком-провокатором. «Два мира, говорит г. Белорусов, – мир печати и мир сыска – казалось бы, не имеющие между собой ничего общего – частично совпадают, почти сливаются». А так как сыщику приходится попадать в разные положения и брать на себя разные роли, то парижский сотрудник, напр., бельгийской, вовсе не сыскной газеты «Etoile Belge», оказался «сыщиком, подложным анархистом, коммунистом, революционером, «camelot du roi», франкмасоном, бомбистом и подлинным мазуриком».
Подчиненные отношения писателя к издателю, установившиеся в области периодической печати, переносятся на легкую непериодическую литературу. «Молодому романисту, имеющему сказать свое слово, ужасно трудно выступить в Англии, пишет г. Дионео. Я знаю случаи, когда яркое, оригинальное произведение странствует из «магазина в магазин», и от одного литературного агента к другому… Агент дает молодому автору советы: «Вот этот герой слишком порывист», злодей недостаточно черен и ускользает ненаказанным», «такая-то любовная сцена слишком shocking». И молодой автор, желающий «пристроить» свое первое детище, черкает, мажет черной и розовой красками своих героев и героинь, смягчает диалоги[13].
Писатели, достигшие известности, избавляются, конечно, от прямого насилия. Но воспитанные в атмосфере беспринципности и литературного торгашества, они уже добровольно продают себя газетному предпринимателю; и совершенно независимые, видные политические и литературные деятели отдают свое имя газете, не справляясь ни о её репутации, ни о моральной ценности. «Во Франции почти нет ни одного художника слова, – говорить г. Белорусов, – ни одного крупного и уважаемого беллетриста, который не давал бы мелких вещей большой прессе, соблазненный громадными гонорарами». За тысячу франков, говорит тот же писатель, можно приобрести для бульварной газеты и любую «звезду» политического или литературного неба. И вследствие такого отношения представителей высшей французской интеллигенции к печатному слову – отношения, отвечающего не задаче просветительного воздействия последнего на массу населения, а стремлению капиталистич. предпринимателя к личной при посредстве этого слова наживе – «газета, угождающая самым низменным вкусам низменной публики, имеет основание с гордостью указывать на лучшие имена литературы в списках своих сотрудников», и «на то, что в ней сотрудничают и бывшие министры, и профессора Сорбонны». Безсовестнейшая нью-иоркская газета «New Iork Journal» в день своего пятилетнего юбилея имела возможность опубликовать целый ряд крупных имен американских и западно-европейских писателей, до Генри Джорджа и Клемансо включительно, состоявших в числе её сотрудников, «и благодаря этим сотрудникам, газета читалась людьми, которых претило от её сенсационных приемов, но которые не согласились бы пропустить статью Бранана или Джорджа».
Безпринципное, коммерческое отношение западно-европейских писателей к печатному слову служить причиной такого «непонятного нам, русским», по выражению г. Дионео, явления, как участие консерваторов в либеральных английских изданиях и наоборот. Даже больше того! Редактором только что народившейся большой ежедневной газеты в Манчестере, «Daily Citizen», являющейся органом социалистов и рабочей партии, сделался бывший редактор консервативной, бульварной газеты «Daily Mail»[14].
Бывает, что литературная «звезда» прозревает относительно истинного смысла своего участия в продажной газете. «Я целых девять лет писал в «Journal», сообщает Октав Мирбо… Как я мог, не отказываясь от своих идей, без лицемерия и интриганства, так долго держаться в этой уличной газете… Об этом не место теперь говорить, да и в сущности я не знаю». Мирбо «прозрел» относительно газеты «Journal» после того, как эта газета отказалась поместить его статью о практическом применении в целях общественной пользы одного нового научного открытия по тому соображению, что за такую рекламную статью, да еще на первой странице, издатель вместо уплаты за нее гонорара мог бы сам заработать 5–7 тысяч франков. Долго ли бы еще продолжалась «слепота» знаменитого беллетриста, если бы он не переступил границы отведенной ему области, помещал в «Journal'е» только рассказы и романы, и его самолюбию не был нанесен ударь отказом издателя принять его произведение. Другой известный французский писатель, публицист Урбен Гойе, «возмутился» не содержанием, общим духом и продажностью газеты «Matin», в которой он сотрудничал, а чрезмерно грязными литературными приемами этой газеты для устранения своего главного конкурента, вполне её достойного «Journal'а», приемами, сделавшимися предметом судебного разбирательства. И характерен, и обиден для достоинства работающего в газете писателя ответ дирекции газеты на возмущение Гойе! «Не вмешивайтесь не в свое дело! Для этого грязного дела у нас есть достаточно грязных рук. Вас ведь мы не заставляем заниматься им. Чего же вы хотите?»[15].
До нас редко доходят известия о том, что литературные работники оказывают сколько-нибудь значительное сопротивление попыткам капиталистического предпринимателя поработить свободное печатное слово; и мы можем указать лишь на образование вначале текущего века в Париже ассоциации литературных критиков и библиографов, поставившей себе задачей борьбу с платной литературной рекламой и защиту свободной литературной критики. Реальные результаты деятельности этой ассоциации нам, однако, неизвестны.
Писатель отзывается не только на любой призыв газетного предпринимателя, но и на требование производителя матерьяльного предмета рекламировать его продукт. «Тысячи интеллигентных пролетариев, владеющих кистью, резцом и пером, готовы, – говорит г. Циперович, – увековечить любой товар, любую фирму в самых громких, ослепительных формах». «За несколько жалких грошей предприниматель получает стихотворение, восхваляющее замечательные достоинства какого-нибудь крема для лица или для сапог – для поэта-рекламиста это решительно все равно. Нужно что-нибудь посолиднее – и на смену голодному поэту является фельетонист с живым рассказом, герой или героиня которого с большой готовностью объясняют читателю, где они покупают платье, обувь, где обедают, кто их снабжает сигарами, духами, перчатками и т. д.». Наибольший же спрос со стороны рекламы предъявляется на рисовальщиков, иллюстраторов и каррикатуристов, и «над усовершенствованием плаката-рекламы в настоящее время работает целая плеяда довольно крупных художников»[16].
Очень интересно было бы изучить и психологию читателя типичной современной газеты, выяснит, что его к ней привлекает, чего он от неё ожидает и насколько чтение такой газеты – единственное, как сказано выше, общение с печатным словом для 9/10 читателей – вызывается серьезным умственным интересом или только стремлением к развлечению и забаве. Не зная хорошо этой психологии и исходя из несомненного, казалось бы, положения, что печатное слово имеет назначением удовлетворять естественную потребность человека знать и понимать, что вокруг него происходит, переживать радостные и горестные события, волнующие его соотечественников и все человечество, наслаждаться произведениями человеческого гения и т. п. – серьезные люди останавливаются с недоумением перед фактом широкого распространения популярной газеты. «Нередко мне приходилось слышать, – пишет известный французский журналист, Артур Мейер, – от людей вполне образованных, что они решительно не в состоянии понять, чем объясняется тот поразительный успех, который выпал на долю «Journal'я». Где, как не во Франции – говорит русский наблюдатель парижской жизни – можно наблюдать такое явление, как огромный тираж газеток вроде «Le Petit Journal» или «Le Petit Parisien», дрянных во всех отношениях: скудость фактических известий, литературные бездарности, безталанные политические хроникеры».
Что привлекает уже более культурного читателя к большой парижской газете, посвященной спорту, о которой «решительно всем известно», что в ней каждый отзыв, каждая фотография, каждая строчка оплачены? «Такую газету можно бы, кажется, не читать; но это все знают и читают» (Белорусов). Или что заставляет интеллигентного парижского рабочего, хотя бы он был социалист, зачитываться газетой, которую он сам характеризует, как «публичную девку», и забрасывать свой партийный орган «L'Humanite»[17].
Встречаются, правда, факты массового протеста читателей, но это относится к экстренным, так сказать, случаям и притом политических, а не общекультурных безобразий прессы. Во время, напр., парижской выставки 1900 г. и поддерживаемого газетами обострения политических неудовольствий между Англией и Францией, английские трэд-юнионы и кооперативные общества, объединявшие более двух миллионов рабочих, заявили о своем антивоинственном настроении, составив адрес к профессиональным союзам Франции и снарядив для его передачи специальную делегацию. В адресе этом, между прочим, говорится следующее:
«Новая сила появилась в мире, сила, пред которою преклоняются даже правительства, и которая возбуждает народы к взаимному недоверию и ненависти. Сила, которую мы вам указываем, и против которой мы подымаем наш голос, это – пресса, которая находится в руках людей без принципов, без совести, и которою они пользуются, чтобы разжигать на наших родинах народные страсти. нисколько не преувеличивая, можно сказать, что эта новая сила – подобной которой мир еще не знал – приобрела уже такое могущество, что начинает даже захватывать в свои руки обыкновенные функции правительств». «Рев, подымаемый этими газетами – зачастую при содействии людей влиятельных по своему положению – принимается иногда за голос народа, но ни во Франции, ни в Англии массы не имеют ни малейшего повода ненавидеть друг друга, ни малейшего желания причинять друг другу какой-либо вред. «Непосредственная опасность исходит, главным образом, от собственников и редакторов газет, которые не перестают толкать к конфликтам». «Культ любви и братства грубо топчется ногами, и человечеству грозит возврат к диким нравам варварства».
До сих пор коммерческий интерес собственников газет не препятствовал тому, чтобы даже в капиталистических изданиях высказывались разнообразные политические и общественные взгляды. Но в последнее время намечается перспектива новой опасности для свободного слова, истекающая из идеи синдикальной организации печати. О такой организации несколько лет тому назад заговорил король уличной прессы в Англии, Гармсворт, восхваляющий объединение печати перспективами вроде того, что синдикат будет проводить в публику определенные взгляды на религию, науку, воспитание, финансы» и «внушит ужас всем злоумышленникам, всем сторонникам взглядов, враждебных государству». «Гармсворт предвидит возникновение двух или трех газетных синдикатов, которым будет принадлежать вся пресса, издаваемая в странах, где говорят по-английски. Синдикат, издающий 60 или 70 газет, – писал Гармсворт в North American Keivew, – будет таким же королем газетного мира, как Рокфеллер в мире нефти… Синдикат купит лучших писателей, проведет собственные телеграфы и заставит капитулировать все другие газеты… Синдикат по готовому плану будет заказывать и проводить в публику статьи с определенными взглядами на религию, науку, воспитание, финансы, торговлю и пр.».
В малых размерах Гармсворт начал осуществлять свою идею: десять лет назад ему принадлежало в Англии 50 газет. Располагая огромными денежными средствами, братья Гармсворт «довели до банкротства многие независимые газеты в провинции и завладели ими вполне». Они захватили, напр., все провинциальные издания Шотландии, кроме одного[18]. А в последнее время появилось известие, что в Америке уже составилась группа финансистов с известным миллиардером, Морганом, во главе для образования газетного треста и уже приступила к скупке газет.
Таковы стремления современных руководителей наиболее распространенных газет. Начав с того, чтобы пользоваться газетой, как средством личной наживы, и получив этим широкую возможность воздействия на общественное мнение в интересах отдельных лиц, групп таковых и учреждений, – капиталистические предприниматели – в тон тому, что развивается в сфере капитала, орудующего в области производства матерьяльных благ, – стремится монополизировать производство благ духовных и в интересах коммерческих, и для систематического воспитания народных масс, соответственно интересам плутократии, систематического порабощения свободного духа человека. Здесь уже выступает не один мотив личной наживы, а и цель господства над умами и чувствами читателя. Как далеко это от осуществления наивной, как теперь оказалось, веры в юридическую свободу слова, как средства облагорожения человека, и не заключается ли много правды в словах исследователя судеб французской печати, Фонсгрива, заявившего, что «пресса является в настоящее время рабой, хотя, по-видимому, и пользуется самой широкой свободой»! или в словах американского общественного деятеля, воскликнувшего на митинге о трестах: «что значит всеобщее образование, когда характер и качества умственной нищи будут определяться трестами, как определяется ими качество сахара, который мы едим, или спирта, который мы пьем»[19].
Английские библиотеки в свою очередь налагают руку на свободу печатного слова. Лондонские библиотеки обслуживают по-преимуществу женскую часть населения, предоставляя ей возможность наслаждаться чтением новых романов, предназначенных специально для невзыскательного потребителя. Библиотеки эти являются главными покупателями таких романов; от них, следовательно, зависит успех или неуспех литературного произведения. И вот, союз владельцев библиотек выработал требования, предъявляемые издателям романов. Всякий роман за неделю до выхода в свет должен быть представлен на просмотр союза, который относит его к одной из трех категорий: удовлетворительных, сомнительных или предосудительных. Книги, признанные предосудительными тремя библиотеками, не принимаются в библиотеки; сомнительные книги могут быть приобретаемы членами союза, но последние должны препятствовать их распространению. Меры библиотекарей мотивируются интересами общественной нравственности; но ходкия книги распространяются ими без внимания к содержанию, и «безнравственными будут признаны, говорит г. Дионео, вероятно, такие книги, на которые существует небольшой запрос только со стороны высококультурных читателей». Решение союза библиотекарей вызвало негодование авторов. «Стоило ли так упорно бороться с королевской цензурой, чтобы попасть под надзор союза»? – говорят романисты.
VI
Мы брали факты для характеристики капиталистической печати из жизни Западной Европы и Северо-Американских Соединенных Штатов, а не из русской действительности, потому что в этом отношении, как и во многих других, наша страна идет позади своих соседей; русский читатель ищет в печати не только любопытное и забавное, но и поучительное и серьезное, а русский писатель еще не утвердился окончательно на позиции чужого наемника и считает еще себя призванным руководить духовным развитием масс в духе истины, красоты и справедливости. Вряд-ли, однако, кто-либо сомневается в том, что и наша периодическая печать движется в том же направлении подчинения капиталу, а литературная братия понемногу приспособляется к новым условиям работы. И если захват печати капиталом возбуждает в наших писателях попытки организованного сопротивления, то это касается главным образом эксплоатации капиталом самих писателей, а не защита достоинства печатного слова, как средства духовного развития народа. В последние годы в прогрессивных русских газетах стали постоянно даже печататься статьи, оплачиваемые не издателями, а авторами. Пока такие статьи, приняв научную личину, восхваляют только лекарственные средства и помещаются в отделе объявлений, за содержание коих редакция газеты ответственности на себя не принимает. Но уже характерен самый факт разделения газеты на ответственную и неответственную части и помещение в последней не простых объявлений, а настоящих статей. А допущение на странице порядочных изданий рекламных медицинских статей в самое время, когда врачебное сословие сочло необходимым начать организованную борьбу с распространением в публике патентованных лечебных средств и обращается за содействием в печати, – представляется даже пикантным. Молодые наши писатели и читатели, воспитывающиеся в атмосфере постепенного распространения влияния капитала на все сферы человеческой деятельности, не находят, может быть, в факте помещения на страницах порядочного органа медицинских реклам ничего предосудительного. Но ведь таким именно путем постепенного пропитывания капиталистическими тенденциями, а не силой coup d'êtat, когда-то принципиальная и просветительная, напр., французская печать превратилась в средство развращения и духовного усыпления народа. Допустит-ли без борьбы такое поругание печатного слова русский писатель и читатель?

