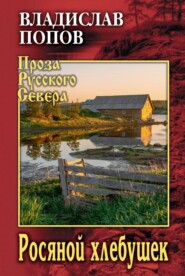
Полная версия:
Росяной хлебушек
Куры завозились ещё громче – надо вставать. Хитриха приподнялась и села, опустив вниз ноги. От пола шёл холод и свет. И, оттого что она поднялась так быстро и легко, у неё закружилась голова, и стеснило грудь, и ещё что-то тёмное и нехорошее пришло, отчего утренний свет в её кухоньке стал не таким ярким и радостным. Она больше не была девочкой, приручающей буквы, она была старухой. Как встрёпанная, нахохленная птица, она сидела на краешке печи и, как птица, поворачивала голову слева направо и обратно, всматриваясь в комнату, будто не узнавая её.
Она была одноглазой. На месте правого глаза светилась мягкая глубокая ямка, затянутая бледной кожей. Привыкшая к одиночеству, она давно не тяготилась им, и каждый новый день состоял из одних и тех же заученных движений и дел, которые совершались как бы сами по себе, в свой черёд.
Когда стало видко и унялось кружение, Хитриха привычно перевернулась и спиной вперёд начала неуклюже сползать с печи, стараясь нашарить ногой печурку. Вот она! Лавка привычно стукнула, но устояла, как и всякий раз. Куры услышали стук и загалдели, просовывая пыльные головы сквозь решётку. Из печи пахнуло тёплым и дровяным.
Хитриха оказалась худа и мала ростом, и потому всюду у неё стояли лавочки: лавочка у печи, лавочка у буфета, у железной кровати с горой подушек. Она совсем бесшумно сновала по кухне, будто каталась. Как птица, вертя головою, вспрыгивала на лавочки, исчезала в чулане, в прилубе и появлялась снова с ношей в руках. Пухнула печь и пошла стрелять жадно и бойко, и в старом буфете отразилось пламя. Дом зажил гудящей печью, чугунком с дымящейся картошкой, часовой гирькой, с треском взлетевшей вверх, запаренной кашей, которую молотили жадными клювами куры.
День начался, но солнце скрылось, и ветер, шурша позёмкой, заговорил на дворе. Старые плакучие берёзы шевелились в окне тёмным, разлохмаченным комом. Дорога была пуста и, у школы сбегая под гору, поднималась выше и пряталась за избами, за тополями. Но Хитрихе было нескучно сидеть у окна, привычно повернувшись к нему левым боком. Она даже помахивала ножкой в разбитом катанце, и её зоркий глаз следил, как мотаются по ветру, переплетаясь в верёвки, длинные пряди плакучей берёзы, и ничего больше её пока не занимало. Все дела переделаны. Ей только хотелось, чтобы кто-нибудь показался на дороге, чтобы не так было пусто…
И когда жёлтый тракторишко, гремя гусеницами, вдруг вывалился из дорожной пустоты и развернулся на месте, поставив углом к избе пустую волокушу, она вздрогнула, соскочила с лавки и прильнула к стеклу единственным глазом: «Кого это леший несё?» Сено на волокуше зашевелилось, и вылез человек в долгопятом чёрном пальто. Он махнул рукой, и трактор, выпустив из трубки коптящую, тут же разодранную в клочья полосу дыма, рванул с места, брызгая под ноги смёрзшимся песком.
Человек подошёл к дому Хитрихи и долго чистился на крыльце – она слышала, как бьёт по сапожищам тяжёлый голик, и ей хотелось, чтоб он поскорее вошёл, хотя знала, что уж если идут, так мимо и не пройдут. Но вот взгремела щеколда, стукнула, пружиня, половица, и дверь сотряслась.
Хитриха не боялась, а даже приплясывала в нетерпенье и теребила фартук: кого несёт? К ней заходили редко, гостями её не баловали. Вошедший оказался председателем сельсовета Воловым, и она удивилась про себя, как его сразу-то в мужике не признала.
– Ну, здорово живёшь, Ефросинья Егоровна! – загремел председатель. – Тепло у тебя! Здоровье-то как, ничего?
Хитриха изумлённо рассматривала гостя, его добротное чёрное пальто с долгими полами, приставшие травинки на широких рукавах, смятую шапку и подробнее – его худое и бледное от снега и ветра лицо. «Ни кровиночки, – прошептала Хитриха, – в лице-то!»
– Ты, батюшка, проходи! – сказала она. – Ты чего пришёл-то? – и повернулась к нему левым боком.
Волов широко шагнул к табуретке, сел на неё, неуклюже расставив свои длинные ноги.
– Я просить тебя пришёл, Ефросинья Егоровна, об одолжении одном. – И, помяв в руках шапку, заговорил: – Ты вот по осени дров сухих просила, я помню, так мы тебе выпишем и привезём, и даже телеги две. Я сам попрошу, Панкрат придёт, всё намелко расколет и в сараюшку твою стаскает, только выручи нас, Ефросинья Егоровна!
– Да чем, батюшка! Я ведь стара стала…
– Ну, стара стала, так ладно! Горенка у тебя свободная есть, просторная, тёплая, возьми на постой человека одного, а дров мы тебе и завтра привезём.
– Да какого человека-то, Иванович? Я ведь не пойму!
– Учителка новая приезжает, Ефросинья Егоровна! Вот на постой её надь определить, а к кому? Ясно дело – к Ефросинье Егоровне! Живёшь одна, места много. Опеть же и нескучно одной. Что скажешь-то? Соглашайся.
– Дак ведь сын у меня есть, его горенка-та! – растерялась Хитриха и ещё беспокойнее затеребила тесёмки фартука.
– Да где сын-от? В Ленинграде, летает, квартира есть. Что ему до этой горенки? Да и когда приедет-то, кто его знает. На воде вилами писано!
Хитриха расстроенно закаталась от стола к печке, вытащила топлёное молоко, пшённую кашу, ладочку с рыбкой выставила – хлебушком помачить.
– Иваныч! Да как? Не воймую я! Стара стала. Садись хоть, рыбки помачь!
– Егоровна! – отмахнулся председатель. – Не до рыбки мне – в школу надь идти. Возьми хоть до весны учителку! Ведь коли у тебя она жить станет, так и ты под присмотром будешь: меньше чуда-то будет!
– Какого чуда? – насторожилась Хитриха.
– А такого! – загрохотал, нервничая, председатель. – Кто в мае картошку садил, а через три дня выкапывал и зевал, что не уродилась, а?
Хитриха вздрогнула и по-птичьи завертела головой:
– Не помню, Иваныч, такого, не воймую! – Единственный глаз Хитрихи блеснул слезой. И Волов крякнул: он уже жалел о сказанном и, чтобы исправиться, потянулся к столу:
– Да ладно, Ефросинья Егоровна, не было ничего, прости грешного, не к ряду ляпнул! А вот хвостик рыбки я, пожалуй, оторву.
– Ешь, ешь, батюшка! – обрадовалась Хитриха. – Говоришь громко, голосу боюсь. Не серчай только. Рыбка хорошая. Панкрат твой принёс, я для него завсегда маленькую держу. Бат, выпьешь?
– Ты, Егоровна, Панкрата, зетюшку, не поваживай. А выпью, когда учителку возьмёшь. Завтра она к ночи приедет – куда ей, бедной? Она ведь не просто так едет-то – детишек учить. А моя обязанность – квартиру ей дать. Так берёшь?
Хитриха растерянно посмотрела на председателя, потом в окно. Ветер не стихал, а только усиливался. В трубе подвывало. И не было никакой подсказки, что делать. Ей хотелось подумать посидеть, а этого ей не давали и требовали немедленного ответа.
– Да ты не реви, Ефросинья Егоровна, не реви, тебе ж веселей! А то одна да одна!
– Я, Иваныч, не реву, да ты крутящий больно – и подумать не смей. Ведь ещё и байну ей надо. Моя-то развалилася.
– Поправим! А пока к Надежде Воловой ходить будет, я договорился.
Хитриха всхлипнула, вытерла нос передником и недоверчиво спросила:
– Иваныч! А с дровами-то не омманешь?
– Да где обманывать-то, Егоровна! Сама посуди: ей ведь, учительнице-то, по закону тоже дрова нужны! Ну и ты при ней, да она при тебе. Вот дело и сладится. Значит, берёшь? Решено?
– Молода хоть девка-та, Иванович?
– Молода. Басёна! Ну, Егоровна, чаи распивать не буду – надь ещё директоршу повидать. Пойдём горенку смотреть.
– Рюмочку-та выпьешь, Иванович?
– Ну, уговорила. Наливай. Промёрз я в этой волокуше, пока ехали. Рыбка у тебя ничего – молодец зетюшка. Да только ты не поваживай его, не поваживай, Егоровна!
Председатель стукнул рюмкой о стол, крякнул, вытер длинной белой ладонью прослезившийся глаз, ущипнул кусочек рыбки и скомандовал:
– Пойдём. Показывай свою горенку.
Горенка и вправду была большая и светлая, в четыре окна. Печь-голландка с пристроенной плиткой. Жёлтые обои в мелкий цветочек. Потолок крашеный. Кровать железная.
– Ну и хорошо ей тут будет! – грохотал басом председатель, расхаживая по горенке. – Воздуха много. – Он широко развёл руки. – Деревню видно. – Он потопал каблуком по половице. – Полы крепки. Спасибо тебе, Егоровна, уважила.
– Дровишек-то привезёшь, батюшка?
– Привезём, завтра и привезём. Кабы не учителка, ждала бы ты дровишек ещё с месяц, а то и больше. Сейчас Панкрат придёт, печку вытопит. Только ты его не поваживай, не поваживай. Спросит – скажи: я выпил. А маленькую спрячь. Рюмку со стола не убирай, будет вещественным доказательством, что я выпил. Ну давай, Ефросинья Егоровна! Жди!
Хитриха вышла за ним и растерянно смотрела, как, торопясь и оскальзываясь на льду, председатель выбирался на дорогу. Выбравшись, он оглянулся: мело снегом, и маленькая, почти детская фигурка Хитрихи сливалась с тёмным проёмом дверей.
– Иди! – махнул он ей. Егоровна неслышно скрылась, будто её и не было.
Новая учительница назавтра не приехала, а объявилась только на третий день, в оттепель. Председатель встречал её у переправы через Устью на стареньком «козлике».
Зачинались ранние сумерки. Чёрные неряшливые ели качались над серой дорогой. Запах сырого снега и размякшей хвои густо висел в воздухе. Устья желтела льдом и свежими досками, брошенными на слабый лёд. Автобус на правом берегу освещал переправу фарами, и люди рваной цепочкой тянулись по слузу. Шлёпали по снегу тяжёлые доски. Вспыхивали огоньки папирос. Женщины ойкали. И председатель, щурясь от ветра и слёз, всматривался в приближающихся людей, узнавая по голосам односельчан и пытаясь угадать среди них новую учительницу.
– Там, там твоя учительша! – поздоровавшись, предупредили его. И он улыбнулся на весёлые слова и нетерпеливо подался вперёд.
– Идёт, боится! – говорили новые.
– Заждался, Иваныч! Замёрз?
– Соскучился?
– Вон она! – подсказали ему. – Ей Колька чемодан тащит!
Она была совсем молоденькой, замёрзшей, испуганной речной переправой, полыньями, страшным льдом, проседающим от каждого шага. Но её тёмные, чуть раскосые глаза удивлённо посмотрели на него, когда он шагнул вперёд, загородив ей дорогу.
– Здравствуйте, Елена Сергеевна! Я – Волов Павел Иванович. Это вы со мной по телефону говорили. Я вас встречаю.
– Здравствуйте, Павел Иванович! Я очень рада! У вас такая река страшная, знала бы, не поехала! Отчего она такая? – сказала она, протянув ему тонкую руку в перчатке.
– Это всё оттепель виновата! Иззябли все? Что на ногах-то? Ботики? Все бы в ботиках в деревню ездили! Ну, давайте грузиться! – и повернулся к Николаю. – Молодец, Коля, помог. Давай еённый чемодан за задние сиденья, у меня ещё пассажир поедет! А вы, Елена Сергеевна, вперёд сядьте, со мной. К печке ближе. И там, в машине, – он смутился немного, – валенки для вас тёплые. Скидывайте, к лешему, ваши сырые ботики и в валенки переобувайтесь. Не хватало ещё заболеть!
– Нет, что вы, Павел Иванович! Я валенки не надену!
– У вас что, в городе валенок не носят? Без разговоров! Мне жонка голову оторвёт, коли я вас без валенок привезу. Так что стесняться нечего. Заболеете, кто детишек учить будет? Я, что ли?
– Павел Иванович это может! – засмеялся Колька уже из машины. – Он полдеревни у нас уму-разуму учит!
– Не спорьте, надевайте валенки! А то последними уедем! – сказал Волов.
Открыв дверцу, он ловко сбил с сапог снег и тяжело вместился в кабину.
Елена Сергеевна послушалась: мелкие ботики и вправду промокли насквозь, и упираться было неразумно. Стыдливо и неловко повернувшись, насколько хватало тесной кабины, она стащила несчастные ботики и страшно удивилась, обнаружив в подставленных валенках толстые шерстяные носки. Настоявшееся тепло тут же мягко и тесно окутало ноги, зажгло иззябшие пальцы, их заломило, и Волов, увидев её слёзы, удовлетворённо крякнул: «Есть контакт! Тепло дали! Щас поедем!» – и, далеко вверх высунувшись из кабины, закричал в темноту:
– Панкрат! Где тебя черти носят? Ехать надо! – и, нырнув обратно, пожалился: – Вот Бог дал зетюшку!
Суета на берегу заканчивалась. Хлопали дверцы машин. Фыркали лошади. «Петце, петце!» – кричал кто-то из темноты. Скрипели ремни. Шуршали тяжёлым снегом полозья. И жёлтый свет машинных фар вырывал из темноты светлые лица людей, рыжие морды лошадей с блестящими мокрыми глазами, оглобли, сани, узлы. Плясали и вытягивались по снегу и деревьям длинные наклонённые тени, и всё вокруг тут же стало казаться Елене Сергеевне чем-то сказочным и нереальным. «Господи, такого просто не может быть! – подумалось ей. – Я-то что здесь делаю? В этом таборе?»
Она вздрогнула: кто-то тёмный и грузный, резко дохнув табаком и, как сырым железом, водкой, впихнулся в машину и заорал:
– Всё, батя, поехали! Прости, опоздал! – и, сунувшись между сиденьями, сверкая пьяными глазами, оскалился: – Здрасьте, Елена Сергеевна! Как доехали?
– Уберись! – пихнул его локтем Волов. – Не пугай человека!
– А я и не боюсь! – обиженно сказала Елена Сергеевна. – Так мы едем?
– Щас поедем! – сказал Волов, поворачивая ключ.
Снег медленно заскрипел под колёсами. Они тронулись, осторожно объезжая лошадей. Дорога раскрылась светом и быстро и сильно побежала навстречу. Редкие снежинки понеслись в глаза, перед самым стеклом превращаясь в белые шерстяные нитки.
И бесконечный свет вечерней дороги, и тёмные деревья по сторонам, закрывающие небо, и мерный рокот мотора, и отсветы невидимых звёзд, порой пробегающие по приборной доске с фосфорическими цифрами и стрелками, и сумеречные руки, сжимающие рядом руль, – всё что-то напоминало Елене Сергеевне старое, знакомое, будто всё это было с ней когда-то или она читала об этом в теперь уже забытой книге… Её глаза закрывались от усталости, мягкого покачивания и тепла. На мгновение, будто его выключали, гул исчезал, как проваливался, и какие-то лица и голоса призрачно вставали и звучали перед ней в ярких и пёстрых красках, толкали и звали куда-то. Она открывала глаза, просыпаясь от рёва, когда, расплёскивая снег и воду, «козлик» взлетал на пригорок и с шумом спускался вниз.
– Дремлется? – посмотрел на неё Павел Иванович. – Это хорошо. Дорога короче. Сейчас приедем. Гляньте-ка!
Лес перестал, открылось бескрайнее поле, ускользающее глубоко вниз, где редкими и тусклыми россыпями горели огни деревни, почти сливаясь вдалеке с огнями звёзд.
– Вот под такими звёздами мы и живём! – усмехнулся Павел Иванович и, взглянув в зеркальце над головой, крикнул Панкрату: – Зетюшко! Хватит спать! Я вас у конторы высажу – там два шага до дому. Коль, проводишь его?
– Сами дойдём, батя! – отозвался невпопад зетюшка. – Ты деушку вези – умаялась, бедная!
Павел Иванович не ответил. Посвистывая, пронеслись мимо деревья, потянулись избы. «Козлик» вылетел на площадь, ярко освещённую высоким фонарём, затормозил, пассажиры выбрались. Берёзы у конторы шумели. Холодный берёзовый ветер нахлёстом врывался в машину. Елена Сергеевна зябко поёжилась, но, слава богу, дверцы хлопнули, и они помчались дальше по длинной и пустой улице.
Дом Павла Ивановича оказался на другом краю деревни. Их ждали. Полина Тимофеевна, жена председателя, поила Елену Сергеевну чаем, говорила о школе. Уютно тикали ходики. От дуновения самовара оранжевый абажур топорщил кисти, лениво поворачиваясь сначала влево, а потом вправо.
– Я повалю вас на русской печке. Вы хоть спали когда-нибудь на русской печке? Нет? Ну вот и поспите, узнаете, что это такое! Поди, только в книжках своих читали, – ласковым, тихим голосом говорила Полина Тимофеевна. – Русская печка, когда иззябнешь, – чистое спасение. А в ботики ваши газет набьём, высохнут. Мой Павлуша-то – я бы не додумалась! – вот смешной: валенки вам прихватил! Видите, как пригодились! А то ботики?! Валенки вам нужны в деревне! Лёнька Попов у нас валенки катает, и такие знатные получаются, тёплые, мягкие! Как у Христа за пазухой, в тепле будете, Елена Сергеевна! Павлуша сейчас придёт – он там с машиной возится – всё вам и расскажет…
Елена Сергеевна внимательно слушала и кивала Полине Тимофеевне, и была рада, что её саму ни о чём не расспрашивают, не толкают, не пристают. Она слишком устала, слишком много было всего. Вся её прежняя городская жизнь вдруг отодвинулась в сторону, а новая только начиналась, и она не знала, какая будет эта новая жизнь и привыкнет ли она к ней. Всё было чужое и незнакомое, но то, что с самого начала её уже окружили вниманием и заботой, удивляло и обескураживало. «Всё не так плохо! – думалось ей. – Но хорошо бы быстрей на русскую печку, завернуться в одеяло и спать, спать…»
– Меня качает, – сказала она хозяйке, – я всё ещё еду!
– Это завсегда так, милая! – охотно откликнулась Полина Тимофеевна. – Меня всю дорогу укачивает. Когда я еду, Павлуша мне окошечко с краюшку – знаете, такое треугольное? – открывает. Я без окошечка никак не могу ездить! Ой, слышите? Павлуша идёт! Промёрз тоже, вас на переправе ожидаючи. Вот смешной!..
Вошёл Павел Иванович, пихнул рукавицы в печурку, кивнул жене и, погремев умывальником, сел к столу:
– Ну, расспрашивала о чём?
– Нет, Павлуша, ты ж не велел. Да и о чём расспрашивать – она ж устала. Сидит, скомнится, ничего не кушает!
Елена Сергеевна, засмущавшись, стала оправдываться:
– Я с дороги устала. Мне пока ничего не хочется. Я вот варенье ем.
– Варенье не еда, – оглядев стол, строго сказал Павел Иванович. – Давай-ка, Поля, суп из печки тащи, а мы тут сообразим дело важное, – и, поднявшись, протопал к буфету, достал водку и заговорщицки подмигнул: – Ну, по двадцать капель?
– Павлуша! Что ты? Что подумает Елена Сергеевна? Вот смешной, не могу прямо!
– Если девка умная, ничего не подумает! Можно в чай – ложечку! А можно и настоечки твоей, Поля, той, которая на травках. Или на ягодках. Один хрен! А за «девку» простите меня, Елена Сергеевна! Присказка такая у меня. Вырвалось!
– Ничего, ничего, Павел Иванович! У меня и бабушка любит разные присказки, она тоже из деревни, с Онеги.
– Как хочешь, Елена Сергеевна! А тарелку супа съешь! – приказала Полина Тимофеевна, появляясь из задосок и ставя на стол горячий чугун. – Суп из печи русской, не едала ещё такого. У меня у Павлуши за ушами трещит. Ешь! Добавки попросишь.
Такого супа из чугуна она и вправду никогда не ела и даже пригубила рюмочку и, раскрасневшись, сверкая глазами, наконец спросила:
– А жить-то я где буду, у бабушки какой-то?
– У Ефросиньи Егоровны! Горенка для вас приготовлена большая, светлая и рядом со школой. Панкрат наш уж третий день её вытапливает. Дрова привезены, сухие, еловые. Панкрат с Николаем чурки раскололи, в сарай снесли. Хорошо вам там будет. Да и бабушка обрадела: не одна хоть!
– А бабушка-то старенькая? Какая она?
– Ну, бабушка… Налей-ка ещё по рюмочке, Поля! Сколько лет-то ей?
– Седьмой десяток, кабыть, одна живёт и сама себя обихаживает. Кур держит. Картошку нынче сама садила. Песни петь любит. Лежит себе на печке и песни поёт. Заслушаешься!
– У меня бабушка тоже песни поёт! Романсы разные.
– Романсы – это хорошо! – заметил Павел Иванович. – А вот насчёт Ефросиньи Егоровны, знаете, Елена Сергеевна, она, как бы вам это сказать?..
– А ты так и скажи, Павлуша! Надо прямо говорить. Вот смешной! Елена Сергеевна, вы только не бойтесь – разные люди бывают! – одноглазая она! Беда такая! Сердце у меня переворачивается! В лесу она работала во время войны, под дерево попала, вот оттого и голова у неё долблёная!
– Что вы говорите! Как же так? – испугалась Елена Сергеевна. – Бедная! А кто-нибудь у неё есть из родных?
– Да никого в деревне, почитай, не осталось, – сказал Павел Иванович. – Муж её, Иван Александрович, ещё до войны помер, в тридцать девятом, от сердца. А сын, Серёга, – лётчиком. В Ленинграде летает. Редко Егоровну навещает. Ну а деньги, посылки там разные, письма – те шлёт.
– А она к нему разве не хочет?
– Что ты, Елена Сергеевна! – воскликнула Полина Тимофеевна, всплёскивая руками. – Её и на аркане не утащить! Разве она бросит свою деревню? Дом тут у неё, куры. Да и причуд у неё полно. Одно слово, Хитриха!
– А почему её Хитрихой называют? – полюбопытствовала Елена Сергеевна.
– Да причуд у бабушки полно! Всё что-то схитрит да удумает, так что потом и не знаешь, с какого бока к ней подойти! Вот перед вашим приездом почтальонка пенсию ей принесла. Так что вы думаете? Спрятала и не помнит куда! Панкрат пошёл дрова вам рубить и нашёл денежки! В сарайку в поленницу запихала! Спрашивает: «Зачем?» – «А чтоб не украли, Панкратушка!»
– Пенсия у неё двадцать пять рублей всего, за все труды её, за все горести! Ломила в лесу, себя не знаючи, – прослезилась Полина Тимофеевна. – Так что думаешь, Елена Сергеевна? Поплачет она, а потом песню запоёт! Вот так и живёт с песнями. Она ждёт уж вас, вчера в окошко все глаза проглядела. Вот смешная!
– Ну, всё, время позднее, Смешная! Одиннадцатый уже. На боковую пора, девушки! – скомандовал Павел Иванович. – А я покурить пойду.
На улице стихло, и ветер уже не раскачивал, надседаясь, тяжёлые от сырости тополя. С крыши не капало. Крупные холодные звёзды зеленели над лесом. Снег обветрился и подмерзал. Павлу Ивановичу было немного досадно, что они с Полиной рассказали учительнице историю с деньгами. «Неладно как-то вышло, – думалось ему. – Да что сделаешь, слово-то не воробей…»
Елене Сергеевне поначалу не спалось. Так всегда бывает, когда сильно устанешь или пересидишь. Она видела сверху, как лунный свет забрался в комнаты и длинные ветки черёмухи протянулись до самого порога. Было тихо, но неспокойно, потому что Елена Сергеевна плохо представляла свою будущность, жизнь в деревне и ждущую её школу. Она немного побаивалась завтрашнего знакомства с Ефросиньей Егоровной. Но усталость брала своё. Глаза слипались. Ровное печное тепло шло снизу, обнимало и томило её. Ей мерещилась дорога, освещённая вздрагивающим светом фар, круглые окошечки, мерцающие в кабине, река с проседающим льдом. И всё казалось ей, что она едет, едет, и просыпалась, вздрагивая. В лунном свете тускло светился самовар, холодным льдом светилась чайная чашка. Елена Сергеевна задёрнула занавеску, чтобы не видеть этой сияющей ночной пустоты, и только тогда уснула спокойно и крепко до самого утра.
– Мы пешком-то почему пошли? – объяснял наутро Елене Сергеевне Павел Иванович. – Деревню хоть посмотрите! Красивая у нас, однако, деревушка. Родом-то я сам не отсюда, с Едьмы, ну да вы всё равно не знаете. Приехал сюда по распределению лет двадцать назад, и вот тебе – прикипел. Хорошо у нас тут, привольно! Вам понравится. Народ у нас добрый, отзывчивый.
– Я уже поняла! – улыбаясь, сказала Елена Сергеевна. – Меня на реке ваш Николай вчера напугал: схватит как чемодан, давай поднесу! А я и так боялась: в автобусе про переправу такое страшное рассказывали, договаривались – все вместе пойдём, а вышли – как побегут! Я и растерялась. А тут Николай!
– А что Николай? Николай у нас – молодец! Первый помощник отцу! Поглядите-ка, как хорошо у нас! Вольно!
Они остановились на горушке. Здесь высокие двухэтажные деревянные дома (Елена Сергеевна не могла назвать их избами!) расступились, раздались по сторонам и открыли широкую заснеженную ручеину. Приземистые баньки гуськом тянулись по берегу, и над каждой столбом висел сиреневый дым, подсвеченный утренним солнцем. Галдели галки над высокими тополями. Воздух был морозен и свеж и пах, как говорят, яблоком. Старенькая школа – на неё указал Павел Иванович – виднелась далеко за кустами. Где-то брякало ведро, и звонко крошился лёд под ударами.
– Нравится? – спросил Павел Иванович.
– Да! Как на картинке! – восхищённо призналась Елена Сергеевна.
– Бани сегодня, – важно сказал он. – Ишь, как топятся.
Они спустились на плотину через ручей. Здесь было холоднее. О дорогу шумела вода, невидимая подо льдом. И хотелось поскорее подняться в гору, чтобы с новой стороны посмотреть на деревню. На горе нагнал Николай с чемоданом. Широкие сани крепко пахли подмёрзшим сеном. Лошадка часто дышала боками и косилась влажным выпуклым глазом.
– Седайте! Мигом донесу! – весело крикнул Николай. – Елена Сергеевна, вот пологом укройтесь. Чай, не катались на лошадках-то?
Она неловко села, чувствуя под собой твёрдое дно саней и не зная, за что держаться. Павел Иванович и Николай, привычно встав на колени, вдруг разом громко чмокнули губами. Вожжи хлопнули, и лошадка понеслась, мотая хвостом и высоко и страшно подкидывая задние ноги. Сани загремели по замёрзшему дорожному льду, забухали, затряслись. И Елене Сергеевне стало больно и неловко от этой мелкой и частой тряски, но, заглянув в весёлые и разгорячённые лица отца и сына, она вдруг сама поддалась их восторгу и, придерживая шапочку, стала храбрее смотреть по сторонам.
За поворотом Николай стал придерживать лошадь, она недовольно оглянулась и побежала мелкой рысцой, потом резво завернула направо, возле больших берёз, будто угадав, и остановилась у пятистенной избы с низкими серыми окнами, кособокой верандочкой. Над домом на длинном шесте торчала скворечня. Во всём читалась бедность и одинокая старость. И сердце Елены Сергеевны, только что жившее радостным испугом и восторженным удивлением, вдруг болезненно сжалось от предчувствия встречи с хозяйкой дома.

