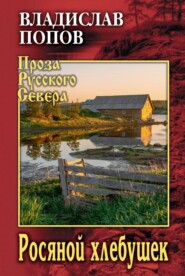
Полная версия:
Росяной хлебушек
Темнеет быстро, ветер поднимается и бьёт в синие окна. Снег, белая крупка, липнет, как мокрым пшеном, к раме и тает. Я заглядываю в карман. Звёздочки оттаяли, я глубоко вдыхаю, зажмурясь, и кажется, малиной пахнет, слабо, сыро и грустно…
Этого апреля я совсем не помню: так быстро пролетели все его дни, серые, скучные, сырые. И вдруг утро! Синее, стеклянное, солнечное! Форточка открыта, и ветер, мягкий, упругий, влетает в комнаты, шуршит повсюду и в лицо тычется тёплым, влажным, обвивается и томит. Занавеска летает. Я по лавочке хожу, длинной, вдоль всех четырёх окон, окно растворяю – хоть и нельзя, да хочется – и гляжу, как далеко-далёко впереди, за кустами, домами, горками в начёсах старой травы, крошево льда по реке несёт, по Устье, и вода нет-нет и облеснёт ярко-синим.
Бабушка неслышно подходит, закрывает ставенку, не ругается. И вот мы уже сидим на лавке и цветочки плетём на Пасху.
Бабушка плетёт из конфетных бумажек, рубликов, связывает лепесточки ниткой и говорит: «Это роза, а это тюльпан, сейчас сделаем гвоздичку!»
Она улыбается, нюхает цветок: «Шоколадом пахнет!»
Из фольги конфетной делаем рюмочки, чашечки, блюдца. «Это для твоих игрушек, чай будут пить и вино! Вечером яички будем красить и расписывать. Ты помогать будешь…»
«Это васильки!» – говорю я бабушке и показываю синие цветы.
«Нет, васильки не такие, у тебя колокольчики вышли. Васильки как гвоздички. – Она берёт мой цветок, поправляет и разглаживает. – Видишь?»
Столько лет прошло, но почему так запомнилось это майское утро – добротой, теплом? И это окошко в сад, где уже тронулись робкой листвой смородины и черёмухи, где длинные полосы света и воздушно петлистые тени пронизывали всё насквозь и заранивались в окна; серебряные рюмочки в ряд на подоконнике и бумажные цветы в бабушкиных руках.
Вечером мы идём к домовладелице пить чай, обходим по досточкам большую прикрылечную лужу, смущающую меня своей заманчивой шириной, и в тени по несчастному снежку до нового крылечка. У хозяйки садят за стол, перед зеркальным самоваром, он так начищен до солнечного блеска и так горит медью, что слепит глаза и пускает по стенам и потолку огненных зайцев. Зайцы пляшут и скачут повсюду, и на белых чашках и блюдцах тоже перемигиваются и перелётывают солнечные огоньки. И занавески над окнами также вздуваются, дышат нагретой тканью, почками из сада и опадают. Самовар жарко сипит, стреляет искрой и скрюченными угольками. Хозяйка накладывает варенье, ставит на деревянную досочку неровные брусочки рафинада, в сахарной пыльце, как в морозном инее. Бабушка начинает колоть сахар щипцами и пить вприкуску.
«Не фыркай!» – приказывает бабушка.
«Фыркай, фыркай! – говорит домовладелица. – Ты не дома! Чай у меня хороший, тридцать шестой, чай в гостях вкуснее!»
Но я скоро напился чаю и просто сидел, вертя головою. Стены у домовладелицы никогда не знали обоев, тёмные, тёсанные гладко-гладко, они дышали старым натруженным деревом; смуглые лики в серебряных гроздьях винограда строго смотрели с икон. Дорожки из пёстрых тряпиц бежали по некрашеному полу, вышорканному до белизны. Песчинки дресвы искрились вдоль стен. И всё было чисто, мило, уютно.
Хозяйке я понравился: тихий, скромный, вежливые слова знает, она же, слава богу, не видела, как я в самовар рожи корчил. Впрочем, назавтра я перед ней провинился: на калитке катался, оттолкнёшься и над лужей едешь, а потом назад, со скрипом. Калитка поскрипывает, но везёт, и вдруг – оборвалась! Хотел на место приладить, не вышло. Бросил и убежал к Ваське Шабанову.
Шабанов учит меня на велосипеде кататься, посадит и оттолкнёт, я проеду немного и упаду. Он смеётся, но не дразнится. Вылезаю из-под велосипеда, а бабушка моя хвать за ухо: «Я тебе сейчас покажу, как калитки ломать!»
У дома, где тень, вырыта яма, яркая жёлтая глина весь снег испятнала. Мне можно только здесь, на крылечке, сидеть – у меня нет галош, я их потерял. В валенках не побегаешь, в луже не поплюхаешься, и я с завистью смотрю на Люсю, запускающую бумажный кораблик. Люся живёт на верху дома, её дверь налево. Она всё ходит в белом платочке: у неё громко стреляют простуженные уши. Вдруг ветер подхватил Люсин кораблик и занёс на самую середину. Люся плачет, бегает по краю и даже прутиком достать не может. Я кубарем в лужу, сунулся – глубокая! Всё равно пропадать! Схватил кораблик, а бабушка уж на крыльце стоит, затащила домой да сырым валенком отшлёпала.
Люся зашла, а бабушка кричит: «Никуда он не пойдёт, раз в валенках по лужам скачет!»
Так и просидел я дома не то день, не то два. Скучно!
Солнышко весь снег растопило, даже в тени без снега, и на полу так и горят жаром рыжие квадраты. Ручей разлился, и с лавки через заборчик видно, как струится и переливается ручейная вода. Вот бы мне кораблики позапускать, да нельзя, бабушка не разрешает. Сижу в окне и скучаю, вдруг вижу: мама по дорожке к дому идёт, увидела меня и улыбается хитро. Приносит свёрточек, а в нём галошки новые, чёрные, с красной баечкой, и вкусно резиной изнутри пахнут. Гулять можно! Я тороплюсь, а бабушка, как нарочно, всё проверяет и проверяет, так ли рубашка заправлена, все ли пуговицы застёгнуты. Вырвался, вылетел. Люся! Не видно Люси… Забрёл в садик, сел на скамеечку. Кора черёмуховая от воды припухла, преет, пахнет душисто, как одеколоном, горчинкой тянет. Сквозь старые листья красные витые иголочки лезут.
«Мам! – кричу я в окошко. – А почему травинки красные?»
Мама глядит в сад: и вправду какие-то красные стебельки вылезли и в улиточку свернулись. «Наверно, солнышка в тени мало, вот и красные».
Под скамеечкой я нахожу козьи ножки, тоненькие, газетные, пополам согнутые, кто-то махорку курил. Я подбираю самую длинную и играю, что курю. Тут Люся прибегает, светленькая, смешная, платок набок сбился, и стрелячее ухо торчит.
«Я уже курить умею!» – хвастаюсь я Люсе.
«И я тоже!» – подхватывает Люся и подбирает свою козью ножку. Мы перебираемся на наше крылечко и там весело «курим» на горячих ступеньках.
Люсин платочек, как снег, светится, а жёлтое пальтишко всё в заплатках, живого места нет. Тут калитка стукнула – Люсина мама и моя бабушка с авоськами из лавки идут, увидели нас, остолбенели и ну ругать! Опять я пострадал: не разрешили Люсе со мной гулять. Куряка я! И калитки ломаю, и в валенках по лужам сигаю. Всё припомнила бабушка, и даже рожи самоварные!
Но недолго я бегал в новых галошках, недолго радовался, на второй день провалился в яму, в холодную, жуткую воду. Вынырнул и так закричал, что услышали, вытащили. Помню пальтишко своё, жёлтое скользкое от глины, руки чьи-то трясущиеся и ещё что-то, страшное, ледяное, чёрное, сжавшее меня изнутри…
Я заболел, поили меня молоком с пенкою, лепили на спину горчичники, и, когда к вечеру подступал жар, всё чудились мне бабушкины гадальные карты, огромные, тяжёлые, они ярко вспыхивали на мглистом жёлтом небе, что-то предсказывая мне, и гасли, рассыпая беззвучные белые искры. Или яйцо казалось, большое, белое, и голос чей-то шептал: вот разобьётся яичко, и ты умрёшь…
Прошло недели две, я поправился, хоть и был ещё слаб.
Бабушка пошла полоскать на ручей, под горку, и меня, сжалившись, взяла. Ручей в деревне мелкий, но широкий, с песчаными косами и камешником. Под водой камешки светятся чисто-чисто, яркие, разные, есть и серые, и жёлтые, и красные, и зелёные, как трава, и в полосочку, и в крапинку. Солнечные зайчики так и скачут по камешкам, торопятся, бегут, переливаются, и каждая галечка в воде как живая.
«Давай покажем маме! – предлагает бабушка. – Выберем самые красивые!»
Я выбираю красные и зелёные, один жёлтый и ещё один синий с белыми крапинками.
«Жёлтый, – говорит бабушка, – это солнышко. Видишь, какой он круглый! А синенький – будто небо с облачками!»
Камешки высыхают и становятся скучными. Мы находим ржавую банку, опускаем в неё сокровище, водой заливаем и идём в гору. Высокие сосны гудят над нами, и ветер посвистывает в длинных иголках. Ручка у корзинки поскрипывает, и снизу из корзинки каплет. Я иду за бабушкой и смотрю на корзиночный дождик.
Дома наши камешки ныряют в стеклянную банку, светятся там, как живые, и ждут маму. Мама приносит из школы букет черёмухи, снежно-белый, пушистый. Мы по очереди нюхаем цветы и смеёмся. Я нюхаю и чихаю. И оттого, что все смеются надо мной, чихаю ещё раз, нарочно…
Скоро мы уезжаем в город. Полетим на самолёте. Я так радуюсь самолёту, будто сейчас полечу, хлопаю в ладоши и на улицу бегу, и, задрав голову, смотрю на огромное небо, на облака, и думаю: вот бы их рукой потрогать!
«Люся, я домой по небу полечу!» – кричу я радостно. Люся смотрит на небо со мной и молчит, тихая такая и бледненькая.
Но не было самолёта, а было утро, холодное, раннее, без ветерка. Тени от конторских берёз длинные, сизые – вся дорога в полосочку. У маминой школы ещё сумерки, лишь у колодца дрожит, как шевелится, светло-зелёное пятнышко.
В автобус, серенький, пропылённый насквозь, только сели, а он уж летит всё выше и выше, в горку, в горку, и за мутным, расцарапанным окошком домелькивают серые избы и кузница. Подъём круче, и автобус уже отчаянными рывками, захлёбываясь, втаскивается на гору, замирает, как в одышке, и я успеваю увидеть всё Строевское, спящее далеко внизу и всё залитое июньским зелёным светом.
Потом паром через Устью. Деревянный толстый настил облеплен каменной глиной, и глинистый запах мешается с запахом утренней реки. Мужики упираются тяжёлыми шестами, другие, натужась, тянут на себя канат, барабан лязгает и стучит. Паром трогается, раздвигая низкий туман, и вода, гладкая, чёрная, журчит по краю; длинные серебристые, наклонённые набок воронки шипят и вьются, и убегают в туман. И мы плывём, плывём, плывём навстречу солнцу…
Лето, весёлое и беспечное, пронеслось быстро. Я не успел и оглянуться, как пришла сухая и тёплая осень, и город наш далеко-далеко. Вроде только вчера я сидел на горячей крыше городского сарая, а сейчас копаю картошку на сыром деревенском поле.
День ясный и чистый, на вылинявшем небе ни облачка. Тихо. Звякнет жалобно дужка ведра, да скрипнет щелястая скворечня на высоком шесте. Земля, холодная, рассыпчатая, пахнет вялой ботвой и прячет клубни, круглые, белые. Красных совсем мало. Мелкие я собираю в корзинку, а крупные бабушка с мамой – в ведёрышко. Руки зябнут, вот бы костёрок распалить, и я радуюсь, когда мы разжигаем костёр. Белый дымок сквозь тонкие палочки пробирается струйкой в небо. Вот он осмелел и глаза стал есть. «Дым, дым, я масла не ем!» – и он отлетает от меня наискось, но слёзы бегут. Скорее бы угольки поспели – картошку печёную будем есть! Мама вытирает платком мои глаза, а потом мои руки, красные, как у гуся, измазанные землёй и углём. А гуси, будто услышали нас, потянулись растянутым угольничком, и их жалобный, замирающий крик долго плутает над Гарью.
Картошки поспели. Мы сидим на ботвиной куче и из чёрных жарких скорлупок выгрызаем жёлтую рассыпчатую мякоть. Крупная серая соль в спичечном коробке, сырая, с песчинками, угольками, но вкусно-то как, вкусно! А гуси всё кричат, жалуются, но где, не видно…
Назавтра я прибегаю к дому, где мы жили прошлой весной. Та же калитка на пружинке, та же дорожка вдоль заборчика, малина знакомая, и крылечко, и черёмуха, а Люси нет.
«Люся! Люся!» – кричу я, но она не отзывается, и дверь их, слева, закрыта, и батожок к ней приставлен.
Люся приходит сама, когда я на крылечке сижу.
Наша новая хозяйка, Анна Ивановна, принесла мне полное решето гороха: «Налущи-ка, да и сам поешь! Смотри, какие поросята!»
Стручки твёрдые, крепкие, а нажмёшь пальцем, громко щёлкнут и вспорются, брызжа зелёным соком. Горошины сладкие, толстые. Хозяйкины куры рядом с крыльцом возятся, суетливо толкутся и клюют выстрелянные горошины, шаркая мозолистой лапкой. Глянул я на улицу, а там Люся стоит, на меня смотрит! За воротцами. Я вскинулся и ей всё решето утащил: «Ешь!» А она взяла горошинку и молчит. Вся маленькая такая, тихая, платьице голубенькое всё застирано, почти беленькое стало, и сандальки на ножках облупленные.
«Мы на днях из города приехали! – весело хвастаюсь я. – Мы уже картошку копали, я её в углях пёк!»
А Люся вертит горошинку и молчит, вдруг сорвалась и побежала – мама домой зовёт. Помню, перегнулся я через воротца и долго смотрел, как Люся бежит от меня. Мелькают ножки, торопятся. Целый месяц я Люсю не видел…
Через неделю мы переезжаем в новый дом, под горой Гарью, к Евлампиевне. Наш нехитрый скарб тянет по осенней грязи волокуша. Трактор лениво ползёт в гору и пёрхает чёрным горячим дымом. Я сижу на волокуше, придерживаю узлы и смотрю, как отливает бледной синевой широкий волокушин след.
Дом Евлампиевны старый, в два этажа. На первом этаже клети, хлева и ветхие, осыпающиеся погреба. Второй этаж – жилой. В доме, как на корабле, полно разных скрипучих лесенок с перильцами, приступочек, низеньких и высоких дверей с толстыми медными ручками, кладовочек с пыльными окошечками и вечными керосиновыми лампами и сараюшек внизу с почерневшими дровами.
В первый же день я исследую всё, и даже чердак. Трясясь от страха, я забираюсь по узкой лесенке на подволоку и там по щелястым, скрипучим доскам крадусь к печной трубе. Как всё поскрипывает… Только в детстве всё может так таинственно скрипеть.
Потолочные доски прогибаются, кряхтят, и сквозь страшные разъятые щели далеко внизу, под ногами, виднеется яркая лестница, сенцы, залитые длинным вечерним солнцем, и раскрытая настежь дверца, и всё кажется таким маленьким, будто смотришь в перевёрнутый бинокль. Я замираю, как вдруг последняя доска, отпружинив, резко стреляет сухой пылью, я вздрагиваю и, спасаясь, перепрыгиваю через бревно. Оглядываюсь: солнечные лучи так и бьются в горячке, под дрожащие доски, и в них мельтешат и толкутся, как в ступке, моргающие пылинки.
Когда унялось сердце и прошла противная дрожь в коленках, я вижу, что весь полутёмный и душный чердак над избами завален жёлтыми коробами из лыка, ушатами, крашеными граблями, жестянками, пыльными грудами старых газет и тетрадей. Я подбираю гладкие челночки, похожие на греческие лодочки из маминого учебника по истории. У них тонкий носик и слева и справа – такие кораблики замечательные выйдут! Я озираюсь: впереди шаткие кросна с недотканым половичком, на нём пёстрые пятнышки светятся, – и окно, яркое, белое, глубокое, так и выпячивается, и зовёт к себе из душного мрака. Я потихонечку, по шажку, подбираюсь к нему, как к полынье. И из белого света постепенно проступает мир. Господи, глубь-то какая! Страшно в неё заглянуть! Голова кружится. Я стараюсь не смотреть вниз, за подоконник, в жёлто-зелёное страшное дно, где все огуречные грядки, малина, тропинки, залитые мягким вечерним сиянием, – всё чужое, не такое отсюда, с высоты, незнакомое, затягивающее. Я еле отвожу глаза и вижу дорогу, начальную школу, берёзы и крыши в тени, тёмные, чёрные, серые. Я перебираюсь на край, за стену, она толстая, колючая от засохшей смолки и крепкая, за ней не страшно. И окошечко сразу не такое, доброе, всё в паутинках, куколки бронзовые, как капельки вытянутые, висят, ну как игрушечки, и на подоконнике кем-то травки оставленные, листики. Тронешь – они рассыпаются. И так хорошо стоять и всё за окном рассматривать. Снизу стуки, шаги глухие – это бабушка ходит, ужин готовит, чего бояться. Теперь я здесь живу! Вон месяц над Поленнихой вылез, бледненький, как облачко, и тени потянулись, длинные, синие, через кусты.
С челноками, с ржавыми ключами за пазухой, с гильзой зелёной, губу закусив, я пробираюсь по вертячим досочкам назад и по лестнице – кубарем вниз! – прятать сокровища на повети в углу за рухлядью.
Каждое утро бабушка уходит в лес на разведку, места узнавать, а я остаюсь дома, слоняюсь по комнатам, выстругиваю лук и стрелы или на подоконнике сижу – жду маму. Она всё не идёт из школы, и я выбегаю на поветь посмотреть в узенькое окошечко: не идёт ли бабушка из лесу?
Бабушка всегда приходит первой. Усталая, довольная, она приносит в корзинке зелёные еловые рыжики, мохнатые волнушки, красные головки мухоморов («в молочке замочить – мух не будет!»), ломкие беляночки, боровые коньки и мне – кисточку ягод. Кровавой бруснички, или костяники («У неё косточка как сердечко!»), или толокнянки («Медвежье ушко!»), ягодка сама красная, а внутри сладкая, белая, мучнистая.
Помню, как бабушка садится за стол перебирать грибы. «Возьми-ка нож и тоже учись грибы чистить! Вот маслёнок, с него вот так снимают шкурку. А вот так чистят подосиновику ножку».
Грибы холодные, твёрдые, настывшие за ночь. Крепкие шляпки усыпаны рыжей колючей иголкой. На всю кухню пахнет грибным лесом, мохом и отопревшей листвой.
Бабушка чистит и рассказывает про лес, как они шли с тётей Надей Воловой люпиновым полем, как сначала было холодно – руки мёрзли! – а потом, в осиннике, стало тепло, как прячутся грибы и как их правильно искать («Гриб-грибочек, покажись, дружочек!»), и ещё про зайца, про росомаху и росяной хлебушек.
«Положишь горбушечку на пенёк и ждёшь. Упадёт на неё небесная роса, и будет горбушечка вкусной, солёненькой!»
«А ты мне покажешь?» – спрашиваю я.
«Покажу!» – хитро улыбается бабушка.
Приходит мама, слушает нас и говорит: «Это не росяной хлеб, а лисичкин».
«Росяной! Не выдумывай!» – спорит бабушка и сердито мешает грибы на сковородке.
Грибы шипят, сметаной плюются – не хотят жариться.
«Сбегай-ка за укропом к Евлампиевне, там, поди, на грядке чего осталось!» – просит бабушка.
Я лечу во двор и среди укропа нахожу огурчик, маленький, с мизинчик, разгрызаю – вкусно, холодно внутри, пупырышки шершавые, колючие. Не хочется в избу идти. Небушко тёплое, синее, низкое, за деревней трактор рокочет, землю под снег пашет. У соседей наконец-то картошку убрали, и далеко и остро пахнет из кучи лежалой ботвой…
Наутро меня берут за грибами. День не то что вчера, серенький, тёпленький, парной, как молоко с пенкой. Мы поднимаемся в гору, слева, в яме, туман шевелит ушами и за нами ползёт.
«А ну-ка, сколько грибов принесём? – весело смеётся бабушка. – Кидай корзинку!» Наши корзинки летят, подпрыгивают, и моя на бочок валится.
«Полкорзинки принесёшь! Сворачивай-ка сюда!»
Мы обходим овраг, забираемся на самую макушку и видим лес, сырой, прелый, тёмный. Бабушка устала, и мы садимся на валежину отдохнуть. В воздухе корябушка висит, дождичек такой, мелкий, липкий, до земли не долетает.
«Смотри-ка, рыжик! – удивляется бабушка, раздвигая листочки. – И ещё один, а ну-ка, пошарь вокруг».
Меня и заставлять не надо! Горбатенькие, яркие, прячутся и здесь и там, и такие тугие, крепкие, ни одной дырочки! А ведь недалече ушли: вон деревня внизу видна! Запыхавшись, я сажусь рядом с бабушкой.
«Вот и донышко скрыло! – одобряет она. – Смотри, какие сосенки растут. Вон та, наверно, с тебя ростом! Иди померяйся с ней!»
Я меряюсь – мы одинаковые!
«Вот будешь сюда за рыжиками приходить и сейгод, и на следующий год и с сосенкой будешь меряться: кто скорей вырастет».
Мы повязываем сосенке тряпичную ленточку, чтобы приметить её, и идём к ручью, к Большой берёзе.
В лесу тихо, сумрачно, сыро. Вода капает с веточек. Я оглядываюсь: росомахи боюсь. Бабушка рогатиной раздвигает траву, грибы ищет. И я с ней, но весь в пуху иван-чая измазался, и лицо в паутине. Утираюсь сырым рукавом и слышу, как рядом синичка посвистывает, тоненько, звонко, хлебушка просит.
Я нахожу волнухи, толстые, грузные, водой налитые. Все пластиночки в ржавых веснушках и в капельках молока. Такие же капельки у одуванчика бывают, когда сорвёшь.
«Почему у волнух такие капельки белые?» – спрашиваю я.
«Это значит, гриб съедобный», – поясняет бабушка.
Корзинки уже полные, тяжёлые, руки оттягивают.
«Своя ноша не тянет! – вздыхает она. – Пойдём домой блины жарить!»
С полной корзиночкой не побегаешь, тащишь её, а она скрипит-поскрипывает, и бабушкина тоже – скрип-скрип! Мы идём о стену леса, хорошо идти, хоть и тяжело, вязель тянется, но я терплю: своя ноша не тянет! Впервые столько грибов набрал!
Вот и ворота в деревню. Открыть и закрыть, плотно, по-хорошему. Вот уж дом тёти Августы виден, а рядом наш, высокий, с пряслами. Дома, гордый, довольный, плюхаюсь на деревянный диванчик: увидит мама грибы, то-то удивится!
С полей мы приносим васильки и ставим в банку на подоконник. Через неделю они отцветают, и их сухие корзиночки потрескивают и семенами сорят. Семена маленькие, треугольные, со щетиночкой. Я их собираю в ладошку и на двор отношу, на ветер: пускай и у нас васильки цветут подоконные…
Назавтра солнышко поднимается над Поленнихой всё выше и выше, бледное, молчаливое. Я сижу на лавочке и бабушку жду. Соседский пёс Дунай через поле ко мне приходит, тощий, жёлтый, башка костяная, как у волка, тычется сопливым носом, хвост-полено весь в череде. Бабушка подходит, кормит с руки Дуная, и он провожает нас до околицы.
Как пусто кругом, темно. Солнышка нет, спряталось, и ручей теперь скучный, серенький. За Берёзой все поля распахали, лежат теперь тихие, молчаливые, как и солнышко утреннее.
У рощицы – ёлочка на боку! Плугом вывернуло, но не сломало. Бабушка расстроилась, заворчала, и стали мы ёлочку поднимать. Подняли и вокруг землицы насыпали – живи! И помню, как мы идём мимо, так и остановимся: дашь ли нам грибков?
«Пойди проверь, – говорит бабушка, – а как найдёшь, ей спасибо скажешь!»
Я по рощице пробегу – она маленькая, с пятачок, – и всякий раз найду то рыжик-еловичок, то волнушечку, то подосиновик, и тороплюсь к бабушке:
«Нашёл, ёлочка грибки показала!»
«Вот видишь, ёлочка добром нам платит!»
Здесь, между полей, – полосочка, лесочек берёзовый, и беляночек – как насыпано!
«Гриб-грибочек, покажись, дружочек!» – шепчет бабушка и траву ворошит.
И я за ней подтягиваю: «Покажись разочек!»
Вот он, вот он, красная маковка, сквозь землю прошёл, красную шапочку нашёл!
За Гарью, в сырой облетевшей чаще, мы наткнулись на грузди, огромные, как суповые тарелки. Одни прятались в зелёных подушках моха, другие – среди травы. Я подрезал их перочинным ножичком, и они, холодные, зернистые, так и морозили мои пальцы. В каждом грузде было озёрко студёной воды. Я сливал прозрачную воду и прятал груздь в корзинку. Уж грузди кончились, а я всё бродил вокруг да около, рвал нитяные паутины, и губы мои саднило от горькой грибной воды, и на сердце было грустно и радостно, и не знал я, чего больше у меня, грусти или радости.
Домой идём, справа поле, слева поле, посередине – дорога длинная, песчаная. Маслята – в отдельной корзиночке, жёлтые, молочные.
Так и стал я бродить с бабушкой по лесам и опушкам. Гарь, Божья Гривка, Поленниха, Большая берёза – все места были нами исхожены и иные тоже. И те осени в Строевском, светлые и грустные, тёплые и холодные, с солнцем ли, с дождём ли, стали для меня спустя годы одной долгой, счастливой осенью.
Мы всё чаще и чаще уходили в лес. На вырубки – за беляночкой, за Третьи ворота – за брусникой. Пока бредёшь через овсяные и льняные поля, так устанешь! А попьёшь воды из родника, и усталость снимет.
Вода в ключе студёная, песчаное донышко чистое. Солнышком осветит – как золотое, каждая песчинка и складочка видна. Пьёшь из кружки медленно, глоточками, много-то нельзя, только чуть-чуть. Зубы ломит. Хорошо бы посмотреть, куда ручеёк бежит. Ведь только что был и спрятался под таволгу, под смородину красную, а травка-то выдаёт – шевелится, да и сам он где-то взбулькивает.
«Пойдём хлебушка поедим!» – хитро улыбается бабушка, и мы идём к нашей отметинке, откуда в лес заходили, там на пенёчке хлебушек росяной! Душистый, холодненький.
«Видишь облачко? – показывает бабушка на небо. – Это оно летело и росу оставило! Ешь с брусникой, вкусно!»
Осенние дни разные, одни тянутся, как серые тучи над Поленнихой, а другие радостно и скоро пролетают.
Помню один вечер. Наловил мне Васька Шабанов в баночку рыбок. Одна рыбка была, как сомик, с усиками, гыч называется. В баночку я наложил камушков, травинок и домой побежал, а пока бежал, всю воду из баночки расплескал. Вспомнил, что у дома дождевая бочка, стал воду доливать, а бабушка тут как тут – «Ах ты, живодёр!» – и пошли мы на речку рыбок выпускать.
Уж сумерки, до Устьи далёко, луг сырой, у меня в сапогах вода хлюпает, у бабушки подол намок. Вот и берег, глинистый, скользкий, ивой крепко пахнет, вода тёмная, как чай, и я боюсь подступать к ней.
«Ну, отпускай теперь, душегуб!» – приказывает бабушка. Я наклоняю баночку. Рыбки выпрыгивают и пропадают. Один только гыч на мели остался. Я его подталкиваю пальцем, и он тоже исчезает, как и не было!
Мы с бабушкой молча поднимаемся наверх. Берег высокий, еле вылезли, а оглянулись: лебеди! Большие, белые, они плавали под чёрными елями, и серебристые круги разбегались и таяли вокруг них.
Почти в потёмне мы подходим к дому. Из травы вылетают последние мотыльки, мигают белой изнаночкой крыльев, кружатся, ныряют вокруг и лицо щекочут. Лёгкие, беленькие, почти прозрачные.

