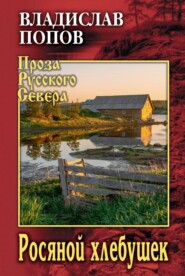скачать книгу бесплатно
А за окошками синё, и, если продышать дырочку, увидишь фонарь у школы или кого-то, кто идёт с «летучей мышью» по мёрзлому снегу.
Завтра с утра опять будет праздник, о нём сообщит гром оловянного таза, и днём мы пойдём с бабушкой в кино – в наш клуб привезли новую картину. Я любил кино, и мы с бабушкой не пропускали ни одного фильма. Мне нравилось возвращаться уже поздним вечером домой, когда яркие колючие звёзды усеивали небо, и тропинка, снежная и глубокая, петляя от колодца, вела вниз, к ручью.
Помню, как снег поскрипывает, я – впереди, а бабушка сзади идёт и держит меня за шарфик. На горке мы останавливаемся передохнуть: неловко идти – тропинка узкая. За ручьём в тишине огоньки горят, реденькие, слабые, а над ними месяц претоненький.
Я нечаянно вспоминаю чёрта, который месяц с неба украл, и становится страшно, жутко.
«Пойдём!» – тороплю я бабушку, и мы снова идём, и я всё оглядываюсь, вдруг чёрт из-за бань вылезет.
Огоньки, весёлые, жёлтенькие, кажутся такими далёкими. Скорей бы до них добраться! Там не страшно, там собаки лают. Джек выскочит, мохнатый, заиндевевший, начнёт ластиться и в глаза заглядывать. Там и фонарь горит у начальной школы, на столбе под тарелкой железной. Когда ветер дует, тарелка жалобно гремит и раскачивается, и широкое жёлтое пятно ходит туда-сюда по дороге.
«Посмотри, как снежинки суетятся! – показывает мне бабушка. – Как летом мотыльки!»
И я смотрю, как большие, пушистые снежинки лениво кружатся у тарелки, а та им побрякивает: «Бум-бам! Бум-бам!»
У меня в тот вечер случился и другой праздник, которого я даже и не чаял. Бабушка решает заглянуть в деревенский магазинчик, в тёмную избушечку с высоким навесом и крылечком.
«Обметём-ка ноги!» – говорит бабушка и жёстким взъерошенным веником весело бьёт по нашим валенкам.
В магазине лампочка тусклая едва освещает бедные деревянные полки с тёмными гранёными стаканами. Рядом керосинки, жестяные вёдра, тазы и пыльные пузатые стёкла для ламп. Но я вижу одну только рыбу, рыбину, жёлтую, резиновую с плавниками зелёными. Вот бы бабушка мне её купила!
«Ну, вовремя зашли, – говорит из темноты продавщица, – я уж закрываться хотела».
«А мы рыбу пришли покупать!» – сообщает бабушка и хитро улыбается, глядя на меня. Она мне купит эту рыбу! Я не верю своим ушам!
Дома на полу я надуваю свою игрушку. У меня кружится от надувания голова, а рыба шипит и посвистывает в дырочку, и, как живые, шевелятся и вздрагивают её зелёные плавники. Надулась, не лопнула! Я торопливо дрожащей рукой затыкаю дырочку и подкидываю рыбу к потолку. Она неуклюже взлетает и шлёпается на пол, тугая, упругая, и гудит, как мяч. Чудо-юдо-рыба-кит! А как она пахнет новенькой резиной, остро, радостно, даже в носу щекотно, а во рту противно и едко: какой-то порошочек горький попал на язык из дырочки, когда надувал. Ничего, пройдёт!
И я изменил любимому мишке и оловянным солдатикам, я всё играл только с ней, с моей рыбой, так что бабушка говорила: «Надо отобрать эту рыбу, она у него до лета не доживёт!»
Рыбу однажды отбирают и вешают на гвоздь. Мне без неё скучно. Мы садимся пить чай. Бабушка щипчиками колет сахар и всем раздаёт белые острые осколочки. К чаю хлеб, серый, с маслом.
«Ешь-ешь! Нечего нос воротить!» – ворчит бабушка.
И я жую серый сыроватый хлеб и вспоминаю нашу булочную на улице Поморской в Архангельске, как я бежал прошлым летом, крепко-крепко зажав серебряную монетку в кулачке, к тёте Лиде за пирожными.
«Тебе какую, с розочками?» – спрашивает продавщица тётя Лида.
«С розочками!»
Я вспоминаю нарезные батоны к чаю, и французские булочки, и булочки с корицей и изюмом, и коврижки рассыпчатые. У неё одна половинка жёлтенькая, а другая – тёмная, с горчинкой, и между ними яблочное повидло.
Бабы ромовые, высокие, толстые, с дырочкой, в которой всегда что-то нежное, душистое и сырое. На бабах снежные шапочки из сахара, ломкие, сладкие, так и тают во рту.
А кексы? Кирпичики загорелые, горбатенькие, спинки от жары растрескались, и видны изюмные ягодки.
Тётя Лида лопаточкой накладывает в кулёчек полосатые мармеладки, почти прозрачные и все в сахаринках. Я зажимаю кулёчек и домой бегу. Как всего хочется, хочется. Но город от меня так далеко! Снег бежит по стене и окна сечёт. Часы тикают. Скучно. В город хочется.
В городе Тумбочка живёт. Так зовут бабушку со второго этажа Зелёного дома. Она любит сидеть у окна, положив голову прямо на подоконник на скрещённые руки, и смотреть вниз. Вот грузовик с дровами сигналит: ворота откройте! А мы, мальчишки, и рады – пока ворота открыты, на них можно покататься. Оттолкнёшься от столбика и летишь, сначала медленно, а потом быстро. Хлоп! – ворота останавливаются и ползут обратно, скрипя и подрагивая. Успеть бы ещё раз оттолкнуться, а Тумбочка уже кричит сверху:
«Хулиганы! Ворота ломаете!»
Грузовик уезжает, а Тумбочка говорит из окна:
«Деточки, не надо ворота ломать, я вам лучше семечек дам!»
И вот уже на верёвочке из кушачков пакетик спускается – «Щёлкайте!»
Утром на улице скучно. Старая ель скрипит над ручьём, её не видно, но слышно, как она стонет и гнётся. Дымки стелются над избушками, тоже серенькие, скучные, как и тучки. Волокуша протянулась, ползёт, шуршит, сорит клочками душистого сена. Снег проседает под ней и взвизгивает. Я стою у стены и слушаю, как бабушка читает вслух, громко, выразительно, даже сквозь зимние рамы слышно.
Я стою и ещё ничего не знаю. Не знаю, что мы уедем с бабушкой уже через два дня. Как-то быстро, вдруг. Бабушка кутает меня в платок, широкий, с кистями. Рукавички на резиночках торчат из рукавов. Мама плачет, обнимает и целует. И тот же автобус, старенький, в царапинах, подбирает нас. В нём синё, морозно, и стёкла и потолок в толстом инее. Я дышу в стёклышко.
«Не дыши, горло простудишь!» – ворчит бабушка и дёргает меня за воротник.
И мы едем, едем. И я засыпаю, а просыпаясь, вижу кирпичную башню Костылева, фонари и отпыхивающийся паром паровоз…
Хитриха
Часы тикали, тикали и перестали. Что-то поелозило в темноте и тоже перестало.
«Это гирька до полу дотянулась, и часы остановились», – поняла Хитриха. Она уже давно не спала – не хотелось, лежала себе на русской печи и слушала утренние сумерки. Вместе с окном просыпались куры и всё слышней возились в подпечье, шаркали лапкой и кокотали. Проснулась вода в умывальнике и капнула звонко в подставленный таз. Домовушка зашевелился и пробежал по длинной лавке. Обутрело. Хитрихе вдруг представилось: она снова проснулась маленькой девочкой, какой она была так давным-давно, что теперь уже и не сосчитать все эти длинные зимы и многие лета. Разве что-то изменилось на этой печке? Те же катанцы в углу и верховницы, лучина и береста в коробке, и тот же потолок над головой, обклеенный старыми газетами. Девочкой она училась читать по заголовкам этих газет, разбирала слова и тихо смеялась, когда буковки подчинялись ей и слово становилось понятным и ручным.
Куры завозились ещё громче – надо вставать. Хитриха приподнялась и села, опустив вниз ноги. От пола шёл холод и свет. И, оттого что она поднялась так быстро и легко, у неё закружилась голова, и стеснило грудь, и ещё что-то тёмное и нехорошее пришло, отчего утренний свет в её кухоньке стал не таким ярким и радостным. Она больше не была девочкой, приручающей буквы, она была старухой. Как встрёпанная, нахохленная птица, она сидела на краешке печи и, как птица, поворачивала голову слева направо и обратно, всматриваясь в комнату, будто не узнавая её.
Она была одноглазой. На месте правого глаза светилась мягкая глубокая ямка, затянутая бледной кожей. Привыкшая к одиночеству, она давно не тяготилась им, и каждый новый день состоял из одних и тех же заученных движений и дел, которые совершались как бы сами по себе, в свой черёд.
Когда стало видко и унялось кружение, Хитриха привычно перевернулась и спиной вперёд начала неуклюже сползать с печи, стараясь нашарить ногой печурку. Вот она! Лавка привычно стукнула, но устояла, как и всякий раз. Куры услышали стук и загалдели, просовывая пыльные головы сквозь решётку. Из печи пахнуло тёплым и дровяным.
Хитриха оказалась худа и мала ростом, и потому всюду у неё стояли лавочки: лавочка у печи, лавочка у буфета, у железной кровати с горой подушек. Она совсем бесшумно сновала по кухне, будто каталась. Как птица, вертя головою, вспрыгивала на лавочки, исчезала в чулане, в прилубе и появлялась снова с ношей в руках. Пухнула печь и пошла стрелять жадно и бойко, и в старом буфете отразилось пламя. Дом зажил гудящей печью, чугунком с дымящейся картошкой, часовой гирькой, с треском взлетевшей вверх, запаренной кашей, которую молотили жадными клювами куры.
День начался, но солнце скрылось, и ветер, шурша позёмкой, заговорил на дворе. Старые плакучие берёзы шевелились в окне тёмным, разлохмаченным комом. Дорога была пуста и, у школы сбегая под гору, поднималась выше и пряталась за избами, за тополями. Но Хитрихе было нескучно сидеть у окна, привычно повернувшись к нему левым боком. Она даже помахивала ножкой в разбитом катанце, и её зоркий глаз следил, как мотаются по ветру, переплетаясь в верёвки, длинные пряди плакучей берёзы, и ничего больше её пока не занимало. Все дела переделаны. Ей только хотелось, чтобы кто-нибудь показался на дороге, чтобы не так было пусто…
И когда жёлтый тракторишко, гремя гусеницами, вдруг вывалился из дорожной пустоты и развернулся на месте, поставив углом к избе пустую волокушу, она вздрогнула, соскочила с лавки и прильнула к стеклу единственным глазом: «Кого это леший несё?» Сено на волокуше зашевелилось, и вылез человек в долгопятом чёрном пальто. Он махнул рукой, и трактор, выпустив из трубки коптящую, тут же разодранную в клочья полосу дыма, рванул с места, брызгая под ноги смёрзшимся песком.
Человек подошёл к дому Хитрихи и долго чистился на крыльце – она слышала, как бьёт по сапожищам тяжёлый голик, и ей хотелось, чтоб он поскорее вошёл, хотя знала, что уж если идут, так мимо и не пройдут. Но вот взгремела щеколда, стукнула, пружиня, половица, и дверь сотряслась.
Хитриха не боялась, а даже приплясывала в нетерпенье и теребила фартук: кого несёт? К ней заходили редко, гостями её не баловали. Вошедший оказался председателем сельсовета Воловым, и она удивилась про себя, как его сразу-то в мужике не признала.
– Ну, здорово живёшь, Ефросинья Егоровна! – загремел председатель. – Тепло у тебя! Здоровье-то как, ничего?
Хитриха изумлённо рассматривала гостя, его добротное чёрное пальто с долгими полами, приставшие травинки на широких рукавах, смятую шапку и подробнее – его худое и бледное от снега и ветра лицо. «Ни кровиночки, – прошептала Хитриха, – в лице-то!»
– Ты, батюшка, проходи! – сказала она. – Ты чего пришёл-то? – и повернулась к нему левым боком.
Волов широко шагнул к табуретке, сел на неё, неуклюже расставив свои длинные ноги.
– Я просить тебя пришёл, Ефросинья Егоровна, об одолжении одном. – И, помяв в руках шапку, заговорил: – Ты вот по осени дров сухих просила, я помню, так мы тебе выпишем и привезём, и даже телеги две. Я сам попрошу, Панкрат придёт, всё намелко расколет и в сараюшку твою стаскает, только выручи нас, Ефросинья Егоровна!
– Да чем, батюшка! Я ведь стара стала…
– Ну, стара стала, так ладно! Горенка у тебя свободная есть, просторная, тёплая, возьми на постой человека одного, а дров мы тебе и завтра привезём.
– Да какого человека-то, Иванович? Я ведь не пойму!
– Учителка новая приезжает, Ефросинья Егоровна! Вот на постой её надь определить, а к кому? Ясно дело – к Ефросинье Егоровне! Живёшь одна, места много. Опеть же и нескучно одной. Что скажешь-то? Соглашайся.
– Дак ведь сын у меня есть, его горенка-та! – растерялась Хитриха и ещё беспокойнее затеребила тесёмки фартука.
– Да где сын-от? В Ленинграде, летает, квартира есть. Что ему до этой горенки? Да и когда приедет-то, кто его знает. На воде вилами писано!
Хитриха расстроенно закаталась от стола к печке, вытащила топлёное молоко, пшённую кашу, ладочку с рыбкой выставила – хлебушком помачить.
– Иваныч! Да как? Не воймую я! Стара стала. Садись хоть, рыбки помачь!
– Егоровна! – отмахнулся председатель. – Не до рыбки мне – в школу надь идти. Возьми хоть до весны учителку! Ведь коли у тебя она жить станет, так и ты под присмотром будешь: меньше чуда-то будет!
– Какого чуда? – насторожилась Хитриха.
– А такого! – загрохотал, нервничая, председатель. – Кто в мае картошку садил, а через три дня выкапывал и зевал, что не уродилась, а?
Хитриха вздрогнула и по-птичьи завертела головой:
– Не помню, Иваныч, такого, не воймую! – Единственный глаз Хитрихи блеснул слезой. И Волов крякнул: он уже жалел о сказанном и, чтобы исправиться, потянулся к столу:
– Да ладно, Ефросинья Егоровна, не было ничего, прости грешного, не к ряду ляпнул! А вот хвостик рыбки я, пожалуй, оторву.
– Ешь, ешь, батюшка! – обрадовалась Хитриха. – Говоришь громко, голосу боюсь. Не серчай только. Рыбка хорошая. Панкрат твой принёс, я для него завсегда маленькую держу. Бат, выпьешь?
– Ты, Егоровна, Панкрата, зетюшку, не поваживай. А выпью, когда учителку возьмёшь. Завтра она к ночи приедет – куда ей, бедной? Она ведь не просто так едет-то – детишек учить. А моя обязанность – квартиру ей дать. Так берёшь?
Хитриха растерянно посмотрела на председателя, потом в окно. Ветер не стихал, а только усиливался. В трубе подвывало. И не было никакой подсказки, что делать. Ей хотелось подумать посидеть, а этого ей не давали и требовали немедленного ответа.
– Да ты не реви, Ефросинья Егоровна, не реви, тебе ж веселей! А то одна да одна!
– Я, Иваныч, не реву, да ты крутящий больно – и подумать не смей. Ведь ещё и байну ей надо. Моя-то развалилася.
– Поправим! А пока к Надежде Воловой ходить будет, я договорился.
Хитриха всхлипнула, вытерла нос передником и недоверчиво спросила:
– Иваныч! А с дровами-то не омманешь?
– Да где обманывать-то, Егоровна! Сама посуди: ей ведь, учительнице-то, по закону тоже дрова нужны! Ну и ты при ней, да она при тебе. Вот дело и сладится. Значит, берёшь? Решено?
– Молода хоть девка-та, Иванович?
– Молода. Басёна! Ну, Егоровна, чаи распивать не буду – надь ещё директоршу повидать. Пойдём горенку смотреть.
– Рюмочку-та выпьешь, Иванович?
– Ну, уговорила. Наливай. Промёрз я в этой волокуше, пока ехали. Рыбка у тебя ничего – молодец зетюшка. Да только ты не поваживай его, не поваживай, Егоровна!
Председатель стукнул рюмкой о стол, крякнул, вытер длинной белой ладонью прослезившийся глаз, ущипнул кусочек рыбки и скомандовал:
– Пойдём. Показывай свою горенку.
Горенка и вправду была большая и светлая, в четыре окна. Печь-голландка с пристроенной плиткой. Жёлтые обои в мелкий цветочек. Потолок крашеный. Кровать железная.
– Ну и хорошо ей тут будет! – грохотал басом председатель, расхаживая по горенке. – Воздуха много. – Он широко развёл руки. – Деревню видно. – Он потопал каблуком по половице. – Полы крепки. Спасибо тебе, Егоровна, уважила.
– Дровишек-то привезёшь, батюшка?
– Привезём, завтра и привезём. Кабы не учителка, ждала бы ты дровишек ещё с месяц, а то и больше. Сейчас Панкрат придёт, печку вытопит. Только ты его не поваживай, не поваживай. Спросит – скажи: я выпил. А маленькую спрячь. Рюмку со стола не убирай, будет вещественным доказательством, что я выпил. Ну давай, Ефросинья Егоровна! Жди!
Хитриха вышла за ним и растерянно смотрела, как, торопясь и оскальзываясь на льду, председатель выбирался на дорогу. Выбравшись, он оглянулся: мело снегом, и маленькая, почти детская фигурка Хитрихи сливалась с тёмным проёмом дверей.
– Иди! – махнул он ей. Егоровна неслышно скрылась, будто её и не было.
Новая учительница назавтра не приехала, а объявилась только на третий день, в оттепель. Председатель встречал её у переправы через Устью на стареньком «козлике».
Зачинались ранние сумерки. Чёрные неряшливые ели качались над серой дорогой. Запах сырого снега и размякшей хвои густо висел в воздухе. Устья желтела льдом и свежими досками, брошенными на слабый лёд. Автобус на правом берегу освещал переправу фарами, и люди рваной цепочкой тянулись по слузу. Шлёпали по снегу тяжёлые доски. Вспыхивали огоньки папирос. Женщины ойкали. И председатель, щурясь от ветра и слёз, всматривался в приближающихся людей, узнавая по голосам односельчан и пытаясь угадать среди них новую учительницу.
– Там, там твоя учительша! – поздоровавшись, предупредили его. И он улыбнулся на весёлые слова и нетерпеливо подался вперёд.
– Идёт, боится! – говорили новые.
– Заждался, Иваныч! Замёрз?
– Соскучился?
– Вон она! – подсказали ему. – Ей Колька чемодан тащит!
Она была совсем молоденькой, замёрзшей, испуганной речной переправой, полыньями, страшным льдом, проседающим от каждого шага. Но её тёмные, чуть раскосые глаза удивлённо посмотрели на него, когда он шагнул вперёд, загородив ей дорогу.
– Здравствуйте, Елена Сергеевна! Я – Волов Павел Иванович. Это вы со мной по телефону говорили. Я вас встречаю.
– Здравствуйте, Павел Иванович! Я очень рада! У вас такая река страшная, знала бы, не поехала! Отчего она такая? – сказала она, протянув ему тонкую руку в перчатке.
– Это всё оттепель виновата! Иззябли все? Что на ногах-то? Ботики? Все бы в ботиках в деревню ездили! Ну, давайте грузиться! – и повернулся к Николаю. – Молодец, Коля, помог. Давай еённый чемодан за задние сиденья, у меня ещё пассажир поедет! А вы, Елена Сергеевна, вперёд сядьте, со мной. К печке ближе. И там, в машине, – он смутился немного, – валенки для вас тёплые. Скидывайте, к лешему, ваши сырые ботики и в валенки переобувайтесь. Не хватало ещё заболеть!
– Нет, что вы, Павел Иванович! Я валенки не надену!
– У вас что, в городе валенок не носят? Без разговоров! Мне жонка голову оторвёт, коли я вас без валенок привезу. Так что стесняться нечего. Заболеете, кто детишек учить будет? Я, что ли?
– Павел Иванович это может! – засмеялся Колька уже из машины. – Он полдеревни у нас уму-разуму учит!
– Не спорьте, надевайте валенки! А то последними уедем! – сказал Волов.
Открыв дверцу, он ловко сбил с сапог снег и тяжело вместился в кабину.