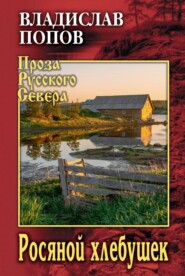скачать книгу бесплатно
Уж сумерки, до Устьи далёко, луг сырой, у меня в сапогах вода хлюпает, у бабушки подол намок. Вот и берег, глинистый, скользкий, ивой крепко пахнет, вода тёмная, как чай, и я боюсь подступать к ней.
«Ну, отпускай теперь, душегуб!» – приказывает бабушка. Я наклоняю баночку. Рыбки выпрыгивают и пропадают. Один только гыч на мели остался. Я его подталкиваю пальцем, и он тоже исчезает, как и не было!
Мы с бабушкой молча поднимаемся наверх. Берег высокий, еле вылезли, а оглянулись: лебеди! Большие, белые, они плавали под чёрными елями, и серебристые круги разбегались и таяли вокруг них.
Почти в потёмне мы подходим к дому. Из травы вылетают последние мотыльки, мигают белой изнаночкой крыльев, кружатся, ныряют вокруг и лицо щекочут. Лёгкие, беленькие, почти прозрачные.
Мне вспомнилась Дюймовочка, и я спрашиваю бабушку: «Это эльфы летают?»
Бабушка смотрит на меня, будто не слышит, а потом говорит, как вспоминая что-то: «Нет, эльфы далеко, там, где тёплое море».
Дома горит свет, мама ждёт. На западе всё гуще собираются тучи, солнышко в рукавицу залезло – завтра дождь.
А назавтра, к обеду, у нас гости! Люся пришла с мамой. В том же белом платочке, что и всегда. Она садится на деревянный крашеный диванчик у окна и болтает ножками. Бабушка ставит на плитку чайник, режет хлеб и достаёт тугое масло тёти Августы. Масло в капельках воды – оно в сенях в бидончике в студёной воде хранится.
Я показываю Люсе свою коллекцию, фантики от конфет. Бабушка называет их рубликами. Они яркие, пёстрые, с серебринкой внутри. Под конец я достаю свой самый любимый фантик от конфеты «Гулливер», он всё ещё пахнет вафелькой и шоколадом. Сладко-сладко! Мы с Люсей нюхаем его и вздыхаем: вкусно! Какая это была толстая, большая, тяжёлая конфета!
«Хватит нюхать! – говорит бабушка. – Садитесь чай пить с настоящими конфетами».
Настоящие конфеты – это «Весна», у неё светленький рублик с мелкими цветочками, голубенькими и красными. Мы сначала с Люсей отколупываем шоколад, а потом медленно-медленно съедаем белую сладкую начинку!
«А ты всегда так эти конфеты ешь?» – спрашивает Люся.
«Да!» – отвечаю я, и мы смеёмся, довольные друг другом и тем, что по-одинаковому едим конфеты.
И так хорошо и уютно сидеть и пить чай, пинать ножку стола и слушать дождь за окном, смотреть на гостей и на бабушку.
«Я уже до полу ногами достаю!» – шепчу я Люсе, вытягивая ногу.
«И я тоже!» – счастливо улыбается она.
«Мне “Гулливера” читали!»
«И мне сестра читала!»
«На следующий год я в школу пойду!»
«И я тоже пойду!»
Бабушка нас слышит и говорит:
«Вот-вот, за одну парту вас посадим!»
После чая я качаю Люсю на качелях, нарочно высоко и сильно, чтобы она боялась, а она не боится вовсе и даже требует: «Выше, выше!»
Длинная верёвка скрипит и трётся о бревно, и какие-то белые пылинки сыплются вниз, как дождик. Широкая поветная дверь раскрыта, и в ней шумно и влажно дышит большой двор.
«Ты считать умеешь?» – кричит мне Люся.
«Умею, до двенадцати!»
«Считай!»
И я считаю, нарочно сбиваясь, перевирая цифры.
«Не так! Не умеешь!» – смеётся Люся.
И мне хорошо, что она смеётся вот так надо мной, и нравится качать её высоко и сильно, до полусолнышка.
Но дождь перестал, старое небушко выглянуло, и Люсина мама засобиралась домой.
Мы провожаем их с бабушкой до Большого камня, а потом смотрим, как они спускаются вниз до поворота. В коротком белом солнце сверкают лужи, длинные колеи от тележных колёс, и серые дощечки старого забора отливают свежим дождевым лаком. И грустно от этого солнца и от этой размокшей дороги.
Мы не пошли с Люсей вместе в школу, никогда не сидели с ней за одной партой – у них утонул папа в колодце, и они уехали куда-то навсегда. Уехал и пропал куда-то белый платочек, стрелячее ушко. Конфетные фантики в бумажной коробке.
А дожди, как сговорились, всё шли и шли. И скучно было без Люси, без леса. Берёзы за окнами все облетели, и ветер листву перенёс на дорогу. И холодно, стыло теперь на повети. Качелька одна на ветру качается, и верёвочка, слышу, шуршит в темноте.
Мне никуда нельзя – меня укусил Дунай. Я сам виноват: стал ему на нос лепить колючки чертополоха. Кому это понравится? Вот он и укусил. Сижу теперь дома. Арестован. Из мозаичных деревянных плашечек складываю фигурки: паровозы, кораблики, замки. Мне нравится складывать из синих и жёлтых, жёлтый становится тогда таким ярким. А дождь всё шумит и шумит, шуми себе, мне никуда не хочется.
Бабушка на кухне возится и вспоминает: молоко кончилось – надо с бидончиком к тёте Наде Воловой идти. И она меня посылает:
«Руку-то, укушенную, в кармане держи, не мочи под дождём! И не засиживайся там!»
А я и рад! Я люблю к тёте Наде ходить. Она добрая, и её дедушка Федул тоже добрый.
Мы вместе пьём чай, когда я прихожу, и едим сладкие калитки, а порой мне наливают даже пива в гранёный стакан из толстого синего стекла. Деревенское пиво тёмное, густое. Положишь в него сахарного песку, оно оживёт, запенится, заходит в стакане по кругу, потрескивая и шипя. Сладкое, вкусное! Пьёшь и косишься на ходики. Тик-так, тик-так! Жестяной маятник так и бегает, торопится и меня торопит – бабушка ждёт. Надо идти, а так хочется посидеть! Запозднюсь – бабушка ворчать будет. А ещё я боюсь дороги, она от дождя вся скользкая, глинистая, можно упасть, и козёл Мишка ещё есть, вечно бродит где попало по деревне и бодается. Но надо идти, что поделать!
Я одеваюсь медленно, не спеша, проверяю все пуговки, петельки, после натопленной избы всегда так зябко на улице, и ветер в упор, сырой, холодный, не даёт идти. И не верится, что однажды случится снег.
Но всё-таки подмораживает, неделя не прошла – и звонко хрустит на лужах стеклянный лёд. Гуси сердито бродят, как на лыжах, у ручья, скользят и, вытягивая длинные шеи, в сердцах гогочут. Разъезжаются по льду их красные лапы. Чернеют рощи. Черёмуха жалкая, скучная. На малине рыжие лоскутики.
Я потерянно брожу вокруг дома, заглядываю в закоулочки и под амбар, где грудой навалены ржавые непонятные железяшки. Холодно. Сухой крапивой тянет.
Вставили зимние рамы, и мама с бабушкой клеят кислым хозяйственным мылом нарезанные полоски бумаги.
Неужели был когда-то осенний лес и облачко, и росяной хлебушек?..
Я сажусь на ступеньки крыльца и нюхаю бумажные гильзы. Они из нутра пахнут кисло и едко, даже слезу пробивает. Гильзы подарил Ефим, отец соседки Августы, что продаёт нам время от времени творог и масло.
Ефим худенький, высохший, обычно, как зайдёшь к ним, он сидит у печи, в вечной полинявшей голубой рубашке, вечно в залатанных серых штанах, и ковыряет что-то, старый сапог или валенок, подшивает, выдёргивая шилом куда-то в сторону, за спину, шуршащую смоляную жилку.
«Экий кодол у тебя! – говорит, улыбаясь, тётя Августа. – Далеко ли собрался?»
«Да недалеко! В могилёвскую!»
Чёрный пек, глубоко изрезанный острой дратвой, лежит рядом на лавочке, и нож-косячок рядышком, и проволочка медная. Оконный свет освещает его крупные подвижные руки, худое бледное лицо и белые, почти прозрачные волосы.
Он всегда говорит со мной, заговаривает что-то весёлое, задорное, не отпускает:
«Посиди рядком, поговори ладком! Где лучше жить, в городе али в деревне?»
А я чего-то робел перед ним и всё смотрел молча, как ловко снуёт его умелая рука, укалывая сапог сметливым шильцем, и прямо на глазах тянулась, выползала строчка, ровная, аккуратная, и заплатка ложилась плотно, туго, ладно обжимая послушный носок.
Но я робел, я слышал, как однажды бабушка сказала, что Ефим уж нажился на свете и скоро помрёт. И мне было так жаль его и так страшно, что я не мог ни смотреть, ни говорить, ни слышать его – я убегал.
Он подарил мне гильзы, бумажные. Одна была красная, другая – жёлтая. Такое богатство! Они пахли настоящим едучим порохом. На медном капсюле посередине вмятинка, ямочка от бойка.
Гильзы бабушке отчего-то не понравились:
«Выбрось! Или я сама их выброшу!»
Но я не выбросил, спрятал и нюхал тайком, представляя лес, охоту и лай собак, и как бьётся толчками по соснам, зависая в небе, круглое собачье эхо.
А пришла зима, я сделал из них корабельные пушки, укрепив на нитяной деревянной катушке. Кораблём мне послужила коробка из-под сахара, мачту я выстругал из сосновой щепки, порезал палец и долго ревел один у печки.
На корабле плавали рыцари, я их вылепил из пластилина и подышал на них, чтобы они ожили.
Но что-то изменилось, и не нужны мне стали ни рыцари, ни корабль, ни пушки. Были последние предснежные дни. Я растворял тяжёлые поветные двери и грустно смотрел на скучные пустые поля, на кривой сноп, забытый кем-то на полоске, на чёрную баньку с горьким дымом. И так хотелось плакать и бежать куда-то, где всё по-другому, где солнечно, светло и высоко, туда ведут деревянные мосточки и деревянные ступеньки, там фанерный киоск на углу с газетами, и дворничиха с метёлкой поутру, и лошадка, цокающая по асфальту.
Вот закрою глаза и увижу близко-близко магазин хлебный на углу и наш дворик с тяжёлыми зелёными воротами и бабушкиными тополями. Они все тоненькие, живые, усыпанные молоденькой листвой, тянутся до самых окон.
А в комнате нашей душно, солнечно и дышать тяжело, всегда так, как приезжаешь, и бабушка тут же кидается к окнам и отдирает полоски трескучей, как яичная скорлупа, бумаги, и тащит на себя пыльные зимние рамы.
Крючки щёлкают, створочки распахиваются, и шум, свет, лепет, гам, свистки и гудки проснувшейся улицы влетают в ошеломлённую комнату, звенит сосульками стеклянная люстра, и тополь, одурело сунувшись внутрь, к нам за подоконник, трясёт душистой веткой.
«Ну вот, – скажет бабушка и оглянет ожившую комнату, – и жить можно, сначала чаю попьём, а потом и чемоданы разберём».
Я стою у молчащих поветных дверей и думаю: «Как это хорошо: распахнёшь окно, и в лицо тотчас зелёные ветки!»
Тихо. За спиной поскрипывает наша качель, и кот Тяпка, шурша осторожно сеном, крадётся за мышью.
По субботам мы стали ходить в новую баню, к тёте Наде Воловой. Я хорошо помню эти субботние густо-синие ноябрьские вечера, облепленные звёздами, эти холодные банные сенцы с ледяными мосточками и окошечко с таким чисто промытым стеклом, что будто его и нет, и кажется, протянешь руку и удивлённо коснёшься жёлтой малинной веточки.
Белый керосин сладко посапывает в лампе, но всё равно темно от чёрных закопчённых стен, и вода в горячем тазу булькает и плещется.
После бани, красный, закутанный насилу в колючий платок, я надёргиваю из копны для Тяпки пахучих травок. Копна высокая, твёрдая и пахнет подмёрзшим лугом. Дёргать и складывать травки неловко: курточка моя на вырост, рукава длинные и не закатываются, но в ней тепло, как у Христа за пазухой, так уверяет бабушка.
После бани мы пьём чай. Я тяну из блюдечка и смотрю, как весело щёлкают щипчики в кулаке у тёти Нади. Сахар громко хрупает и сыплется глызками в стеклянную чашку.
Я пробую сам колоть, но не получается, потому что каши мало ел. Я пью чай и думаю, убежать бы в соседнюю комнату, поглядеть географические атласы. Слизываю сахарную пыль с ладошки и прошусь.
Эти атласы меня завораживают, часами могу их рассматривать, скользя пальцем по веточкам рек. Совсем не умея читать, я отлично знал все крупные острова и материки, и только несносный Федул прерывал мои путешествия, отбирал свои атласы, ворча в лохматую, сырую после бани бороду, что я непременно всё испорчу и, конечно, порву листы.
Я дуюсь на Федула, а он смеётся: «Вот насыплю соли-то на губу оттопыренную!»
Но на него нельзя долго сердиться – он обещал показать, как на бало выгибают полозья для саней, и мне не терпится, скорей бы завтра!
Но завтра мне не до саней! Мама, узнав о моих неудачных пиратских путешествиях по Федулиным атласам, приносит мне огромную яркую, как лоскутное одеяло, политическую карту мира, и я на много дней напрочь забываю и снег, и дождь, и негаданную тоску по городу – я путешествовал, бродил, скитался по Гоби и Сахаре. На плоту отважно пересекал бескрайний Тихий океан и вместе с испанцами покорял Кордильеры и Анды. И воображал себя «пятнадцатилетним капитаном»!
А зима подступала всё ближе и ближе. Она, нахмурясь, глядела из чёрной безлиственной рощи, она таилась и ждала своего часа в продрогших оврагах, она вздрагивала россыпью звёзд в синих настывших окнах, где в полдень таяли, а в полночь цвели зимние папоротники и хвощи.
В день первого, праздничного и всегда почему-то неожиданного снега в нашем доме поселилась новая учительница. Она разместилась за стенкой, мне это очень не понравилось: теперь нельзя было заглядывать без спросу в эту комнату, бродить по лавкам вдоль стен и разглядывать марочки, наклеенные на фанерную перегородку. И учительница мне не понравилась, шумная, болтливая, она усаживалась на мой любимый деревянный диван и взахлёб рассказывала, всплёскивая руками и нетерпеливо ёрзая, о своей родне, о школе, о муже, который приедет вот-вот, и как всем будет радостно и хорошо, оттого что он приедет. Бабушка кивала головой, и я всё злился, почему она не прогонит её, почему улыбается ей.
С приездом учительницы в доме поселились страхи. Помню, как, широко раскрыв от ужаса глаза, она рассказывала бабушке, задыхаясь и переходя на свистящий шёпот, как ночью натолкнулась на домового:
«У него руки были холодные, как лёд, я включила свет – никого!»
Она знала сотни рассказов о леших, кикиморах, водяных и банниках.
«Зачем ты к ручью ходишь, разве водяного не боишься? Он кем угодно обернуться может, хоть гусем! Подойдёт и утащит!»
Мне делалось страшно. Я боялся пошевелиться и слушал её не дыша. Значит, это страшный домовой ночами чердаком бродит, скрипит сухими ступеньками лестниц, из чулана выглядывает! Это всё он, невидимый, хитрый, из старинных сказок. Он нам глаза отводит, и потому видеть его мы не можем!
Я стал бояться повети, особенно тёмного угла, где висели старые пальтухи, облезлые и пыльные, с чёрствыми воротниками, и всё мне казалось, что там кто-то прячется, холодный, молчаливый, чужой. Вот снимется с гвоздя и зашагает ко мне, размахивая страшно пустыми рукавами.
И я играл в жуткую игру «успеть добежать до дверей». Я подкрадывался, а потом бежал, подпрыгивая, до поветных дверей, дёргал вниз тугой тяжёлый засов, и дверь сама от грузности своей – скорей, ну же, скорей! – неторопливо разламывалась надвое, как будто зевала, и две её ленивые толстые створки, часто подрагивая и широко расходясь, нехотя уступали место солнцу, небу и голубой выцветающей дали. И сердце моё ликовало и колотилось в груди: я успел! успел! Домовой не схватил меня, не уволок в тёмный пальтушный угол. И не верилось никак, что ещё недавно, неделю-две назад, я прятал там свои сокровища, а вот здесь, под балкой, бесстрашно, не ведая о нём, раскачивался на качелях.
Холодное белое солнце обдавало светом поветь. Стены бледнели и расходились, и поветь казалась огромной, светлой и нестрашной. Шуршало сено. Качались и шелестели рыжей листвой столетние банные веники. И пальтухи казались бедными и скучными, и того, кто таился, уже не было. Он боялся солнца.
Ещё я боялся занавески, обычной марлевой занавески. Бабушка где-то раздобыла или обменяла на что-то марлю, подсинила её синькой и повесила с угла на угол у дверей, закрыв вешалку. Марля окрасилась неровно, светлые и тёмные пятна складывались для меня в какой-то таинственный и страшный образ. И когда сквознячок от порога поддувал занавеску, всё мне казалось, мерещилось, что кто-то смотрел сквозь неё на меня!
Я часто оставался один и тогда, дрожа всем сердцем, подходил к ней и заглядывал: кто там? Никого! Бабушкино зимнее тяжёлое пальто, мамина шубка из цигейки да курточка моя на вырост. Чего бояться! Но он там был, я это чувствовал. Я садился на свой деревянный диванчик, усаживал рядом плюшевого медвежонка и брал Тяпку на руки, и ждал, ждал, когда всё кончится. Заскрипит снег под окнами, и придут мама с бабушкой, и снова всё будет хорошо и просто, и весело, и обычно, и он не будет смотреть на меня такими глазами.
Однажды я от страха забился под кровать, в угол, за большой чемодан с пряжками, и уснул. Всех перепугал – не сразу меня нашли. Никто не верил мне и не верил в того, кто прятался за занавеской. А он там жил всю долгую тёмную зиму и ночью выходил, с опаской скрипел половицей – не услышат ли? – шуршал обоями и посвистывал сквознячком в дверях.
Когда удавалось достать немного муки, скопить масла, бабушка пекла. Она пекла куличи, кренделя с маком, плюшечки, но больше всего на свете я любил её «Наполеон»! Круглый, слоистый, хрустящий. В широком глиняном горшке и только деревянной ложкой бабушка сбивала крем (она называла его мокко) из масла и сахарной пудры – она раскатывала на широкой фанерке сахарный песок особой пузатой бутылкой, которую я нашёл в чулане.
Мокко готовилось не один час. Бабушка крепко прижимала к большому животу горшок, ловко вертела его обязательно по солнышку, и сильными, проворными ударами деревянной ложки била и перемешивала масло, подливая в горшок из чайника кофейного напитка.
«Разве это кофе! – сетовала она, частя ложкой. – Жёлуди жареные да ячмень, да ещё каштаны добавляют! Вот раньше – то кофе было!»
«Когда?» – спрашивал я.
«Когда, при царе! Сейчас такого не делают! А я пила!»
Мокко получалось мяконьким, лёгким, светлым, как ядрышко грецкого ореха, и вкусным – мне разрешалось облизывать ложку. Пока мокко настаивалось, бабушка делала коржи, пекла их на большой чугунной сковороде. Поджаренные коржи тут же подрезались до ровного круга, и ещё жаркие сладкие обломочки, такие хрустящие и щиплющие с пылу язычок, были объеденьем, но много обломочков не давали: ими посыпали верхушку «Наполеона».
Бабушка промазывала кремом коржи, рисовала вилкой волны и узоры и вдавливала сверху, среди обломочков, кусочки шоколада.
Я помню, как мы стояли у стола и любовались «Наполеоном», а потом бабушка говорила:
«Ну всё, хватит!» – и относила торт на холод, в чулан, под тяжёлый старинный таз.
Вечером, пока грелся на плитке чайник – а он, как назло, не хотел скоро греться, – я вертелся у стола и нетерпеливо ждал, когда мне прикажут внести «Наполеон», когда наконец-то с трудом бабушкин нож разрежет его на треугольные дольки, одна из которых, может быть самая большая, будет моей.
Дольку, конечно, можно съесть сразу, но так неинтересно, лучше по частям, по коржинкам, блаженно слизывая горьковато-сладкий крем. Как ни тянешь, а кусочек кончается, и, если бабушка позволит, можно вылизать блюдце, а может случиться чудо, и тебе достанется второй кусочек, дополнительный и уже немножко подтаявший.
И вот торт уносят в чулан, и я слышу, как гремит оловянный таз. Можно ещё поиграть, может быть, тебя не сразу погонят чистить зубы едучим зубным порошком, после которого ты торт будто бы и не ел.