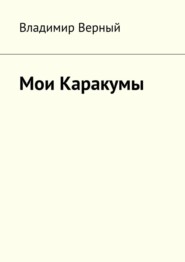скачать книгу бесплатно
Мои Каракумы. Записки гидростроителя
Владимир Верный
Это книга о малоизвестной россиянам стране Туркменистан и о еще менее ведомой профессии гидротехника. Это рассказ о строительстве Каракумского канала и множестве других объектов «водного хозяйства»; о почти фронтовых условиях работы водников и о неподдельном счастье увидеть плоды порой многолетних трудов. В книге нашлось место экскурсу в древнюю историю этой земли, где, «казалось, ничего нет», но неожиданно в этом «археологическом Клондайке» открылись следы «пятой цивилизации».
Мои Каракумы
Записки гидростроителя
Владимир Верный
© Владимир Верный, 2023
ISBN 978-5-0060-2092-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Владимир Верный
Мои Каракумы
Записки гидростроителя
Автор благодарит А. Корзан за систематическую техническую помощь при подготовке книги к изданию
В. Верный
Мои Каракумы / записки гидростроителя, В. Верный
Моим друзьям-товарищам
по строительству
Каракумского Канала
Часть 1
Каракумский Канал
Земля (1-я очередь ККК)
В 1954 году я окончил гидромелиоративный факультет Ленинградского Политехнического института. Наших выпускников распределяли в Северо-Западном регионе: Ленинград, Прибалтика, Новгородская область, Карелия. А мы, «дальневосточники», решили проситься домой. Почему? Это разговор отдельный.
Мы – это Владилен Парфенов и я – из Южно-Сахалинска и Павел Голубев – из-под Читы. Поехали в Москву в Министерство. Там нам сказали, что в Сахалинской области, уже есть три гидротехника и это в два раза перекрывает местные потребности. А вот в Средней Азии гидротехники нужны, например, в институте ирригации САНИИИре в Ташкенте или на Каракумском канале. Мы выбрали канал: очевидно, сказалась закваска тех лет, ведь и факультет наш как гидромелиоративный был преобразован из гидротехнического с прицелом на «великие стройки коммунизма», как тогда говорилось.
– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – Примечание. Книга написана до 2007 года, куда следует относить ссылки на время типа «сейчас» и подобные
Нам назвали сотрудника, недавно побывавшего в Туркмении, мы с большим трудом отыскали его в громадном здании Министерства сельского хозяйства у Красных ворот. Мужик оказался откровенным. Сказал, что практика, конечно, отличная, но условия жуткие и честно описал всякие каракумские страсти. Мы выслушали, поблагодарили, и… пошли оформлять направления на Канал.
О канале
Здесь же в министерстве собрали мы информацию о Каракумском канале. Смотри карту №1 (далее – К1 и т. д.)
Оказалось, что первые инженерные исследования по трассе ККК проводились еще в 1849—1850 годах. В дальнейшем они повторялись многими экспедициями. Дело в том, что на юге Туркменистана в долинах рек Мургаб, Теджен, Атрек и в Прикопетдагской равнине пустует более 2,2 миллионов гектаров земель пригодных для возделывания, но воды для их полива нет. В древности здесь процветали могучие государства Маргиана и Парфянское царство. В их гибели, кроме исторических коллизий, роковую роль сыграло истощение водных ресурсов региона. Здесь до 265 солнечных дней в году и без полива нет земледелия.
В наше время реки юга Туркмении никуда не впадают, их полностью разбирают на орошение. А на северо-востоке Туркменистана протекает самая большая река Средней Азии – Амударья. Идея использовать её воду для орошения этих земель висела в воздухе. Но для этого надо было пробиться через сотни километров пустынных песков Юго-Восточных Каракумов. Проектирование Каракумского Канала началось еще в 30-е годы, но из-за войны начало строительства откладывалось. В 1952 году был утвержден проект первой очереди канала Амударья – Мургаб длиной 396 километров. Уникальность проекта состояла не только в масштабах, но и в том, что вода из реки забиралась самотеком, а не насосами. Основным разработчиком проекта был ашхабадский Туркменгипроводхоз. Конечно, работа велась в содружестве со многими научными и проектными организациями Москвы, Ленинграда, Ташкента, Киева.
Тут уместно уделить несколько слов географии. (К1). Если взглянуть на карту Туркменистана, то видно, что на юго-востоке его граница образует перевернутый треугольник с вершиной внизу, на юге. Здесь – Кушка, самая южная точка бывшего Союза. А северное основание этого треугольника от Керки на реке Амударье через Мары на реке Мургаб до Каахка это, приблизительно, трасса Каракумского канала. Далее на северо-запад вдоль подножия хребта Копет-Даг она идет к Каспийскому морю.
Участок от Амударьи до Мургаба протяженностью около 400 км – это первая очередь ККК. Она идет почти строго в широтном направлении и пересекает Южные Каракумы
Головной водозабор расположен в 50 км от Керки вверх по Амударье. Канал строился с двух сторон: с головы от Керки – с водой и со стороны Мары – посуху. Стык – на 250-м километре. Первые 30 километров трассы – это уширенное русло Басага-Керкинского канала, а затем 20 километров по трассе сброса и далее совпадает с цепочкой Келифских озер в русле древнего Узбоя. Со 105-го километра канал идет по целинным пескам.
Линейная схема 1-й очереди ККК
Первые впечатления
В Керки я приехал в сентябре 1954 г. Товарищи мои были уже где-то на трассе, и я попросился туда же. На работу меня принимал Владимир Иванович Курылев – тогдашний начальник Керкинского СМУ. Он много не разговаривал, распорядился направить в контору номер три в Час-Как.
И вот я в кузове грузовика, верхом на своем, порядком намучившем меня, чемодане – ведь в нем добрая половина забита книгами. Дороги практически никакой, множество отдельных следов машин то разбегаются, то собираются вместе. Пески. Вроде немало кустов и травы, но ни единой зеленой былинки. Все серо, выжжено. Жарко, а в Ленинграде сейчас непременно моросит дождь и все в тумане.
Не раз машина буксовала в песке. Вначале я всполошился: как выберемся? Но выход оказался простым. Ни один водитель не едет в пески без пары «шалманов», жердей длиной метра три и диаметром сантиметров пятнадцать.
Чуть разгреб песок, всунул шалман между спаренными задними колесами, – вот и слань, по которой выберется машина. Вскоре стемнело, ведь транспорт в рейс шел только ночью, по летнему расписанию, и перед фарами замелькало бесконечное однообразие одинаковых картин: поворот колеи, песчаные обрывчики обочин, кусты, песчаные бугры, пожухлая трава и снова все то же.
Навсегда запомнился наш водитель. За рулем сидел могучий богатырь, голый по пояс. Ему было явно тесновато даже в кабине ЗИСа. Особенно поражали правильные пропорции крупного лица и огромные ручищи, в которых баранка казалась игрушечной. Не сразу и разгадаешь, что этому бронзовому Геркулесу уже немало лет. Это был дядя Федя Осокин, глава семейства кубанских механизаторов. Позже я хорошо знал двух его сыновей, механизаторов «на все руки», удивительно непохожих друг на друга. Спокойный, даже степенный Саша – основательный в работе, живущий на трассе со своей семьей, копия отца, только поприжимистей, пожалуй. И лихой в работе и в жизни громогласный Володя, «рубаха-парень», готовый в считанные дни спустить все, что заработал тяжелым трудом, и, не унывая, «пахать» снова. Даже на лицо они были такие же разные. У Саши – правильные черты округлого лица, а у Володи – огромные глаза, «лошадиная» челюсть, крепкий нос. Вылитый Фернандель.
«Шалман» в деле. За рулем Саша Осокин
Глубокой ночью приехали мы в поселок Час-Как на берегу одноименного небольшого озера в цепи Келифских озер. Вода сюда попадала от сбросов Басага-Керкинской оросительной системы на левобережье Амударьи. На самом берегу изготавливали сырцовый кирпич для первых построек, чуть дальше от воды несколько землянок «старожилов» и большой барак-сарай: стены обшиты досками, крыша – камышитовы маты по обрешетке. Внутри – три ряда деревянных нар, углы огорожены занавесками – там «квартиры» семейных. Моя первая жилплощадь – 4-я нара справа от входа в первом ряду. Правда, долго я тут не задержался.
Первое задание
Начальник отряда – Николай Арсентьевич Беляев, коренастый седовласый мужчина с тяжелым волевым подбородком и маленькими серыми глазками. Он определил меня мастером. Оклад – 800 рублей, с каракумской надбавкой – 1200, отпуск – 45 дней. И уже на следующий день мой многострадальный чемодан утопал в тучах пыли в ковше скрепера, который перегоняли к моему (и его, скрепера) месту работы. Задача: возвести оградительные дамбы по левому борту цепи озер в Келифском Узбое. (К2). Здесь пройдет канал и уровень воды значительно повысится. Там уже работал Вадим.
Это был один из семи первых на Канале новых скреперов. Именно на скреперы и экскаваторы возлагались тогда большие надежды. Да и всяческие нормативы отводили тогда бульдозеру роль вспомогательную: вскрыша карьеров, планировка, разравнивание отвалов экскаваторов, а скреперы применялись на разработке выемок-котлованов, каналов и т. д. Однако с первых же практических шагов в Каракумах стало ясно, что сухой барханный песок просто «вытекает» из ковша скрепера пока он двигается к месту отвала. В таких несвязных грунтах бессмысленна была и укатывающая функция скрепера на насыпях. Зато бульдозер – машина более легкая, маневренная, использующая кратчайший путь к месту забора грунта – задним ходом. Сам скрепер несравненно сложнее бульдозерного ножа. Бульдозер как бы сам себе устраивает дорогу в сильно пересеченной местности. Мастерством лучших бульдозеристов был освоен метод разработки канала глубокими (до 3 м) поперечными траншеями. При этом срезанный грунт не осыпается по сторонам, нож свободно «плывет» и не требует регулировки лебедкой, а количество перемещаемого грунта – максимальное, отвечающее предельной мощности двигателя. Тут бульдозер оказался незаменим, а метод разработки легко усваивался молодыми или неопытными механизаторами.
Но вернемся к оградительным дамбам. Работы там оставалось немного. Жильё – топчан на бархане, прикрытый навесом из камышовых матов.
Я удивился, что за веревки натянуты над водой? Оказалось, ребята наладили настоящий рыболовный промысел. Веревки – это переметы над водой, привязанные к пучкам камыша. К перемету крепятся поводки с крючками, на них – нанизанная за хребет живая приманка. Рыбка трепещется у поверхности, на неё отлично идет сом. К концу недели у берега на куканах уже было несколько огромных сомов размером до полутора метров и больше. В ночь на воскресенье их грузили в кузов машины, перекладывали камышом, обливали водой и к утру живёхонькими доставляли в Керки на воскресный базар. Товар шел нарасхват.
На волнах в песках
По закоулкам проток и озер
Через пару недель лагерь снялся и перебазировался к Час-Каку, а мне эти дамбы остались памятны как место первой рационализации, или «рацухи», как мы называли. Дело в том, что по проекту следовало построить одну дамбу и на правобережной стороне. А как через воду гнать технику? Если в обход, – это десятки километров своим ходом до моста, а потом работать на том берегу за водой.
Мы с Вадимом осмотрели место и сообразили, что если дамбу вообще не делать, то вода все равно не уйдет вправо, а заполнит ограниченное понижение, замкнутое барханами. Начальство одобрило, дали команду скреперы перебазировать своим ходом на Час-Как, а мне надо было выполнить геодезическую съемку, подтверждающую нашу правоту.
У ребят быламалюсенькая лодочка-плоскодонка, но она казалась настолько хлюпкой, что решили весь груз – нивелир, теодолит, рейки, колышки поместить на плот из «шпальной вырезки», то есть не просмоленных заготовок шпал, и буксировать его лодкой. Там же на плоту должен был находиться и второй член «экспедиции». Так и сделали. Течение в протоке, на берегу которой мы базировались, было довольно энергичное, ничто не вызывало сомнений.
Со мной отправился Балыш Тойлиев, или Боря – веселый крепыш, смуглый и удивительно кучерявый. Если он не был обрит наголо, то красовался прямо-таки папуасской шевелюрой. За плечами у него был детдом, 10 классов школы и даже один год в сельхозинституте, где он и познакомился с геодезией. Лучшего помощника было не найти.
Под веселые напутствия провожающих взгромоздились мы на свои плавсредства и двинулись! В самый последний момент сунули нам два здоровенных куска сахара, у нас была буханка хлеба – вот и всё продовольствие: ведь мы рассчитывали за один день справиться. В качестве компенсации за услугу по перегону его лодки, хозяин этой посудины дал нам в дорогу свое ружье и штук пять патронов.
Сразу по протоке нас понесло так лихо, что приходилось заботиться не о движении, а о торможении и следить, как бы плот не ударил лодку. Было тепло, солнечно, мимо проплывали песчаные обрывистые берега узкой протоки, вода сама несла нас по всем извилинам и поворотам. Благодать! Нигде ни живой души и полная свобода! Ну, как тут было не запеть во все горло! Балыш подозрительно косился на меня: что за чудак?
Здесь пройдет Канал
Но быстрая протока привела нас к большому разливу, кругом все заросло высоким камышом, определенного русла нет и течения не заметно. Пришлось подналечь на весла. Тут выяснилось, что наш гибрид плота и лодки обладает не лучшими мореходными качествами. От хорошего гребка лодочку бросало вперед, но в этот момент натягивался буксир и на нашу посудину обрушивался рывок сзади. Было такое впечатление, что мы больше двигаемся назад, чем вперед. Много сил и сноровки пришлось ухлопать, чтобы хоть как-нибудь справиться с этим необъезженным «тяни-толкаем». Но, главное – куда же плыть? Сунулись в одно-два места и уперлись в берег. Где выход из озера? Пришлось выбраться на ближайший высокий бархан и с него убедиться, что выход из озера отнюдь не напротив входа в него. Еще несколько километров по протоке – и мы опять оказались в западне. Долго бы нам досталось блуждать в нем, если бы мы не использовали уже освоенный метод «берегового дозора»: это оказалось озеро непроточное, образованное заполнением береговой котловины. Здесь стояла тогда артель рыбаков. Только с большого бархана мы увидели, что забрались в тупик. Теперь уж мы определенно разделили обязанности – я на веслах, а Балыш с берега выглядывает направление.
Позже Вадька рассказывал, что именно с этого места слышал, как я где-то далеко горланил нашу «фирменную»:
Берег, принимай обломки,
Черепа морских бродяг!
Но до меня, как до тетерева на току, докричаться было невозможно.
Свидание с дамой из юрты
В обед съели полбуханки хлеба и половину сахара и только к концу дня добрались до места съемок. Здесь на пологом левом берегу стояла юрта. Балыш пошел и выяснил, что это пастухи казахи пасут в этих местах верблюдов. Сейчас мужчин никого нет, скоро будут. На хозяйстве осталась одна молодая женщина. Мы решили тут переночевать: за время этого путешествия натощак вымотались мы изрядно, да и времени до темноты совсем мало осталось. Взял я ружье, съездил на лодке и в два счета подстрелил утку, благо их кишело кругом, хотя стрелял-то я едва ли не первый раз в жизни. Отдали утку той женщине и уже через часок мы втроем дружно сидели перед мисками со свежей утиной шурпой. Утка быстро исчезла за приятной беседой, которую вел Балыш с дамой. Он задавал неторопливо дипломатические вопросы – когда вернутся мужчины, сколько всего их здесь народу, здоровы ли все, как себя чувствуют верблюды? А мужчин все нет. После ужина мы поблагодарили, посидели недолго и деликатно вышли из юрты «подышать свежим воздухом». Балыш говорит: «Пока мужчины не вернулись, неудобно в юрте оставаться». А надо сказать, после трудового дня и плотного ужина нас основательно разморило. Ладно, решили, что пока устроимся на плоту. Кое-как приладились, но тесно, жестко, а главное, комары грызут – спасу нет. Развели костерок на берегу, под дымом комарья меньше, а прилечь нельзя: плоский берег был влажным от солончака. Приляжешь на плоту, опять комары грызут, да и прохладненько.
Часа два так промаялись, пошел Балыш на переговоры. Нет, никак не пускает, говорит, надо хозяина дождаться. Никакие уговоры не действуют. Так еще пару раз повторялось, а ночь темнющая, холодно. Мы впотьмах то топливо собираем, то у костра жмемся, то для согревания танец дикарей исполняем. Наконец, окончательно осатанев от холода, снова пошли на штурм. Долго слышалось балышевское «апа! апа!» (женщина) – в юрте стояло гробовое молчание. Я стою, дрожу в стороне. Может, там уже нет никого? Вдруг – леденящий душу вопль, я не сразу сообразил, в чем дело. Оказывается, Балыш, отчаявшись, полосонул ножом по веревочным «запорам» на двери юрты. После такой реакции мы больше не отважились даже близко подойти к юрте.
Продрогнув до рассвета, мы переправились со всем нашим хозяйством к месту работы. По пути пытались еще поохотиться, но без толку потратили все оставшиеся патроны. Зато поднялось солнце и мы быстро «оттаяли». День прошел в работе – замкнули теодолитный ход, пронивелировали. Ясно было, что наши предположения подтвердились, настроение улучшилось, но кушать-то хотелось. Опять съели половину оставшегося хлеба и сахара. Вот когда пригодилась бы дичь, но… увы. Нам хорошо было видно, что к юрте на том берегу так никто и не подъехал за целый день. Решили туда и не соваться. К вечеру набрали побольше сушняка, на сухом бархане развели большой костер, потом очистили это место, навалили веток гребенчука и сравнительно комфортно провели ночь на этом ложе с подогревом.
Хмельной чал
и последнее испытание
Утром поплыли дальше вниз, но очень скоро перебрались в лодку вдвоем, туда же взяли инструмент, а плот бросили. Наше судно дало опасную осадку, но зато стало более устойчивым и быстроходным. Питание наше, если это можно так назвать, продолжалось по системе 1:2, то есть половину остатка делили пополам. В середине дня, когда у нас оставался ломтик хлеба с пол-ладони, на берегу опять показались юрты чабанов. Я стал толковать Балышу, что у меня есть деньги, и надо что-нибудь купить поесть. Он промолчал. В окружении кучи ребятишек под оглушительный лай огромных собак-алабаев мы подошли к юрте. Слава богу, здесь глава семьи оказался на месте, он пригласил нас войти. На кошме появилась миска с кислым верблюжьим молоко – чалом, лепешки. Мне казалось, что вкуснее я ничего раньше не едал. Все исчезло в нас до неприличия быстро. Балыш угостил хозяина «Беломором», а к пачке потянулась вся малышня. Они расхватали папиросы как конфеты. Когда мы шагали к лодке, я к изумлению своему чувствовал, что меня покачивает: явно захмелел от чала!
К концу дня мы благополучно выбрались в озеро Час-Как, но тут нас подстерегало еще одно испытание. Подул крепенький встречный ветер. Вон она видна эстакада около кирпичного цеха, давно бы пора добраться, а мы все гребем и гребем, и уже приходится усердно вычерпывать воду из лодки… Этот отрезок пути казался бесконечным. Мы вымотались до полного изнеможения, особенно досадны были финишные несколько десятков метров: нас заждались, ребята высыпали на берег, орут, приветствуют, а нас сносит, хоть караул кричи. Надолго нам запомнился этот финиш!
Да, многому сразу научило это маленькое путешествие! Не на словах, а на деле стало ясно, что с природой надо обращаться «на Вы», иначе можно жестоко поплатиться, что элементарная предусмотрительность просто необходима, что кроме премудрых институтских знаний очень полезно иметь еще крепкие руки и ноги, что уклад и обычаи местных жителей надо знать и уважать.
И все-таки это было чудесное приключение. Незабываемо чувство полной свободы и вольности, мы были молоды и почти без отдыху горланили песни на всю пустыню.
Изыскания под Келифскую ГЭС
Не знаю, было ли это следствием нашего «геодезического фокуса», но следующее задание я получил на ту же тему. Дело в том, что наш главный начальник Семен Константинович Калижнюк предложил построить на Келифских озерах гидроэлектростанцию. В районе озера «Туркменское» предполагалось перегородить русло и подпереть воду для ГЭС. (К2). Экспедиция Туркменгипроводхоза выполняла изыскания на правом берегу. Сроки, как всегда, поджимали, и нетерпеливый Семен Константинович пригласил из Ташкента своего старого знакомого геодезиста-пенсионера Глеба Васильевича Федорова. Он должен был выполнить изыскания на левом берегу. Вот в его распоряжение меня и послали.
Еще к нам прикомандировали молодого гидротехника Язы Джумаева – высокого тощего парня с веселыми смышлеными глазами. Тяжеловатый подбородок намекал на крепенький характер, что впоследствии и подтвердилось. Мы все встретились в Керки в управлении. Глеб Васильевич оказался стариком огромного роста в полотняной толстовке и панаме на лысине, обрамленной седыми локонами.
Никак не верилось, что этот довольно полный ухоженный седовласый пожилой человек барственного вида способен от зари до зари провести на ногах, отмахать по пескам много километров да еще с инструментом на плечах. Однако вскоре мы в этом убедились. Команда состояла, кроме нас троих, из нескольких детдомовских пацанов-реечников и одного мужичка-повара. Поселились на полпути от Керки до Час-Кака на самом берегу протоки в двух передвижных домиках-вагончиках: в одном жили мы с Г. В., там же контора, склад; в другом – 6 человек рабочих. Надо было наметить положение левобережной дамбы предполагаемого водохранилища. Ориентировочно протяженность дамбы должна была составить около 40 км. Ежедневно Г. В. выходил на рекогносцировку, выбирал трассу или 2—3 варианта, закреплял ее вешками. Затем надо было связать эти участки общим теодолитным ходом, а потом занивелировать. Первое время шли с инструментами двумя группами – Г.В. и я, так сказать, «в четыре руки», но потом Г.В. стал доверять мне работу самостоятельно. Это была великолепная практика свободного владения инструментом, которая очень пригодилась в последующие годы работы. На всю жизнь сохранил я благодарность этому спокойному мудрому человеку, который в совершенстве владел своим делом и щедро делился опытом и знаниями
Ближе к природе
Утки-лебеди
Всё наладилось и шло своим установившимся порядком, хотя наш полевой сезон явно затянулся. Был уже октябрь. Пришла холодная осень. Озера рядом с нами кишели от перелетной птицы. Лысухи, утки, нырки, гуси плавали в таком количестве, что буквально не было видно чистой воды. Иногда, потревоженные чем-то, поднимались на крыло огромные стаи, просто не верилось, что эти темные тучи состоят из отдельных птиц. Несколько раз видел перелет пеликанов. Поражали стремительность и изящество этих огромных птиц, которые на земле в клетках кажутся такими неуклюжими.
Но самое незабываемое – лебеди. Когда я услышал название соседнего озера – «Лебединое», то совершенно не придал этому значения. Однако именно там я увидел этих великолепных птиц на воде. Мы работали на трассе, когда пацаны-реечники указали мне на озеро. Через окуляр нивелира они казались почти рядом, громадные белые красавцы. Как-то странно было видеть их на открытой воде дикого озера, казалось вот появится прогулочная лодочка с отдыхающими, а чуть в стороне – домик-жилище этих птиц. Но это были настоящие дикие лебеди. Долго я не мог оторваться от этого зрелища, и мои сорванцы-помощники с азартом тянулись посмотреть «в трубку». Вдруг вся стая забеспокоилась, поплыла быстро в одну сторону, потом все птицы шумно и как-то бестолково захлопали крыльями, но долго-долго не могли оторваться от воды, молотили по ней лапами. Наконец, с видимым большим трудом оторвались, и… кончилось всполошное хлопанье и хлюпанье, оборвался шум и гам и в такт плавным и мощным движениям огромных крыльев вдруг послышался мелодичный свист. Мы остолбенели: вот так чудо! Вот тебе и Каракумы! А лебеди уже выстраивались в порядок и летели куда-то в сторону, но удивительно долго еще можно было различить упоительный свист их крыльев. Не раз потом мне доводилось слышать эту музыку, и почти всегда она опережала появление самих птиц.
Верблюды
А вот еще одна встреча там же. Работал я на трассе один: шел теодолитным ходом по установленным вешкам. Стою на «станции» (точка, с которой ведется съемка), налаживаю инструмент. Вдруг замечаю: недалеко несколько верблюдов идут в мою сторону. Раньше я уже видел их здесь, но на очень приличном расстоянии. А верблюды шагают, меня им хорошо видно, но не сворачивают. У первого брюхо как дирижабль, а морда такая свирепая, страшнее тигра: ноздри раздуваются, нижняя губа отвисла и обнажила огромные желтые зубы. Ну, что же делать? Караул кричать бесполезно, никто не услышит, бежать, так от него разве убежишь, вон ножищи какие! А он прёт прямо на меня! Ухватился я за треногу с теодолитом, хоть что—то в руках есть, буду обороняться. А у самого душа уже в пятки ушла. Эта громадина – вот она, на морде пена, шерсть клочьями висит, вонища от него пронзительная, аж в голове мутно! Ну, держись, Володька! А он проплыл в двух шагах от меня, даже голову не повернул. И остальные за ним тем же порядком. Уф-ф-ф! Тут только я узрел, что со своим инструментом я чуть не оседлал хорошо протоптанную верблюжью тропу. Шли они по своим делам, а моя персона их абсолютно не интересовала. А я-то страху натерпелся! И смех, и грех.
Как «мы»
посрамили начальство
Как-то подъезжают к нам С. К. Калижнюк, а с ним Янов – новый керкинский начальник и еще кто-то на двух УАЗиках. Надо сказать, что С.К. всё время заинтересованно следил за работой обеих экспедиций. Расспросил он Глеба Васильевича, что и как, присели чайку попить в нашем вагончике. Тут зашел разговор об охоте, а они только что проездом постреляли на озере. Янов прихвастнул своей бельгийской двустволкой, а Калижнюк в глаза ему смеётся, говорит: «Дрянь у тебя ружьё» – «Как так?» – «А вот так, ну-ка, неси, Павлик, ружья из машины». Поставили их ружья рядом, а калижнюковские стволы на ширину ладони длиннее яновских. Общий хохот, шум, Янов в затылке чешет, а Калижнюк аж сияет от удовольствия. За неимением кресел вся компания сидит друг против друга на топчанах, служивших ложем Глебу Васильевичу и мне. Тут наш дед завозился и молча достаёт из-за спины из-под матраса нечто в чехле. Не торопясь извлекает из чехла своё «ружьишко» – курковая двустволка, на стволах выгравировано золотом три кольца и надпись: «Его Императорского Величества Тульский оружейный завод». Сравнили: почти на длину ладони больше калюжнюковского! Что тут началось! Кому ни приятно, когда начальство оконфузилось. Расспрашивают ухмыляющегося Глеба Васильевича – что за динозавр такой? Оказалось, штучного заказа еще его родителя, под его богатырские габариты. Не зря, значит, просвечивалась хорошая порода у нашего Глебуни! Редко он вытаскивал свою «пушку», но уж если стрелял, то без промаха.
Наваждение
Как тут было устоять? При ближайшей вылазке в Керки обзавелся и я простенькой курковой тулкой. Вот как-то перед вечером собрались все с поля. Вваливаются трое. Дело обычное: мы стоим у дороги на полпути от Кирки до Карамет-Нияза. Другой крыши на всей дороге нет. К нам постоянно заглядывают передохнуть, погреться, закусить. Разные люди бывали, но такие бойкие еще не попадались. Один из них, шофер, уже просто обессилел от постоянного хохота, а те двое так и сыпят анекдотами да всякими «хохмами». Они и в дороге не просыхали, а тут еще в тепле «приняли на грудь». Вдруг один говорит: «Что же это у вас вот ружьё висит, а мы видели только что утка села в протоку рядом с вашим домом?» Я молча хватаю ружьё своё и – туда. Действительно, что-то чернеет за травой и кустиками на той стороне протоки. Бах! Вроде уже и не чернеет, и полететь ничего не полетело. Возвращаюсь, рассказываю. Да на беду свою сболтнул, что первый раз из этого ружья стрелял. Эти «артисты» мгновенно раскусили, с кем имеют дело. И пошел спектакль! Во-первых, это был здоровенный кряк, на том самом месте! Во-вторых, первую добычу достать надо, во что бы то ни стало, иначе потом вся дичь так и будет уходить из рук! В-третьих, новое ружьё надо обязательно обмыть, иначе оно может разорваться в самое ближайшее время при самых ужасных обстоятельствах!
Сначала я отнекивался, а потом, совершенно загипнотизированный их трепом, стал стаскивать сапоги и штаны. На виду у всей честной компании я сунулся в воду… Это был лед, только текучий! Но отступать не было никакой возможности, и я пошел. Протока была шириной метров шесть. Почему я вообразил, что мне могут помешать только штаны, неизвестно. С каждым шагом я погружался всё больше, вот уже задрал весь верхний комплект – майка, рубашка, куртка-бобочка по тогдашней моде. Увы! На тот берег я вышел без единой сухой нитки. Под моими босыми ногами похрустывал ледок, какие-то бадылки, веточки, камыш. Это воспринималось только на слух, я уже абсолютно ничего не чувствовал ногами. Конечно, там никакой утки не было. Тут мне вспомнилось, что подранки ныряют и цепляются под водой за камыш. Откуда запал этот бред в мою голову – не знаю, но я продолжал ощупывать лужу, где не только утка, но и воробей не смог бы укрыться. Обратно двигаться было проще, потому, что ног под собой я совершенно не чувствовал. В домике я сбросил с себя все мокрое, растерся и прыгнул под одеяло. Мне заботливо налили полный стакан водки. Обмывание удачно совместилось с лечебной процедурой. Наутро я проснулся сухой и здоровый.
А те два друга еще и не такие «хохмы» устраивали в Карамет-Ниязе. Жаль, не помню их имена. Один потом работал механиком в мехмастерских.
Завершение изысканий
Время шло, и вот в одно совсем не прекрасное утро мы высунулись наружу – всё бело, выпал снег! И это в конце октября, как потом стало ясно за много лет жизни в Туркмении – явление исключительное. Все скисли, а главное, у Г.В. нет ничего теплого. Наши сапоги и телогрейки на него просто не налазили. Единственное спасение – одеяло. Больно было смотреть, как этот мужественный старик по-бабьи кутался в одеяло. И сворачиваться невозможно, осталось совсем немного работы. Наши пацаны-реечники тоже забузили, из постелей не вылазят. А тут еще наш приблатненный мужичок-повар почуял слабину и сразу показал свои поганые коготки: дров нет, готовить ничего не буду! Короче, давай, начальник, расчет, по такой собачьей погоде работать не будем!
Так прошел короткий день, стали соображать, как сматывать удочки. Но ведь работу не кончили, стыдно. Кое-как переночевали, а утром я обозлился, ворвался к ребятам, подбросил в мангал дровишек, с шутками растормошил пацанов, собрал на двоих у кого обувочку поприличнее, у кого куртку, шапку. В общем, снарядил двоих – и айда! На ходу и теплее вроде стало, пацаны мои повеселели. Тут и солнышко выглянуло, дело пошло даже шустрее, чем обычно. А когда мы с работы вернулись и чтоб нам «пожрать» не было готово, это уж и наш проходимец повар сообразил – нельзя. Очень кстати для Г.В. прислали с попуткой какую-то безразмерную телогрейку, и жизнь пошла! Пацаны мои уже стали проситься в поле – там веселее, весь день в движении, киснуть некогда. Вечером тебя встречают как работника, за стол зовут.
Под занавес случилось со мной ещё одно происшествие. По относительно ровной местности мы за день проходили с нивелировкой километров шесть и возвращались к дому другим путем, чем шли туда. Вот возвращаемся – бац! – поперек узкая межгрядовая лощина затоплена водой и ледок стоит. Конца-краю не видать, обходить неохота, а лагерь наш по прямой вот он, километра три. Я командую своей легкой кавалерии: по одному, бегом, марш! Они одним духом по льду на том берегу очутились, прыгают, гогочут, меня зовут. Пока я место удобное выбирал, они костер развели. Побежал я как на коньках, но вес-то у меня побольше, лед прогибается, трещит. Но держит. Так и обошлось бы, наверное, да попалась на пути какая-то тростинка отдельная. Её ветром теребило и вокруг колечко не замерзло. Вот оно-то меня и подвело, от него лед треснул, пришлось метров пятнадцать выбираться по пояс в ледяном крошеве. Хорошо – не глубже. Немедленно все с себя долой, кое-как выжал, сунул мокрый зад к костру. Вижу, толку не будет. Скорее натянул все на себя обратно: ну, пацаны, догоняйте! Да как врезал! Сначала ужасно тесно было, а когда к домикам подбегал, от меня аж пар клубами валил. Затем – лечебная процедура по известному уже рецепту. Назавтра хоть бы насморк!
Правда, частенько теперь артрит донимает. Может быть, подцепил я его в тех зимних купелях?
На правом берегу изыскания вели гипроводхозовцы Григорий Иванович Огорелышев и Саша Беккер. Г.И. – сухой подвижный старик, виртуоз своего дела. Бесконечно выносливый и терпеливый человек. А с Сашей еще не раз пересекались наши пути в Каракумах.
Между прочим, именно там, в составе группы студентов-практикантов у Беккера работала Эльда Доманина, моя будущая жена. Но встретились мы только пять лет спустя на строительстве второго Тедженского водохранилища.
На озерах мы встретили новый 1955 год и только 4 января С. К. Калижнюк «собственноручно» снял нас с трассы. Задание мы благополучно выполнили. Почти три месяца полевой работы сдружили нас, жаль было расставаться. Мы тепло проводили домой Глеба Васильевича, а Яша вернулся к себе на участок «Эксплуатация». Забегая вперед, скажу, что наш Яша, Язы Курбанович Джумаев, работал на Каракумском Канале, отслужил в армии, заочно кончил институт, женился на дочери партийного секретаря, работал в строительной индустрии и… стал министром пищевой промышленности Туркмении. Пути номенклатурные неисповедимы!
Увы, калижнюковская идея о ГЭС на Канале не осуществилась. Очевидно, напор и объём воды оказались малы. Все же, не всё «могут короли», особенно в инженерном деле.
Не так страшен чёрт…
В январе вернулся я на Час-Как, и стали мы здесь возводить оградительные дамбы: чтобы вода пошла в Канал, в озере нужно было поднять уровень воды на несколько метров.
В эту первую зиму 1954—55 годов основным жильём были землянки. Устраивали их и на прорабских базах, и в Час-Каке и в Карамет-Ниязе, где базировалась теперь контора. Землянка сооружалась быстро и просто: выбиралась бульдозером траншея, вот вам ширина и глубина. А длина – по потребности. Стены и пол обшивались досками по каркасу, на потолок что-либо покрепче. В торцовой стене – дверь и окошко. Засыпали обратно грунтом и жильё готово. В моей землянке помещались поперек впритык две железные койки, у окошка – крошечный столик, посредине – жестяная печь, труба в окошко. Всё. Весь гардероб – в чемодане под койкой.
Никаких запоров ни на дверях, ни на чемоданах! Отныне и на всю Первую очередь, во всяком случае, в полевых поселках наших участков или «отрядов», как их тогда называли.
Вода в озере Час-Как накапливалась, горизонты росли. Ушла под воду часть времянок на берегу, скрылся под водой «кирпичный завод». Вся деловая жизнь переместилась в Карамкт-Нияз, где была контора. Там разворачивалась рембаза, склады, столовая. Там строились первые дома. В самом первом коттедже пока помещалась контора, во втором поселился начальник конторы Беляев с семьей. Строились здания общежития. Но много было еще помещений не капитальных: целая площадь с двух сторон была занята землянками, в стеновых ограждениях использовались камышовые маты. В первый мой приезд в Карамет-Нияз меня поразило, что крыши двух соседних навесов примкнули друг к другу не коньком, а седлом! Неужели тут вообще не бывает дождей или снега?! Увы, это был просто плод спешки и недогляда.