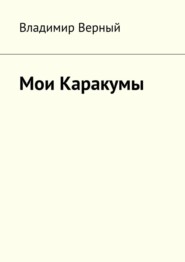скачать книгу бесплатно
Я рос в русской среде. Томск, Новосибирск, Ростов, Краснодар, Южно-Сахалинск, Ленинград. В семье – ни еврейских обычаев, ни языка, «идиш» звучал только в случае секретов от меня. Все друзья – русские. И паспорт получил с §5 – «русский». Кончил школу на Сахалине, поступил в Ленинградский Политехнический институт. Был нормальным комсомольцем, два срока отработал в стройотряде. Учился неплохо, бывало, получал повышенную стипендию.
Но… Уже на четвертом курсе в 1953 году шел я из института в общежитие. Мой путь лежал мимо разъезда Кушелевка через парк Лесной академии. Где-то в безлюдном месте увидел на стенде газету: «Врачи-убийцы». И сплошь еврейские фамилии. Меня как ошпарило! На следующий день отнес в милицию заявление: «Прошу исправить §5». Там очень сильно удивились, даже пытались отговорить. Я настоял.
Аукнулось при распределении. Из потока в 50 человек 20 должны были остаться в Ленгипроводхозе, где я писал диплом. По баллам я с запасом входил в первую десятку. С родственниками планировал жизнь и работу в Ленинграде. Мне предложили Прибалтику. Я отказался, встал и ушел с комиссии. Потом мне вручили распределение в Карелию, последнее, что осталось после всех.
В многолюдной общаге, празднующей выпуск, я не знал куда деться. Уткнулся в ночное окно, молча трясся в истерике и боялся отойти, чтобы не встретить сочувствующих взглядов ребят.
Тогда я надумал ехать в Москву, проситься на Сахалин. Вадьку и агитировать не надо было. Паша решил двигаться с нами. В результате мы втроем оказались на Каракумском канале.
Казалось бы, вполне достаточно, чтобы люто возненавидеть советскую власть. Нет, не могу этим похвастаться.
О жертвах репрессий
Работали на Канале многие амнистированные. Ведь это и были жертвы репрессий. Ну, и кто это? Они особенно не откровенничали, были разные, но запомнились настоящие подонки: воры, бывшие полицаи, уголовники. Вспомнить того же Веревкина с компанией. Был некто Нагиев. Иначе как «фашист» мы его не звали: человек с лютой ненавистью ко всем и вся, обожавший только себя.
Нет, симпатии эти «жертвы» у меня не вызывали. Откуда нам было знать в то время, что по сталинской амнистии выпускали в первую очередь именно уголовников. Да и последующие амнистированные, действительно политические жертвы, возвращались в столицы, города, а не ехали на стройку в пустыню. Некому было поведать нам из первых рук о несправедливостях репрессий.
Вообще, у меня сложилось такое впечатление, что ужасы сталинских репрессий по-разному ощущались в столицах и в провинции. Может быть, именно поэтому и сейчас два-три десятка миллионов человек, в основном из провинции, голосуют за коммунистов в нищей России?
Чуть полемики
Строительство ККК в те годы имело немалое политическое звучание.
Но первые полтора – два года на Канале условия жизни и работы были такими, что глубоко в душе я не верил, что доживу хотя бы до своего тридцатилетия. Наши высокие начальники (те же Калижнюк, Янов) имели опыт строительства силами заключенных и не очень сентиментальничали и здесь. Условия фронтовые или лагерные, только не стреляют.
А с какой стати? Нет, такой вопрос у нас не возникал.
Отнести это на счет системы в голове не укладывалось. Глубоко укоренилось понимание, что бесконечные трудности всегда временные. И всегда был кто-то или что-то тому причиной. То на нас напали со всех сторон, а белые – изнутри, то, затянув ремни, поднимали индустрию, то троцкисты вредили. Только что прошла страшная война. Теперь вот строим в таких условиях потому, что надо страну восстанавливать да еще танки и ракеты делать. Всегда: «еще немного, еще чуть-чуть».
На Канал я приехал комсомольцем, сразу «двинули» меня депутатом в Керкинский Совет от Карамет-Нияза. Но я не жаждал такой деятельности, так ни разу и не выбрался на сессии Совета. Потом по возрасту выбыл из комсомола. С головой зарылся в работу. После институтской обиды в партию не тянуло, хотя, с другой стороны, искренне считал себя пока не достойным быть партийцем в моем понимании.
А встречал ли я таких? Да!
Сейчас очень расхожи штампы: «коммуняки», номенклатурные большевики, карьеристы, шагающие по чужим головам, жадюги, все подгребающие под себя, доносчики. Это кто? Все девятнадцать миллионов членов партии? Но это же ложь! Я встречал немало коммунистов кристально честных, самоотверженных, скромных, бескорыстных. Могу назвать немало имен, о ком рассказал и еще, возможно, расскажу.
Это механик Файнберг, гидростроитель Савченков, проектировщики Лавроненко и Дмитриенко, это начальник Подземвод инвалид войны Никифоров, это болезнено честный снабженец Ксенофонтов, это безотказный слесарь Широков… Да мало ли кто еще?
Думаю, порочна не коммунистическая идея справедливости, а порочна власть над людьми и жадность человеческая. Что, современные «демократы» и толстосумы порядочнее коммунистов? Что, девиз «больше успеха, больше денег» благороднее бескорыстия? Что, Онасис, имея в собственности целый флот, остров и жену красавицу-президентшу, был самым счастливым на Земле? Может быть Березовский действительно умнее и трудолюбивее меня во столько раз, во сколько он богаче (даже не касаясь путей обогащения)?
Конечно, все бесконечно сложнее, очень многое лежит за пределами моего жизненного опыта, поэтому и не хотел я касаться «политики». Но каждый из нас имеет своё понимание жизни, у меня оно такое, а я хочу здесь на этих страницах быть честным.
И, чтобы покончить с этой темой, скажу, что еще через полтора десятка лет я стал-таки членом партии. К тому времени очень потускнели мои романтические понятия, много было видено и пережито. После Канала восемь лет проработал я главным инженером в управлении Подземвод в Ашхабаде. Мне сказали: есть для тебя работа очень интересная, масштабная и творческая. Главным инженером республиканского водохозяйственного треста. Но эта должность только для членов партии. И я вступил в партию. Без аппетита и радости, но и не против своих убеждений. И проработал в тресте двадцать четыре года до пенсии.
А настоящее разочарование в советских порядках пришло где-то в конце семидесятых годов. Хозяйственная бестолковость, творимая на моих глазах и в чем-то моими же руками, перевесила все социальные блага (бесплатное жильё, лечение, учение, доступный отдых). До меня «дошло», что все эти блага из рук власти есть крепкий поводок, на котором нас держат и не отпускают. Зато зарплата втиснута в нормы очень далекие от истинной цены труда. Поэтому мало желающих «выкладываться», работают «спустя рукава». Отсюда низкая эффективность всего хозяйства.
Оказалось, что светлые идеалы – это одно, а сложившаяся жизнь – совсем иное.
Полевое житье-бытье
Но вернемся в Каракумы.
За 1955 год четко сложилась технология работ. Три отряда шли чехардой участками около десяти километров. Вслед по готовой пионерке запускали воду, а сверху от Головного по воде двигались землесосы, уширяя канал до сечения Первой очереди.
В отрядах наладился свой быт: холостяки жили по четыре человека вместе, семейные – в отдельных домиках. Фанерные домики четыре на шесть метров были обтянуты прошивными ватными матами из мешковины и брезентом, очевидно, поэтому их называли «юртами». Вообще-то сооружения эти не такие уж примитивные, как может показаться с первого взгляда. Во-первых, благодаря своей многослойной обшивке, они неплохо защищали от зноя, холода, дождя и ветра. Во-вторых, в стенах у пола были устроены «форточки»: отодвигались заслонки, снаружи отстегивался клапан в обшивке. Летом получалась неплохая прохладная вентиляция. В-третьих, входная дверь имела снаружи довольно вместительный тамбур: можно сложить разное барахло, и от непогоды отгораживает. Наконец, легкая юрта прекрасно крепилась к бревенчатым саням и свободно транспортировалась бульдозером волоком по бездорожью.
Первый объект на новом месте – дощатые туалеты типа «сортир». Затем оборудовалось помещение для ДЭС и душа, кухня со столовой, магазин, красный уголок, медпункт, склад и мастерская с непременной кузницей и прорабка с радиоузлом. Чуть в стороне – несколько ёмкостей под воду, дизтопливо и масла. Вот и готов поселок.
И снова подчеркну: никаких замков ни на юртах, ни на чемоданах. Да и куда денешься из такого поселка.
Питались все в столовой, «кухон» содержали вскладчину. За овощами и мясом посылали машину в Керки, автолавки завозили в магазин крупы, консервы и сладкое. Долгов всегда подбирал поваров-мужчин, и всегда все были довольны: питались добротно и не дорого.
В зимы 54—55 и 55—56 годов уже глубоко в песках зачастую обходились без привозного мяса: кругом ходили непуганные стада джейранов. На зиму они спускались с Копет-Дага на равнину. Сейчас даже неловко вспоминать об этом, но тогда это считалось в порядке вещей. Раза два и я съездил на охоту, но на большее меня не хватило: отдал ребятам своё ружьё, лишь бы не видеть этих джейраньих глаз.
Телевизоров тогда не было, да и транзисторов не помню, но ламповыми приёмниками пользовались, и радиоузел вещал на весь поселок. В красном уголке – книги, газеты, журналы, проигрыватель для желающих. Я получал подписные «Комсомолку», «Литературную газету» еще в два листа, журнал «Наука и жизнь».
Помню, пластинку с новым кумиром Раджем Капуром заездили до хрипоты. День и ночь из прорабки неслось «А-а-ба-ра-я-а-а!». Больше всех страдал наш сосед по жилью механик того времени Мироныч – тощий угрюмый дядя с вечно кислой физиономией. Теперь я его хорошо понимаю и сочувствую. Прости, Мироныч!
Я – в центре «руки в брюки», точнее в галифе
Мастер Надя доверила «училке» Люде Ерушовой
подержаться за инструмент. Рядом – ученики Люды
Устраивали иногда веселые розыгрыши, порой довольно небезобидные. Жили вместе в одной юрте двое: молодая мастер Надя и женщина, намного её старше. Не помню, чем она занималась, но нам доподлинно было известно, что у неё всегда водится заначка спиртного. Но как до него добраться? Решились на такой розыгрыш: будем сватать Надю. Снарядились, как положено: полотенце через плечо, «У вас товар, у нас купец». Бедная Надя, девушка крупная и очень простодушная, поначалу приняла всё всерьёз. Мы уж и сами не рады были. Выручила её многоопытная соседка, кое-как свели всё к шутке.
Но стол нам все-таки накрыли!
Как мы собаку ели
Как-то заехали мы к соседям в отряд Лисова. В прорабской юрте дух стоит аппетитнейший, на столе поднос с горкой котлет. «Садитесь, угощайтесь!». – «Кто бы отказывался, только не мы». Попробовали: вкусно. Только что-то ребята больно веселятся. Наконец, признались: «Вы ели собаку!» Тут только вспомнилось: на крыше юрты краем глаза заметил какую-то лохматую шкуру. Напарники мои пулей вылетели из юрты. А я ничего, пережил. Оказывается, Лёха Лисов давно маялся с легкими, вот кто-то и подсказал рецепт.
Так жилина трассе.
Обручевск степь
Наше место работы – воистину лоно природы. Южные Каракумы, где прокладывался Канал, (К2) – это, безусловно, пустыня в смысле человеческого обитания, но это, конечно же, не голые пески. Да и называются эти места«Обручевская степь». Эта резко пересеченная холмистая местность действительно сложена из песков, но эти пески большей частью закреплены травяной растительностью и кустами. А за Ничкой (это 174 километр трассы) попадались даже
Если хорошеько присмотреться, то у пояса можно рассмотреть трофей.
саксаульники, можносказать, леса. В районе Средних озер мы были удивлены длинными штабелями из саксаула, заготовленного в зоне затопления. Его сложили на высоких буграх. А кругом, кроме редких чабанов, ни живой души на много-много километров. Говорили, что потом по воде саксаул отправят к железной дороге, а затем на Урал: оказывается, только на саксауле выплавляются какие-то очень ценные сорта стали. Сначала весь кустарник казался на одно лицо. Потом стали различать. Это – саксаул с витым корявым стволом и мясистыми иголками вместо листьев. Хрупкий саксаул не рубят, а ломают: стволом смаху по поперечному упору, и собирай куски. У воды, даже очень соленой, – заросли гребенчука. Весной они осыпаны фиолетовым цветом и окутаны облачком желтой пахучей пыльцы. Жарким летом ветки гребенчука припудрены выступившей солью. В песках всюду кустики кандыма, внешне похожего на саксаул, но более гибкого. Даже немного кандыма в костре – и чудо, что за запах! И всюду в песках сено на корню: высохшая маленькая невзрачная травка иллек. Это рекордсмен по содержанию белка. Иллеком кормятся тысячные отары баранов. Ни с чем не сравнимо по вкусу и запаху мясо степного барашка!
Весна в песках
Еще весной 1955 года мы, приезжие, были потрясены картиной весеннего цветения в пустыне. Всё покрыл зеленый ковер травы, появилось великое множество разных цветов. В низинках, где накапливалась влага, цветы и трава стояли по колено и выше. Повылезли черепахи, кругом шмыгают ящерицы.
Появились, правда, и змеи и довольно серьёзные: кобра, эфа, гюрза. Но я не знаю ни одного случая укуса кого-то из наших. Мы очень скоро убедились, что змея сама никогда на человека не нападает, всегда бежит от него.
По первой воде
Мирные гады
Кстати, больше всего их попадалось именно в первые теплые весенние дни. Со своей Пионеркой мы пришли в холодное время, когда у них спячка. А как только выползли, то многие попали в глубокую траншею, откуда выбраться не просто – иди, найди выход. Особенно это касалось скреперных участков. Они разрабатывались продольным ходом. Получалась траншея с отвесными стенами и редкими выездами. Вот и создавалось впечатление прямо нашествия. Когда ночи еще были прохладные, змеи частенько забирались в стоящие трактора на тепло машины. То и дело, когда заводили трактора, раздавался чей-нибудь вопль, а потом шум и хохот: оказывается, змея мирно пригрелась на воздухоочистителе в кабине и проявила неудовольствие, что её потревожили.
В песках невольно становишься немного следопытом. Всё прекрасно видно: вот это ящерица пробежала, это – змея. Тут проползла черепаха. А уж след крупного варана ни с чем не спутаешь. Не раз наблюдал я такую картинку. На кучке отбросов, занесенных песком, – несколько перышек. А метрах в полутора-двух обрывается след змеи. Это тупорылая и как бы с обрубленным хвостом эфа «нырнула» в песок и точно вышла на «пасущуюся» птаху.
Между прочим, это у воды много птиц, не говоря о водоплавающих. А глубоко в песках птиц практически нет.
Первое время удивляли какие-то довольно крупные голубые цветы на сухих ветвях черкеза, пока не разобрались, что это греются (или проветриваются?) ярко окрашенные ящерицы.
Как-то к нам приехал парикмахер, пожилой тощий армянин. Он стриг кого-то прямо «на улице», когда мы пришли из забоя и ради потехи притащили в нивелирном ящике кобру средних размеров. Положили ящик на землю, открыли и стали ждать реакции прохожих. Вдруг подлетел этот старик, схватил змею голыми руками, быстро убежал с ней за поселок и там выпустил её. После этого он сначала хорошенько обругал нас, невзирая на наши командирские должности (конечно, поделом), а потом прочитал целую лекцию. О том, какая это безобидная живность, какая от неё польза природе и человеку, какая, наконец, это красивая и изящная тварь. Мы обалдело слушали его и краснели. Этого урока хватило мне на всю жизнь. При встрече со змеей я и теперь не испытываю теплых чувств, но и не кидаюсь убить её во что бы то ни стало, как раньше.
На полке в красном уголке на стоящих книгах лежала книга. Я взял её, а там – голубые глаза эфы! Удобно свернулась, пригрелась. Меня аж в дрожь бросило, я закричал. И тут же пулей подскочил шустрый пацан-ремесленник. Из-за моего плеча мгновенно схватил змею «за шиворот» и вынес из юрты. Он оказался из той же породы людей, что и армянин-парикмахер: крохотные зрачки, острый быстрый взгляд, стремительные движения – змеелов.
Жара. Прекрасные пески!
Проходили две-три весенние недели, начиналась жара, всё растущее скоро выгорало, а живое пряталось, и начинал, как часы, от восхода до заката работать «афганец» – горячий южный ветер. Случались и бури, поднимавшие в воздух тучи песка. В нескольких шагах ничего невозможно было разглядеть, все поры забивались песком, песок больно сек открытое тело. Если такое застало вдалеке от дома, лучше укрыться и переждать.
Жара – очень тяжкое испытание. Ведь бывает в тени за 40 градусов, а приходится и на солнышке побегать. Начнешь пить, – не остановишься. У меня постепенно выработалась своя «метода»: днем поменьше есть и, особенно, пить, голова обязательно покрыта, на ногах – легкие брезентовые сапоги. Со временем дошел до меня и смысл южной сиесты: во время пекла без особой нужды не высовываться, отдыхать. Странно, но о зимних холодах у меня остались более неприятные впечатления.
Зато, когда нет одуряющей жары, как хорошо бывает в песках! Какие роскошные закаты на фоне бирюзового неба, какие огромные южные звезды! А чего стоит запах саксаульного дымка у костра! В песках пропадает ощущение, что земля – это грязь. Наоборот, прокаленный песок не пачкает, он воспринимается как стерильный. Я привязался к пескам и очень хорошо понимаю тягу местных горожан выбраться, хотя бы не надолго, в пески, особенно весной.
Первый отпуск
В конце лета 1956 года получил я отпуск за два года на сто дней: по сорок пять дней за год плюс десять дней участником на ВДНХ. Был в Москве, Ленинграде, Сочи. Повидался с родителями на отдыхе.
Каким я был еще наивным «лопухом», говорит такое приключение. В Сочи в комнате, где я снял койку, уже жили два парня: один врач из Саратова, второй, молодой армянин, представился, как боксер Енгибарян. Что-то такое было на слуху, но копаться не стали. А Енгибарян был известный чемпион того времени. Через пару дней эта «знаменитость» исчезла вместе с нашими фотоаппаратами, какими-то деньгами и барахлишком, что получше.
Я расстроился, конечно, но махнул рукой, а доктор настырно осаждал милицию. Самое удивительное, что этого «чемпиона» нашли-таки аж в Ереване! Накрыли урок за картами, где он расплачивался нашими вещами. Все вернули! А он оказался непутевым сынком какого-то профессора.
Помню, в тот раз при возвращении из Керки в Карамет-Нияз меня на «кукурузнике» знакомые летчики довезли «за так»: в кармане у меня оставалась одна пятирублевая бумажка. Я долго хранил её на память. Не помогло, однако. Так и не научился я копить деньги: что нажил, то и прожил.
У колодцев без воды
В феврале 1957 года мы вышли к 250-му километру трассы, месту встречи с марыйцами. Они шли нам навстречу, в основном, с экскаваторами, поэтому все насыпи – дамбы, обвалования выполнены не были. С этой работой наш бульдозерный отряд пошел дальше в сторону Захмета.
Мы уже так удалились от Нички, где базировалась наша контора, что стало ближе возить воду и дизтопливо уже с западной окраины Южных Каракумов, от железнодорожных разъездов Уч-Аджи и Равнина. Кстати, места эти с юга примыкают к Репетекскому пустынному заповеднику.
Первый лагерь на марыйской стороне располагался в урочище Керк-Кую (Четыре Колодца). Воды в колодцах или не было, или было очень мало, да и та горько-соленая. Так как дорог там никаких не было, летом приходилось посылать за водой скрепер: ёмкость устанавливали прямо в ковш скрепера, – и поехали! Путь не близкий, да и двигаться при жаре можно было только по ночам. Рейс длился трое-четверо суток. Однажды этот скрепер поломался и застрял где-то в пути. Прошел срок, послали к нему на выручку, а вода в поселке тем временем кончилась. Кое-как перебились еще сутки, а воды все нет. На следующий день пришлось нам прекратить работы: «без воды и ни туды и ни сюды». Долгов своей властью отменил «сухой закон», разрешил вытащить бывшую в магазине «заначку» праздничного шампанского. Ничего не поделаешь, хоть какое-то питьё. Только на третий день после срока притащили, наконец, драгоценную воду.
Спутник
Осенью 1957 года, когда мы забрались далеко в пески, пришла неслыханная новость: наши запустили искусственный спутник Земли! Поскольку ни транзисторов, ни тем более телевизоров еще не было, весть, очевидно, передали по рации из конторы.
И вот – спутник!
Нам, живущим в безбрежной пустыне под ничем не заслоненным небом, спутник казался совсем своим и близким. Было много вечерних разговоров, иногда совершенно фантастических. Особенно не унимался один молодой парень, недавно пришедший из армии. Имя его было Алексей, но все звали его Полесок: у него не сходила с языка такая присказка. Он был ужасно удивлен, что летает эта штука там, где совсем нет воздуха. Но главное: как же без двигателя, да еще много раз вокруг Земли? Почему не падает? Другие, хоть стеснялись спрашивать, но тоже были очень заинтересованы, внимательно прислушивались.
Пришлось рассказать все, что знал на эту тему. Получилась настоящая лекция. Никогда не забуду, как слушали меня наши мужики. И это после целого дня «пахоты» на бульдозере.
Туркмены в отряде
Оглядываясь теперь на те первые два-три года, вот над чем я задумался: почему сравнительно с последующими годами местных туркмен в нашем отряде было не так много? Думаю, на то были свои причины.
За эти годы мне досталось пройти участок от Час-Кака до Кизилча-Баба. Это – от ста до двухсот пятидесяти километров от «культурной зоны», то есть от селений и аулов, где можно было бы рассчитывать на пополнение из местных механизаторов. А из нашей глубинки хорошо, если вырвешься домой раз в месяц на пару дней. Конечно, заработки на Канале хорошие, но и в родном колхозе механизатор не последний человек.
И еще. Первое время Всесоюзная стройка говорила по-русски, самые первые специалисты были приезжими из России, Украины. И рабочие тоже. То есть, как ни дико это звучит в адрес аборигенов, для них был и языковый барьер, хотя считалось, что русским в стране владеют все.
Кроме того, «контингент» амнистированных безусловно придавал стройке свой душок бедовости. Странно было бы ожидать, чтобы патриархально—целомудренная сельская туркменская молодежь не чуралась этой обстановки. Но ситуация в этом смысле явно изменилась, когда года через три вышли мы к Захмету. Здесь на «земле» и на сооружениях уже работало много местных парней. И работали отлично.
Прорабский хлеб
Знаю, что у многих понятие «прораб» ассоциируется с образом бессовестного ворюги-алкоголика. Крепко приложила тут свои руки пишущая братия, всё на свете знающая. О таких строители говорят: «Сами сортира не потроили, а судят». Грубо, но справедливо.
А прораб – это производитель работ, который нарисованное на бумаге превращает в нечто осязаемое. Для этого надо немало знать и крепко потрудиться. Вот древнейшее и простейшее дело – копать землю. Дело не только в количестве. Надо, чтобы по такой «дырке» вода надежно текла на сотни и даже тысячу километров – это Каракумский Канал!
Опишу, чем занят прораб на Каракумской «земле».
Вот отряд получил новый участок, это около 10 километров. Надо ознакомиться с проектом, выудить, что есть необычного, особенного: очень глубокие выемки или, наоборот, канал в насыпи. Изыскатели прошли здесь давно, возможно, два—три года назад. Ветер, осадки, бараны, верблюды сделали своё дело: трудно найти вешки и колышки, которыми были отмечены все пикеты, то есть каждые 100 метров, и переломы профиля. Немало побегаешь с чертежами в руках, пока всё восстановишь. В отряде 12—15 механизаторов. Надо решить ребус: каждому определить участок так, чтобы с учетом объёмов и сложности работ и с учетом возможностей каждого все справились приблизительно к одному сроку.
Затем каждому показать его участок на месте и вручить попикетную выписку глубин и объёмов. В ходе работ надо несколько раз подсказать отметку, а в конце месяца произвести замер под наряды.
А сколько крови пьёт сама процедура писания нарядов, будь они неладны!
Что стоит за словами «замер», «съемка»?
Из-за резкой пересеченности местности профиль изобилует «плюсовыми» поперечниками, кроме основных попикетных. На один километр трассы нередко приходилось до сорока и более поперечников. Иногда при небольших выемках в конце месяца приходилось снимать до четырехсот поперечников. А что такое поперечник? Скажем, при средней глубине два с половиной метра длина поперечника с отвалами составляет тридцать шесть метров. При трехстах замерах это более десяти километров! На каждом – спуск пять метров и подъем тоже пять. Промеры расстояний приходится делать той же нивелировочной четырехметровой рейкой. И это за два, максимум три дня по сыпучему песку. А жару, ветер или дождь никто не отменяет на это время.
Никакие реечники не выдерживали, тем более что обычно это были женщины, жены механизаторов. Приходилось рассчитывать на собственные силы буквально: на съемку выходили вдвоем с мастером. Это был сначала Балыш Тойлиев, а потом Курбан Байрамов: Балыш ушел-таки в бульдозеристы. Поочередно менялись ролями: сначала один до изнеможения носился с рейкой, потом он становился за инструмент «отдыхать», а рейку подхватывал напарник. Никакой трагедии в этом не видели: работа есть работа. А если добавить еще молодого азарта и духа соревнования, хотя бы с заходящим солнцем, то становилось просто весело.
На больших выемках, а были нередко гряды по шесть-восемь метров и даже до пятнадцати, мы приспособились вести съемку сразу двумя-тремя нивелирами в два-три «этажа».
Правда, «отдыхающему» нивелировщику приходилось навсе время мотаться между инструментами. Все эти ухищрения сокращали время съемок, но не их объем.
Обработка нивелировочных журналов выполнялась, конечно, вручную: арифмометры почему-то были не в ходу, а электронной техники еще и в помине не было. Старые геодезические «зубры» виртуозно щелкали на счетах. Приходилось измарать добрую тетрадку, чтобы подсчитать отметки, вычислить площади сечений, подсчитать объемы. Оставался пустяк: разложить объемы по дальностям перемещения, суммировать по исполнителям и составить наряды! Уф-ф!
Рабочий привал. У планшета Юра Шопин,
я (спиной) и Курбан (в шляппе)
Туркменская народная мудрость гласит: «Чай не пьешь, откуда сила берешь?» Первый десант на новом участке трассы.. Я, Полесок, Алексей и Саша Романов
Сборы на съёмку… и возвращение.
Прожаришься на солнце так, что горячая вонючая вода из резинового ведра – камеры покажется сладкой!
И это три с половиной года на двухстах километрах от Карамет-Нияза до Захмета, из которых одна треть – лично мои!
Легкого прорабского хлеба не бывает!