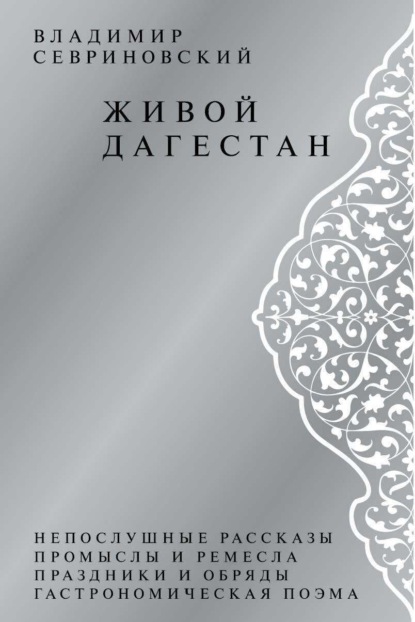
Полная версия:
Живой Дагестан
– Видишь, какие мы жирные? – даргинец хлопает себя по барабанному пузу. – Значит, сытые! Кони есть, бараны есть. На рыбалку времени хватает. Что еще человеку нужно?
Моряна – юго-восточный ветер – крепнет, вздымает барашки. Байда постукивает на волнах, иногда падая с грохотом, словно на твердый пол. Под защитой длинной Уч-Косы идется легко, а вот в открытом море уже опасно. Но смельчаки находятся: рыбы там больше, а непрошеных гостей меньше. Некоторые даже отправляются за триста километров в богатые осетрами казахские воды, где лодки порой топят пограничники.
Корму захлестывают теплые, почти пресные брызги. Моряки стоят у приборной панели, следят за направлением по GPS. Свои сетки помечены точками. Чужие лучше не трогать – за такое могут и убить. Нательные кресты тускло блестят, словно солдатские медальоны.
– Не пережимай. Мотор сдохнет – будешь болтаться, как Конюхов в кругосветке.
Кромка берега с лодками и мотоциклами сжалась в темную полосу, но маяк еще высится над горизонтом. Каждый вечер смотритель – остроносый Леха в кумачовых шортах – включает на нем фонарь. Зачем это нужно в эпоху спутниковой навигации, он лишь предполагает:
– Жахнут враги специальной ракетой – и прощай, ГЛОНАСС. Тогда мы и понадобимся.
Шелестит по песку дряхлый советский мотоцикл. Звякает ржавая кровать, подвешенная вместо гамака. Кажется, случись и вправду атомная война – вся страна станет похожей на остров Чечень. Только без черной икры.
– Недавно приезжал ремонтировать маяк длинноволосый парень. Хиппи, наверное. Встал на берегу с удочкой, в одних шортах. Плывут нацмены, смотрят издалека – ух ты, русская баба без лифчика! Подплывают, видят, что ошиблись. Салам алейкум кричат. Пацан надивиться не мог, какой здесь народ вежливый. Мы его прозвали каспийской русалкой.
Уютно урчит дизель, молчаливая жена накрывает на стол. На груди у Лехи – незаконченная татуировка, портрет девушки в пилотке со звездой. Тень маяка густеет, подбирается ближе.
– Здесь, на острове, все смешалось. Родственница недавно за нацмена вышла. Я сперва удивился, а потом смотрю – вылитый мой брат, только черный. Как родился сын, отец его обрезал, а бабушка крестила.
Мать Лехи стучит клюкой, привлекая внимание. Она было уехала в Каспийск, но после смерти отца он вернул ее обратно, поближе к себе. Одна беда – зимой, когда море схватывают льды, о врачах можно забыть. Байда на большую землю не пройдет, а вертолеты сюда не летают – дорого. Простой аппендицит грозит смертью. И все равно многие старики, давно порвавшие с морем, возвращаются на остров.
– В молодости хотел покинуть Чечень. Тянуло на подвиги. Тогда смотрителем маяка был отец. «Дурак! – сказал он. – Какая тебе новая жизнь? Посмотри – все разваливается. Сиди здесь и держись за верный кусок». Так и сижу. Тогда его не понимал, а теперь счастлив, что послушался. Пенсия скоро, квартиру в городе дали, а все равно, пока последняя собака не сдохнет и здоровье позволяет, никуда не уеду.
Григорий – самое счастливое существо на острове. Он толст и полон любви. Вразвалочку, как заправский моряк, он шагает по двору дяди Вовы, проверяет спелость помидоров на крошечных грядках и подолгу судачит с присевшим на корточки хозяином дома. Только хозяйка недолюбливает ласкового селезня и отпихивает его ногой.
– Сколько раз твердила мужу: зарежь этого бездельника! Утки для того, чтобы их есть. Но он приятеля не тронет. Хорошо Гришка устроился, ничего не скажешь!
Наталья Михайловна разливает из термоса чай, ставит на стол сливовое варенье и вдруг говорит тихонько:
– Я не люблю море.
Вечер колышет над крыльцом связку засохших килек. У входа – коврик из старой пожелтевшей шкуры белька. В красном углу – икона Богоматери и голограмма с мордами волков.
– Ни разу к нему не ходила по доброй воле. Даже в артизан не тянет. Мне хорошо в городе. Улицы, высокие дома… Так не хотелось возвращаться! Но гостям нравится. Неделю назад приезжала к нам нацменка. Известная художница. Разлеглась на песке и говорит: ваши пейзажи – мечта творческого человека! Побыла полчаса и уехала в восторге. А мы остались.
Птицы забились в тень и тяжело дышат, разинув клювы. Только ласточки безмятежно качаются на проводах в ожидании вечерних комаров да Григорий шлепает по двору и тихонько крякает. У соседей куры поклевали уток, теперь они сидят в разных клетках. Но селезень подружился и с петухом. Этому воплощению глупой радостной любви сложно противиться. Он не выпрашивает преданным взглядом подачку, как хозяйский пес Шарик, но по первому зову следует за дядей Вовой не хуже собаки. В такие моменты знаешь, что это невозможно, и все равно отчетливо видишь, как селезень улыбается.
Рев моторов, каскады брызг – на море «гонки». Стражи порядка в черных масках преследуют нарушителей с открытыми лицами. Байды летают как угорелые, рыбаки прикрывают собой моторы – страшно стрелять по людям, мало кто на это готов. Одну лодку прижимают к берегу, но она скрывается в камышах. Туда егеря не сунутся: загнанные в угол моряки дерутся до последнего.
По селу мечется белокурая женщина в легком цветастом платье. Она тщетно терзает кнопки телефона.
– Где мой Семен?
Абонент недоступен…
– Где мой Семен?
И, в сердцах:
– Будь проклято это море. Одни от него опасности и переживания. Лучше б оно высохло…
Шуршит, ползет песок. Уносит легковесный мусор, искусно обтачивает чистые тонкие кости. Старый моряк, прихрамывая, бредет по берегу.
– Здесь была улица, – заскорузлая рука обводит траву и редкие кусты. – А здесь мы швартовали лодки. Море с тех пор далеко отступило. Да и рыбы все меньше. Мы думали, она никогда не кончится. Заходили в воду – боялись порезаться о плавники. А сейчас детей ловим. У них и икры, почитай, нету. Отпустить бы их, но если рыбу жалеть – бедным будешь…
В окне избы мерцает лампочка. Выключателя нет, она зависит не от людей, а от рыбы. Нужно заморозить улов – генератор будет работать и днем, не нужно – замолкнет и вечером. Но хозяин дома не огорчится, просто ляжет спать пораньше. Быть счастливым после конца света легко. Избежать падения в пропасть так же приятно, как взмыть в небеса, и при этом гораздо проще. Прекратилась на время бомбежка, дрогнул нож лучшего друга, сын вернулся с моря. Если твой дом и занесут пески, это случится завтра. А пока ты жив и счастлив.
Солнце растет, краснеет, клонится к морю. Леха глядит на часы – скоро зажигать маяк. Все разошлись по домам, только мотоцикл стоит у воды и женщина на холме упрямо набирает один и тот же номер.
Промыслы и ремесла

Одна из главных визитных карточек Дагестана – знаменитые аулы мастеров. В суровых условиях, где одним сельским хозяйством прокормиться трудно, горцы развивали ремесла и прославили свои изделия далеко за пределами Кавказа. С развитием туризма эти аулы стали основой популярных маршрутов – причем не только для гостей республики, но и для махачкалинцев, которые легки на подъем и с удовольствием ездят в горы. Не случайно один из первых частных туроператоров Дагестана возник в Кубачи. Возможно, со временем потока туристов хватит для поддержания местных ремесел и промыслов, но пока аулы мастеров переживают не лучшие времена. Причины следует искать в недавнем прошлом.
В советское время дагестанские ремесла пытались вписать в систему коллективного труда – частных мастеров сгоняли в фабрики и артели, где акцент делался на серийной продукции. Хотя главные бренды – такие, как Кубачи, – продвигались по всей стране, индивидуальная предприимчивость, в прошлом позволявшая ремесленникам добираться до Японии и США, изживалась. После распада СССР почти все эти фабрики разорились или влачат жалкое существование. Ремесленники вернулись в домашние цеха. И все же большинство по инерции продолжает советскую традицию массовой дешевой штамповки – хотя соревноваться по цене с товарами из Китая или Пакистана бесполезно. Стремление сократить расходы приводит к падению заработков. Обедневшие мастера уезжают или работают небрежно, тем самым замыкая порочный круг. Порой это обосновывают следованием традиции, но если традиция не развивается, а механически консервируется, она мертва. Так было и раньше – едва ли какое-либо ремесло застывало на века в неизменности. Резчики по камню становились ювелирами, ювелиры – стоматологами. То, что кажется наследием глубокой древности, полторы сотни лет назад было дерзкой инновацией.
Все успешные решения, которые я видел у самых разных дагестанских мастеров, сводятся к одному – выходу в элитный сегмент в противовес всеобщему стремлению сделать проще и дешевле. Герман Кабирски, хотя и нанимал на работу кубачинцев, выработал собственный авторский стиль и стал культовым ювелиром с армией поклонников по всему миру. Ариф Сулейманов открывает одну фабрику дорогих ковров за другой. Роберт Ченсинер превратил кайтагскую вышивку в предмет вожделения богатейших коллекционеров Европы. Думаю, что этот подход в сочетании с развитием этнотуризма, приводящего состоятельных клиентов непосредственно в аулы мастеров, – единственный путь к выживанию и развитию кавказских ремесел.
Канатоходцы
На склонах еще зеленела последняя трава осени, а вершины окрестных гор уже покрыл слепящий снег. Пастух гнал по тропе коров и телят, издали похожих на знаки азбуки Морзе. Высокий дед в барашковой шапке пахал крохотное поле на двух ослах, а его жена подбирала вывернутые плугом редкие картофелины, оставшиеся с прошлого урожая, и складывала их в погреб, черной ямой зияющий прямо среди борозд. Стайка детей, высыпавших из школы на переменку, играла в подобие тенниса, используя вместо ракеток учебники. А совсем рядом, за углом, по высоко натянутому тросу шла в фиолетовых шароварах и кожаных башмачках, натертых канифолью, худенькая девушка по имени Зумруд. Одна, без балансира и страховки. Горские старухи не отрываясь глядели, как она ловит тонкими руками равновесие, изгибается, пытаясь удержаться, но все же двигается дальше. Эхо шумело в ущелье, словно аплодисменты невидимых зрителей. Ведь крохотное селение, затерянное среди дагестанских гор, – знаменитая Цовкра-1, аул канатоходцев. Местные зовут их пехлеванами, что в переводе с фарси означает «борец» или «богатырь».
Никто не знает, когда тут зародилось это искусство. Краеведы полагают, что это произошло в XVI веке, когда на Великом шелковом пути появились бродячие труппы канатоходцев – узбеков, азербайджанцев и армян. Вместе с ними отправлялись на далекие гастроли, именуемые отходничеством, и цовкринцы, порой добираясь даже до Китая.
Чтобы устроить представление, приходилось основательно потрудиться: найти длинные бревна для стоек, выкопать полуметровые ямы, натянуть канат… Под аккомпанемент зурнача и барабанщика пехлеван показывал трюки, а на земле почтеннейшую публику развлекал шут в козлиной маске с бубенцами. Смертельные кульбиты сменялись прибаутками и лезгинкой, а под конец «козел» ловко хватал деревянным ртом плату за представление. Волнение зрителей было вполне оправданным: порой канатоходцы падали и разбивались. Любая ошибка могла стать роковой, но даже при идеальном выступлении старенький канат иногда не выдерживал и рвался. Опасность остается спутником пехлевана до сих пор – редкий канатоходец обходится без переломов. Ведь ходят цовкринцы, как и сотни лет назад, без страховки. Разве что стальной трос, хоть и ржавый, подводит реже, чем конопляный канат.
На старых видеозаписях Зумруд, тогда еще третьеклассница, отрабатывает первые трюки.
– Я дочь против ее воли научил, – хвалится репортерам Рамазан Гаджиев, руководитель школы канатоходцев. – Сыновья давно мастерами стали, а она все не хотела. Тогда я был вынужден сам ее поднять и насильно сделал канатоходкой.
– Боялась, а такая довольная пришла домой! – вторит ему жена.
– У нас, когда ребенок самостоятельно проходит по канату, считается, что это его второй день рождения, – подытоживает Рамазан.
А сама маленькая Зумруд, смущаясь, говорит, что мечтает стать циркачкой…
Добраться до Цовкры непросто, зато уже сама дорога настраивает на волшебный лад. Подъезжаешь к самому длинному в республике Гимринскому тоннелю со стороны Буйнакска – небо обложено серыми тучами, накрапывает мелкий дождик. Четыре с лишним километра под горой – и выныриваешь в ясную летнюю синь, словно перенесся неведомо куда, то ли в пространстве, то ли во времени. Но вот наконец и лакские горные районы, где водители попуток могут сделать часовой крюк, чтобы подвезти незнакомого человека, не забыв до отвала его накормить. Какие бы потрясения ни случались внизу, сюда доходят лишь отголоски.
– Что такое ваххабизм? Наши сельчане даже не знают, – пожимает плечами носатый лакец. – Кто хочет – молится для чистоты души, а другим мы не навязываем. Где, в какой религии сказано, что нужно убивать людей? Правда, порой бывает – кто-нибудь нарушил закон, подрался с полицейским, испугался тюрьмы и убежал. Его сразу называют ваххабитом. А он и намаз-то делать толком не умеет.
Горы, средневековые ограды в селениях, каменные арки – все это больше напоминает не Кавказ, а Гималаи. Убери надписи на русском и вездесущие «Лады» – и покажется, что не Россия это, а север Индии или Непал. Здесь еще сильны доисламские традиции, и весной лакцы, несмотря на осуждающее перешептывание соседей, широко отмечают праздник первой борозды и Новруз, корни которого уходят еще в эпоху огнепоклонников. Недаром само название Цовкра переводится как «знающие огонь». А порядковый номер ей присвоили потому, что неподалеку находится Цовкра-2, расположенная на таком крутом холме, что кажется – скромные жилища громоздятся друг на друга, сливаясь в один многоэтажный дом.
Раздолбанная попутка с паром, валящим из-под капота, бойцовым петухом в багажнике и крышей, обильно посыпанной сахаром – чтобы лучше продавалась, – домчала меня до цели и остановилась, как загнанная лошадь, посреди села, возле мемориальной таблички с долгим перечнем отважных пехлеванов, прославивших советский цирк. Рассказывают, что в 1935 году четверых молодых цовкринцев, выступавших по Кавказу с любительскими представлениями, заметил директор киевского цирка Давид Семенович Вольский. Пораженный мастерством канатоходцев, он пригласил их учиться в цирковой школе, причем общаться приходилось через переводчика: русским языком колхозники почти не владели. Так лакские пехлеваны сменили рыночные площади на круглые манежи.
Первая труппа называлась «4-Цовкра-4». Что они только не вытворяли! И танцевали на канате лезгинку, и вставали в шпагат с партнером на голове, а вершиной мастерства были прыжки на плечи друг другу с установленной прямо на канате подкидной доски – так, что получалась живая вертикальная колонна. В сорок первом артисты собрались добровольцами на фронт, но двоих из них в армию не взяли по состоянию здоровья: переломы, трещины в позвонках… Даже гибель одного циркача на войне не остановила победное шествие пехлеванов. Подрастало новое поколение – на всю страну прогремел номер, в котором вместе с отцом участвовали сразу семь дочерей!
– Знаменитый Гаджикурбанов выбирал здесь для цирка молодых ребят. Если боялись, мог и кнутом поучить, – вспоминают в ауле. – И сделал хороших артистов, знаменитых канатоходцев.
На гастролях советского цирка Париж покорил цовкринец Магомед Магомедов, который нес вверх по наклонному тросу свою жену – оперную певицу, исполнявшую во время восхождения классические арии. Поклонники труппы подсчитали, что артисты за каждое выступление проходят по канату не менее километра, а ветераны цирка давно преодолели планку в сорок тысяч километров, обогнув весь земной шар…
В доме Рамазана Гаджиева меня встретил накрытый стол, за которым сидели, закусывая водку вареными стручками гороха, трое кавказцев, удивительно похожих на персонажей «Кавказской пленницы». Несколько часов назад здесь принимали известную телеведущую из Москвы. Вот только спортсменки и комсомолки нынче уже не те.
– Представляешь, она у нас тут курила! – изумленно вытаращив глаза, поведал огромный лакец по имени Марсель.
Для дагестанца курящая женщина – это дикость. Он может не подать виду, но потом еще долго будет обсуждать, сокрушенно цокая языком, невоспитанность понаехавших на Кавказ москвичей, которые не знают местных обычаев и ведут себя порой, как дикари.
– Ты меня что, записывать будешь? – Марсель недоверчиво уставился в диктофон. – Тогда подожди.
Он зачем-то пригладил волосы и воротник, сказал: «Поехали!» – и принялся вдохновенно травить байки про то, как в стародавние времена влюбленные юноши и девушки из села ходили на свидания через горное ущелье по туго натянутому канату. Неумелые пехлеваны срывались и гибли в пропасти. Так, благодаря естественному отбору, в ауле остались лишь профессионалы каната и балансира. Марсель все больше увлекался, перескакивая через столетия от доисторических романтиков к хитрецам, улепетывавшим по воздуху в неприступные ущелья от войск Чингисхана, а от них – к циркачам, искусству которых рукоплескал сам Поддубный.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



