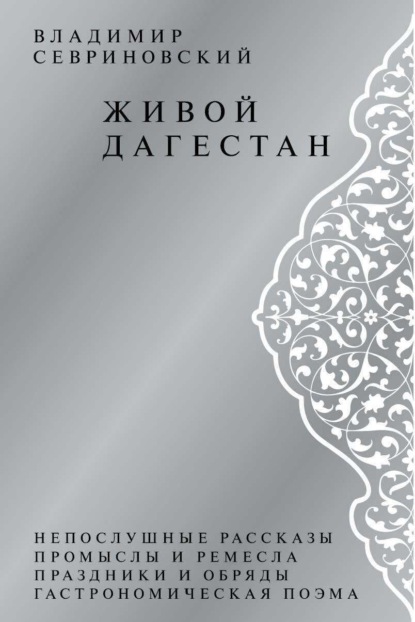
Полная версия:
Живой Дагестан




На большие торжества месить тесто для хлеба должна была непременно добрая женщина. Если хозяйки ссорились у общественной печи, хлеб они просили доделать соседок.



В конце XVI века на западном побережье Каспия начали селиться терские низовые казаки. Их называли громко – казачье войско. В действительности же это были небольшие ватаги отчаянных людей, которые занимались охотой, рыбалкой и «молодечеством» или, проще говоря, пиратством.



Остров Чечень – это тоже махачкала, границы которой простираются вдоль моря к северу на сто с лишним километров.
Годекан и родник. Хозяйка музеяМузей истории города Махачкалы – небольшое круглое помещение на окраине столицы Дагестана. Любому нормальному человеку с первого взгляда понятно, что сделать его популярным невозможно. К счастью, директор музея Зарема Дадаева – человек ненормальный. Она покупает экспонаты по всему миру за собственный счет, организует немыслимые виртуальные экскурсии и выводит проекты музея далеко за пределы его стен, порой охватывая весь город. Началась ее карьера еще в 1998 году, накануне Второй чеченской войны, когда Зарема вместе с Джамилей Дагировой создала первую частную галерею современного искусства Дагестана, которая так и называлась – Первая.
Искусство – это прекрасно, но как вам, двум молодым девушкам, удалось в такое непростое время сделать его прибыльным?
Мы окунулись в работу как одержимые. Каждые три недели открывалась выставка с отдельной концепцией, буклетами, оригинальными пригласительными билетами. Поэтому даже те, кто не понимал современного искусства, сознавали, что это серьезно и с нами нужно считаться. Галерист – это престижная профессия, но он постоянно тратится на аренду, печать, выставки в других городах… Часть расходов брал на себя попечительский совет, остальное мы покрывали за счет салона. Тогда многие «новые дагестанцы» дома понастроили, пустые стены надо было заполнять. Услышав цены в тысячи долларов, они хмурили бровки и говорили: «Почему так дорого?» Московский галерист Айдан Салахова в таких случаях спрашивала: «А ты одеваешься в бутике или на барахолке? Ездишь на “мерседесе” или на “запорожце”?» Ценообразование в искусстве индивидуально и субъективно, за пять минут его не объяснишь. Но мы не имели права допустить, чтобы человек ничего не понял и ушел. Для горца непонятное плохо. Приходилось беседовать часами. Тем, кто говорил «Я и сам так могу!», давали кисти и говорили – рисуй. Они сразу прятали руки. Иногда мы показывали гостям две абстрактные картины. Одна – студенческая, вторая – работа мастера. На вопрос, какая из них лучше, все выбирали правильно. В итоге мы сформировали арт-рынок и взрастили коллекционеров современного искусства. Дагестанцам присуще чувство прекрасного, только знаний не хватает.
Почему же люди без образования покупали ваш абстракционизм, а не условного Шилова, который им гораздо понятней?
Самые сильные и востребованные художники мира работают в нефигуративном искусстве. В Дагестане эта традиция органично вытекает из орнамента и запрета изображать живых существ. Здесь не могла сложиться школа реализма. К тому же мы раскрутили бренд и стали модными. Ходить в Первую галерею было престижно. Один чиновник постоянно допытывался: кто наш маркетолог? Почему галерея во всех изданиях, на каждой полосе культуры? А мы просто делали свою работу.
В конце 1990-х и начале нулевых махачкалинская культурная жизнь бурлила. Потом этот котел почти выкипел. Сперва «Черновик», затем остальные газеты одна за другой отказались от полосы «Культура». Да, прибыли от нее мало, но есть и более важные вещи! Твое издание формирует общественное мнение. Ты бьешь себя в грудь и говоришь о патриотизме, а потом убираешь колонку культуры и делаешь общество беднее духовно. Нельзя воспринимать искусство по остаточному принципу. Это – стержень нации, который даже прочнее, чем экономика. Со временем дефолт забудется, а художников будут помнить.
В кабинет просовывается острый горский профиль и с непередаваемым акцентом объявляет:
– Прорвался вода!
Директор музея спешит на место аварии руководить спасательными работами. Беседу мы продолжаем нескоро.
Как ты сменила престижную Первую галерею на этот музей, где руководителю приходится быть и меценатом, и немного сантехником?
К 150-летнему юбилею Махачкалы построили мемориальный комплекс, посвященный работавшим в Дагестане советским интеллигентам 1920–1930-х. Венчала его статуя русской учительницы. В 2007 году бывший мэр Саид Амиров разместил в этом здании музей истории города Махачкалы. Меня пригласили на собеседование, и я поставила условие мэру, которому не принято было ставить условия: пойду поднимать новый музей, если мне не будут диктовать художественную политику. Он согласился. Так я ушла из благополучной Первой галереи на новую площадку. Мне хотелось, чтобы она работала, не сделалась мертвой сущностью. Мы не ограничивались одной лишь историей города. Махачкала – столица Дагестана, а значит, в ее музее возможны любые проекты о республике. В конце концов, современные художники тоже работают в Махачкале.
Фонды у нас были нулевые. Ни сотрудников, ни экспонатов, и полтора месяца на подготовку к открытию. Нужно было освоить 700 выставочных метров, издать каталог, найти и отреставрировать дореволюционные изображения Махачкалы, оформить документы и набрать людей. Я себе сказала: «Дадаева, если ты это вытянешь, то сможешь в жизни всё».
Едва открывшись, мы воззвали к махачкалинцам – не выбрасывайте личные архивы! Отдайте нам. Люди понесли в музей важные пустяки, которые и создают флер времени. В Ставрополе в постоянной экспозиции я увидела обертку конфеты начала прошлого века – и страшно обзавидовалась. Без таких замечательных мелочей цифры и фото не оживут.
В последний момент мне позвонили – ребята выловили в Изберге якорь. Нужен? Я: конечно! Прихожу домой, выгребаю последние сбережения – ведь если я сейчас не куплю такую редкость, я ее никогда не получу. До сих пор это один из самых серьезных экспонатов. Главное в жизни – не деньги, а закон созидания. До тебя не было ни выставок, ни книжек, а теперь они существуют. Можно ныть, причитать, куда все катится. Я тоже иногда так делаю, а потом говорю себе – просто хорошо работай. Я точно знаю – один в поле воин. Наша культура формируется усилиями конкретных людей – таких, как Иван Морозов и Сергей Щукин, оставившие России одно из лучших мировых собраний французской модернистской живописи.
Наверняка у тебя был план, как добиться успеха в безнадежном деле популяризации музея без экспонатов, далеко от центра города.
Постоянные экспозиции собирают десятилетиями. Не имея фондов, мы сделали ставку на громкие проекты. Перед названиями большинства здешних выставок можно ставить слово «впервые».
Однажды я попросила сотрудников описать музей, как если бы он был человеком. Получился современный любознательный юноша, которому не все равно. С молодежью классно работать. У них нет пафосной Махачкалы. Они снимают то, что волнует и беспокоит. Удивительные фотографии и ракурсы – зачастую не поймешь, что это Махачкала. Сколько любви у этих ребят к такому маргинальному, странному, некрасивому, но все же родному и близкому городу. Даже когда они это отрицают, ругают его, по материалу видно.
Как-то раз мы напросились к профессору Серопяну, большому знатоку города. Он патологоанатом, знает махачкалинцев изнутри. Девчонки попросили у него набор металлических многоразовых шприцев. А он сказал: «Оставьте. Вдруг война? Тогда они пригодятся». Не покидает нас память о войне. Однажды я внезапно проснулась рано утром от фразы «Вспомним всех поименно». Так появился проект «Я погиб за Родину». Больше 95 тысяч дагестанцев погибли на Великой Отечественной. Сведения о каждом воине мы перевели в цифровой формат и проецировали на экран. Сто семьдесят восемь часов подряд они поочередно шагали из строя. Даже ночью, когда их никто не видел. Главное, что каждый вспомнился. Вышел из вечности и ушел обратно. Девятого мая 2009 года на всех электронных дисплеях Махачкалы сияли их имена. Когда я договаривалась об этом с руководителями рекламных служб, меня спросили: «Вы знаете, сколько стоит минута рекламного времени?» Я ответила: «Нет. И вы забудьте на этот день».
В рамках проекта «Диалоги с городом» я исследовала морфологию городского текста – как город говорит со своими жителями через объявления, вывески, надписи в лифтах, на футболках, в маршрутках… Особенно меня поразила фраза на аварском у входа во двор: «Умоляю, не кладите сюда мусор!» А внизу – три черных пакета. Получается, люди спустились с гор, из аварских районов, стали горожанами и страдают, что новое поколение понаехавших мусорит. Еще мы записывали звуки Махачкалы – шум прибоя, призыв на молитву, грохот стройки. Крики: «Рыба, рыба!», «Горячие бараньи головы!»… Из этого родилась аудиоинсталляция городской полифонии. Ее потом австралийцы хотели купить. Но я, конечно, бесплатно передала.
Через год после открытия у меня родилась идея проекта «Умный город»: установить на высоких зданиях бегущие строки и транслировать культурную и научную информацию – чтобы Махачкала обучала даже тех, кто не читает книжек. Город ведь живой, ему важно, из кого он состоит.
Мы сотрудничаем с лучшими музеями мира, работаем в библиотеках и архивах. Нам везде помогают. Только дагестанский объединенный исторический и архитектурный музей отказывает во всех наших просьбах. Зато благодаря этому мы вынуждены больше искать за пределами республики и находим редчайшие материалы. Я как одержимая езжу по стране, даже в Нью-Йорке выкупила собрание фотографий Дагестана. А еще в музее самая большая коллекция дореволюционных открыток республики.
У нас до сих пор нет хранилищ. Полтора года не финансируются выставки. Вкладываем собственные средства. К счастью, друг музея Эмиль Азизов понимает, что я, его жена, буду дымить и полыхать, если не случится нового проекта. Он шутит, что я и замуж за него вышла потому, что он руководит типографией, чтобы печатать буклеты. Условия работы порой невыносимы, но посетителям об этом знать не нужно. Пусть видят парадный зал.
За много лет работы Зарема заслужила единственное официальное звание – почетный житель аула Чох. Она им очень гордится. После выставки, посвященной этому селению, глава администрации неожиданно вручил ей диплом, к которому прилагался участок в Чохе. За диплом Дадаева поблагодарила, а землю не взяла. Сказала: «Ваши предки за нее кровь проливали, и раскидываться ею не нужно. Мы – пришлые, пусть чохская земля остается чохцам».
Традиционное искусство часто напоминает мне современное. Та же кайтагская вышивка выглядит смело и прогрессивно Можно ли нащупать живую связь между старым и новым?
На стене моего кабинета висит работа художника Апанди Магомедова из цикла «Кизяки». Когда мы показывали этот проект в галерее, молодежь хихикала – мол, выставили дерьмо. А я им в ответ: «Что такое кизяк? Природное топливо. Топливо – это тепло. А тепло – это жизнь. Не будь кизяков, дагестанцы бы жгли деревья. Надолго бы их хватило в горах? Вот и получается, что вы – горцы благодаря этой лепешке».
Меня поразило, что в деревнях кизяки не просто складывают в штабеля, а составляют из них затейливые орнаменты.
Апанди ездил по селам и фотографировал стены из кизяков. Могли же хозяйки накидать их в кучу? Но им помешало чувство прекрасного. Самосознание народа сформировалась в горах. В этот суровый край люди полезли ради свободы и независимости. Пусть полгода зима, но это – моя собственная гора, и я буду обустраивать ее по своему разумению. Несмотря на холод и лишения, наши предки не забывали о красоте, даже при лепке кизяков. Поэтому я так люблю старый Дагестан. А за современный мне стыдно. Ужасно, когда у государственного академического ансамбля «Лезгинка» плюшевые бурки. Ах, в настоящей моль заведется! Да кто тебе дал право интерпретировать незыблемое? В традиционном искусстве, в отличие от современного, это недопустимо. Дагестанец в плюше и стразах смешон. Ты – представитель неведомого народа, интересный миру только своей культурой. Не беги за Европой. Используй блага нового времени, переформатируйся, если нужно, главное – останься собой.
Дагестан такой маленький на карте мира, а здесь и ковроткачество, и резьба по дереву, и керамика, и ювелирка, и оружейники, и плетение циновок. Неслыханное множество ремесел! Поэтому мы зажрались. Растрачиваем свое достояние.
Махачкала – один из самых развивающихся городов России. За пятнадцать лет она выросла в три раза. Массово спускаясь на равнину, мы сильно мутируем как нация. В горах – адаты и общины, а в городах – непозволительные поступки. И городская архитектура тоже рваная, несуразная. Всюду – бетонные мутанты. Человек смотрит на них и тоже становится агрессивен. Я задумала проект «Тяжелобольная архитектура». Обмотать такое здание марлей, как бинтом, а внизу сделать выставку фотографий из книги Г.Я. Мовчана «Старый аварский дом». Чувство гармонии и вкуса присуще горцам, нужно лишь адаптировать его к городу. Противопоставить архитектурную традицию сегодняшнему хаосу.
Тяжело видеть, как гибнут наши культурные корни. Архитектурный эксперт Аркадий Гольдштейн написал замечательную книгу «Башни в горах». Ее издали серьезным тиражом и тут же изъяли из продажи – потому что он критиковал министерство культуры, которое никак не боролось за сохранение старинных башен. Отвернулись от горькой правды и сделали вид, что ничего не происходит.
Почему ты отказалась от должности министра культуры? Может, тебе бы удалось победить государственное равнодушие.
Я не чиновник. Меня и в музее бюрократия тяготит. С таким характером отправиться в правительство – значит умереть внутри. Я вежливо объяснила, что у меня другие приоритеты, я планирую стать мамой. Мы не так долго на этом свете. Зачем себя ломать? Жить и работать нужно в радость!
Куколки. монолог водителя
Сейчас молодые норовят жениться самостоятельно, как в какой-нибудь Европе. Забывают законы предков. Но сам посуди. Кто скорей ошибется – двадцатилетний сопляк или его папаша? У кого жизненный опыт больше? Вот и получается, что отец не только может, но и обязан подбирать детям пару. Иначе он – просто боящийся ответственности трус и слабак.
Меня женили родители. Мать издали показала девушку. Спросила, понравилась ли. Я кивнул. Во второй раз увидел невесту в ЗАГСе, в третий – на супружеском ложе. Подобные браки гораздо крепче, чем по любви. Предки наши всегда так поступали. В старину люди чище были, порядочней. Бабушку в двенадцать лет замуж выдали, она еще в куколки играла. Это сейчас молодежь порченая, телевизор смотрит. Сам знаешь, какие там сцены. Потому дети и не знают, чего хотят. Родителей не слушают. А тем виднее, кто сыновьям лучше подойдет. Потому и жили предки вместе до самой смерти. Не разводились. Каждый знал свои обязанности. Жена заботится о детях и занимается стряпней, муж приносит продукты. И не важно, что тебя с работы выперли или украли кошелек. Из шкуры выпрыгни, а семью обеспечь. Я мог неделями дома не ночевать, но запасы еды приносил. Брак – это прежде всего долг! А любовь – так, ерунда.
Хотя и мне случалось влюбляться, как без этого. Бешено. И взаимно. Но родители выбрали другую. И правильно сделали. Та и так двадцать пять лет была моей. Мужу изменяла – значит, и мне бы рога наставила, окажись я на его месте. А жених дурак был, даром что мой приятель. Узнал, что невеста – не девочка. Прибежал ко мне, вопил: «Люблю ее!» А я ему – «Что орешь? У меня через два дня своя свадьба. Хочешь расстроить – не получится. Предупреждали же – не суй нос туда, куда другой хрен сунул». Он заплакал и ушел. Духу не хватило от нее отказаться. Она потом больше со мной жила, чем с ним. Моей жене подарки носила, чтобы та не злилась. И супруга их принимала – знала, что пока я обязанности по дому выполняю, мне и слова поперек сказать нельзя. Этим хороши наши законы. Если жена сболтнет лишнего, можно дать по е. у, и ее же братья меня поддержат. Так и прожили душа в душу. Сына вырастили. Я ему тоже невесту подыскал. Тихую, скромную. Надеюсь, и он дочерей правильно воспитает.
Счастье после конца света
Шесть утра. Жара еще не навалилась на остров, но белые ночные мотыльки уже попрятались в кроваво-красной траве солянке. На холм возле моря въехал старенький мотоцикл «Урал» с проржавевшей насквозь коляской и зацепом для байды. Сама лодка тихо покачивалась на волнах, но водитель и его спутник не спешили.
– На рассвете мотоциклы шумели, а теперь на берегу ни одного, – засомневался высокий рыбак, заросший черной щетиной.
– Моряна поднимается. К восьми встанет, – просипел из коляски седой дед в огромной выцветшей кепке над крошечным темным лицом.
– Это не ветер, а пыль для моряков, – отмахнулся верзила. – Ступай вперед и посмотри, не видно ли чего.
Сам он достал бинокль и впился взглядом в горизонт.
– Вроде чисто, – доложил седой, пришлепав с мелководья в мокрых сандалиях.
– Не видел я раньше этого корабля, – щетинистый махнул биноклем на север, где темнело еле различимое пятно.
– Тут каждый день новый, – пожал плечами старик. – От ветра прячутся. Покурим?
Сигареты давно погасли, а моряки еще медлили на холме. Наконец высокий решился.
– Быстро сделаем круг и вернемся.
Мотоцикл въехал в море и остановился метрах в пяти от берега. Рыбаки взяли с двух сторон канистру с топливом и зашагали вперед. Вскоре байда рванула с места и растаяла на горизонте.
Самым живым существом здесь кажется песок. Он со змеиным шипением вьется по тропам, вздымается вверх в безумном танце, расчетливо ведет долгую осаду и берет приступом улицы столицы Дагестана. Ведь остров Чечень – это тоже Махачкала, границы которой простираются вдоль моря к северу на сто с лишним километров.
В конце XVI века на западном побережье Каспия начали селиться терские низовые казаки. Их называли громко – казачье войско. В действительности же это были небольшие ватаги отчаянных людей, которые занимались охотой, рыбалкой и «молодечеством» или, проще говоря, пиратством. В утлых дощаниках и стругах они выходили в море грабить купеческие корабли. Острова были для пиратов неплохой базой с естественной защитой от горцев, не слишком довольных буйными соседями. В Смутное время сюда сбежали от воеводы Головина четыре тысячи бойцов. Ни рыба, ни купцы такую толпу прокормить не могли, а потому они быстро перебрались на Волгу, где и были увлечены, по выражению летописца, в коловорот смутного времени. В 1722 году, направляясь к Дербенту, Петр Первый оставил на острове часть флота. И хотя климат здесь был столь суров, что сюда в XIX веке ссылали, как на Сахалин, со смутных времен на каспийской Тортуге не переводились рыбаки-старообрядцы. От них на кладбище сохранились каменные астраханские надгробия – рядом с недавними небесно-голубыми крестами. Они-то и назвали остров позабытым ныне русским словом, означающим корзинку для рыбы. И немудрено – осетры, каспийский лосось и кефаль на Чечене водились в изобилии. В советские времена тут процветал колхоз-миллионер. Старожил острова дядя Вова показывает выцветшие фотографии. Он сам, еще молодой, стоит в пыжиковой шапке и тельняшке рядом с кавказцем в кепке-аэродроме на фоне памятника усатому революционеру Ермошкину и клуба – одного из самых роскошных в Дагестане. Дядя Вова похож на типичного неунывающего моряка из мультфильмов – красный нос картошкой, щетка рыжих моржовых усов, лукавый прищур.
– Мы здесь родились, поэтому никуда не уехали, – сыплет он дробным говорком, пока жена Наталья Михайловна ставит на стол борщ с козлятиной. – В войну даргинцы приставали: «Как убегать надумаете, продайте дом». А куда нам бежать?
На стол ложится следующий снимок – дети дяди Вовы, еще совсем маленькие. Они с трудом держат вдвоем отрубленный хвост гигантского осетра. Рядом пара пацанов сидит на куске туши размером с взрослого человека.
– Какая рыба была! Пятьдесят кило икры с нее сняли, – вздыхает дядя Вова. – Тогда можно было зайти по пояс в море и поймать осетра на сетку. Один такой день вернуть – я бы миллионером стал!
Повзрослевшие сыновья бодро орудуют ложками. Младшего, Колю, отец отправил на год в армию. Жителей Дагестана военкоматы берут с неохотой, но для русских делают исключение. Даже без взятки обошлось. С военным билетом сыну открыты двери хоть полиции, хоть ФСБ, но он до сих пор на острове. Старший, Артем, выучился на бухгалтера.
– В Москве жил, в Питере работал. И все равно рано или поздно сюда заносит, – пожимает он плечами. – Сам не знаю как.
В лице Артема с годами все больше проглядывает отец. Мы идем по селу мимо старого магазина, переделанного в мечеть. На месте часовни – покосившийся железный крест со следом от пули. Дети играют в прятки в пустых домах, возле памятника Ермошкину пасутся козы. Лицо революционера обезображено давней автоматной очередью. От некогда величественного здания с колоннами остались одни руины.
– Как Союз развалился, клуб сперва разграбили, а затем взорвали, – рассказывает Артем.
– Но зачем?
– Россия!
Среди песка и холмов, покрытых мелким битым стеклом, ютятся избы. Их скрывают хаотичные заборы из шифера и досок. Порой внутри – крохотный оазис вокруг ухоженной гигантской акации, но обычно – лишь скудный двор с обрывками старых сетей, обрезками поплавков-барбелок, колодцем и дизель-генератором. Его включают, чтобы зарядить мобильные телефоны, посмотреть телевизор и охладить морозильник, где рыба дожидается перекупщиков. Мелкие осетры на острове идут по 150 рублей за килограмм, крупные – по 500, огромные – по 800. В Махачкале они существенно дороже, но рыбакам туда ехать не с руки: товар нелегальный, все должно быть схвачено. Мясо «красной рыбы» – лосося и осетра – лишь вспомогательный доход. Главная ценность, без которой Чечень давно бы опустел, – это черная икра. Сами островитяне едят ее редко – когда она незрелая и не годится на продажу. Присаливают и режут ножницами вместе с желтым жиром, испещренным красными прожилками. Зернистую, как в магазине, тут не уважают: вместо витаминов в ней подозрительные химикаты. Нет уж, лучше своя, домашняя.
В пиковые месяцы, май и июнь, черная икра со всего северного побережья Дагестана идет в Москву. Даже если часть фур ловят по дороге, прибыль велика. Но только не для рыбаков. Подобно собратьям по нелегальному промыслу – золотодобытчикам Дальнего Востока, – они влачат незавидное существование, но редко бросают свой опасный и тяжелый труд.
Впрочем, унынием здесь не пахнет. Напротив, смех на Чечене слышен чаще, чем в благополучных мегаполисах. Горожане Москвы и Нью-Йорка борются за место под солнцем, стремятся к лучшей жизни и опасаются перемен к худшему. У островных горожан солнце печет повсюду, вместо шаткой карьерной лестницы – надежда после череды неудач сорвать икряной джекпот на сотню тысяч рублей, а местный крохотный апокалипсис уже наступил с распадом СССР. Чего еще бояться?
Из трубы за железными щитами бьет поток скользкой воды с легким запахом сероводорода. Местные зовут его артизаном. Это, по сути, новый клуб, куда островитяне съезжаются несколько раз в день – искупаться, порой в одежде, чтобы дольше спасала от жары, и обменяться новостями.
Источник новостей – неподалеку, на холме. Три кавказца воздевают мобильники к небу и благоговейно ловят сеть.
– Мы, нацмены, рыбу не любим, – говорит одноглазый улыбчивый даргинец. – Русские ее три раза в день готовы жевать, а я всю продаю. Меня сюда колхоз пригласил лет тридцать назад. Овец и коз пасти. Сейчас это опасно. С той стороны острова бомбодром. Как начинают палить, земля трясется. Снаряды всюду падают…
Еще недавно отары паслись возле села. Животные съели и вытоптали траву, на дома полез песок. Теперь по дорожкам бродит только скот самих сельчан. Коз охраняет молчаливая кавказская овчарка. Не лает, даже не щерится. Просто подходит – и этого достаточно. Большие стада отвели дальше, к незарегистрированным кошарам. Те для армейского начальства не существуют. Корабли бьют по мишеням, промахиваются – и рядом ложатся шальные снаряды. Канонада стихает – и люди опять радуются жизни. До следующего обстрела.



