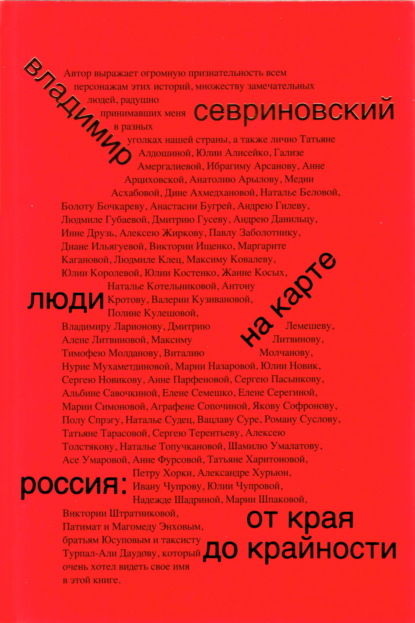
Полная версия:
Люди на карте. Россия: от края до крайности
На карте монстраций под согласное шиканье серьезных властей и суровых революционеров вспыхивают новые города.
У людей, познакомившихся на шествиях, рождаются самые настоящие дети. И даже если движение угаснет, смех рано или поздно победит. Хотя бы потому, что победа без смеха ничего не стоит.
Разговоры в пути
Большое путешествие по России я начал из самого ее центра, с Красноярского края. У меня было желание понять ее, и ни малейшего представления, как этот сделать. Переезжая с места на место, я очутился в Дивногорске – городе состарившихся комсомольцев, который карабкается, словно кошка, по склону холма возле огромной ГЭС. Было странно сознавать, что эта бетонная громадина способна родить и выкормить поселение живых людей. На автовокзале мужик с тяжелым морщинистым лицом вдруг коротко спросил: «Поговорим?» и, не дожидаясь ответа, спокойно и обстоятельно изложил мне всю свою жизнь: как работал шофером, как ездил добывать золото в северные артели, а потом, скопив денег, подался на юга… Ни жалоб, ни восторгов, ни завершенности сюжетов – чистый поток мысли, то ли Фолкнер, то ли Джойс, благо странствовать российскому Улиссу довелось не меньше, чем предшественникам. Сибиряки вообще редко жалуются, но тем поразительней их желание запечатлеть себя в слове, сказанном незнакомцу.
Лишь через несколько месяцев, упустив немало подобных историй, я понял, что этот многоголосый хор и есть способ России говорить с теми, кто хочет ее услышать. Достаточно захотеть, и она сама отыщет тебя, запастись терпением – и со временем неприметные крупинки золота, оставшиеся в памяти от сотен разговоров, сплавятся в драгоценный слиток. И пусть пока мои сокровища не столь велики, голос страны – то юный, то старческий, то женский, то мужской, будет звучать во всех частях этой книги.
• • •У нас в городе небольшой бизнес – от родителей достался. Но чтобы по-настоящему подняться, надо в политику идти. Только там можно заработать нормальные деньги. Молодые им сейчас нужны.
Президентом-то я вряд ли стану, а вот мэром Иркутска – вполне возможно. Надеюсь, глава района до поры не догадается, на чье место я мечу, иначе плакал мой бизнес…
Мы с подругой вчера заявление в ЗАГС подали.
На свадьбу человек пятьсот соберется, у нас, бурят, иначе не бывает. Расход, конечно, большой. Даже кредиты в банках дают специальные. Но это окупается – ведь каждый гость какую-то денежку принесет. Недавно приятель женился – так на дом и машину хватило.
Откуда, спрашиваешь, в машине православная икона? Мне шаман сказал: надо, мол, из церкви оберег принести. Против христианских злых духов. Передай-ка флакончик с рисом из бардачка. Священную гору проезжаем, сыпануть надо. Так полагается. Рис кидать, обряды шаманские проводить, монгола кормить. Иначе большая беда может случиться. Если слушаешься шамана – все хорошо в семье будет, без ссор и болезней. А ламам я не верю. Говорят, когда-то на Ольхон монголы пришли. Плохо им там было, но никто из бурятов не помог. Так и умерли они от голода. Теперь каждая бурятская семья должна по вине своих предков кормить одного из тех монголов. У меня, шаман сказал, черный монгол. По весне сметану жарим, мясо, потом часть сжигаем на костре – пусть покушает.
• • •Развалили! Все развалили, сволочи! Петра I на них нет. Тот бы живо порядок навел. Люди работают за копейки, кредитов по дурости набрали, а как отдавать? Лапшу ротом хлебать будут, на кишке экономить, но машину с японской свалки купят. Все на Европу смотрят. У тех автомобили – и себе хотят, в пробках сидеть. Что ни крестьянин – то обезьяний. Так и живем в Чите. Серое вещество, знаешь ли, очень серое.
• • •Зимой 2010 года мы с другом по льду перешли Байкал. Все семьсот километров. Тащили за собой сани весом больше центнера. Суровые морозы, сильный ветер. Пока этот маршрут одолели без кайтов и собак, только своими ногами, лишь четыре экспедиции. Мы пересекли озеро за двадцать четыре дня и шесть часов, это второй результат во всем мире.
На пятый день, когда уже далеко отошли от земли, к нам подъехал человек на «Буране». До ближайшей деревни – сотня километров. Ума не приложу, откуда он там взялся.
Мы думали, сейчас предложит помочь, а он первым делом, не успев поздороваться, спросил, есть ли у нас регистрация. Я сказал, что есть, а на самом деле не было. Он кивнул и уехал. Когда я работал в Москве во времена Союза, то видел, как буксировали самолет Матиаса Руста. После байкальской экспедиции я думаю, что все его неприятности были из-за отсутствия регистрации. Посреди озера у нас сломалась палатка. Пришлось везти новую. Ее доставил следующей ночью военный корабль на воздушной подушке. До конца путешествия мы гадали, сколько это будет стоить. Наверняка ведь огромных денег! А с нас потом взяли всего пятьдесят семь евро. Пятьдесят – на горючее, семь – на водку солдату, который забирал корабль из своей части.
Идеальная работа
Однажды на острове Ольхон мне довелось посетить выездной лагерь центра ездового спорта. Собаки изрыли норами целый холм, из-за чего тот напоминал гигантский муравейник. Когда к ним подходили люди, хаски нетерпеливо подпрыгивали и скулили, так им хотелось побегать. К поясу любого желающего пристегивали двух псов, и те бодро мчались вперед. Ускорять их не требовалось, куда сложнее было затормозить. Оставалось лишь держать равновесие, рулить и поднимать ноги – так можно было почти без усилий пробегать самые длинные дистанции.
Сейчас мне кажется, что у хасок была по-настоящему идеальная работа. Когда в охотку вкалывать как лошадь, рядом – понимающий коллега, ты все время движешься вперед и тебе плевать на то, что приходится постоянно тащить за собой кого-то не столь умелого, а тот еще пытается рулить.
Все чучела мира умеют летать
– Свободы? Нет здесь никакой Свободы! Даже не ищи! – прохожий уткнул нос в воротник и пошел дальше.
– Да тут ее отродясь не бывало! – вторил ему другой.
Я вздохнул. Уже пять драгоценных минут прошло с тех пор, как таксист высадил меня у ориентира – городской поликлиники, и я безуспешно спрашивал у местных жителей, где находится площадь Свободы. Время текло, уже начался спектакль, который произвел на меня в Москве такое сильное впечатление, что я решил выбраться в далекий город Мариинск в Кемеровской области и посмотреть спектакли Мариинского театра на его родине. К счастью, тут я заметил неподалеку яркую вывеску «Желтое окошко» и поспешил к ней, скользя по гололеду.
Крохотное фойе, уставленное наградами. Гардероб, он же – билетная касса, в которой сидит актриса, не занятая в постановке (во время вечернего представления ее сменит сам режиссер). Черный занавес отодвигается. На сцене Рыцарь в доспехах из макраме и прекрасная Принцесса – они выясняют, кто под чью дудку будет плясать. Зрительный зал поделен напополам – девчонки болеют за Принцессу, мальчишки подбадривают Рыцаря. Декораций почти нет, коричневые грифельные доски росчерком мела превращаются то в ноты, то в крылья, то в спящих людей, и пара десятков детей, сидящих в зале вместе с родителями, должны сами решить, что победит – желание доказать, что ты умнее, главнее и можешь управлять своим партнером, или же просто любовь. На этот раз любовь одерживает верх, и хочется верить, что дети и дальше будут делать такой же выбор. Да и взрослым после спектакля хочется улыбаться. Они снова чувствуют себя юными и готовы, взявшись за руки, бродить по опустевшим улицам. Так действуют на зрителя практически все спектакли Петра Зубарева – основателя театра. Среди множества режиссеров, пытающихся воздействовать на зрителя через слезы и достигших в этом мастерстве определенных высот, он обладает редким даром – побуждать задумываться над самыми сложными, а порой и трагическими проблемами жизни через радость и смех. Быть может, поэтому смех в «Желтом окошке» получается чистым, светлым и естественным – как глоток воды из лесного источника для человека, привыкшего к воде из пластиковых бутылок.
– Я боюсь излишнего пафоса, но скажем так: театр – это искусственное создание живых молитвенных моментов. То же происходит с человеком, когда он поднимается на вершину высокой горы. Хочется поделиться и самому сотворить подобное состояние – при помощи драматургии, энергии живого актера, его эмоций и честности. Это не просто зрелище. Если все получилось, актер гипнотизирует зрителей и доводит до состояния, в котором им что-то открывается. Ни для чего другого театр не предназначен. Молитвы бывают разными. Люди смеются, плачут, им может быть просто хорошо. А может – стыдно, горько, больно.
Я не сомневался, что театр – это мое. Мне было все равно, в каком городе работать. Вернулся из армии, обзвонил несколько мест, выясняя, где нужны режиссеры. В Мариинске сказали: «Вакансия есть, но только без квартиры». Я отвечаю: «Хорошо, но только без диплома». Так и договорились.
Когда в зале зажегся свет, оказалось, что уже после меня тихонько расселись по местам и другие взрослые, подоспевшие к середине представления. Они приехали в Мариинск из разных городов Сибири – от Томска до Красноярска. Еще целые сутки в гостеприимный театр подтягивались опоздавшие. Некоторым, чтобы попасть на утренний спектакль, пришлось провести ночь на станции Тайга.
– Когда мы начали играть, нас не понимали. Я говорил: «У нас спектакль». Меня спрашивали: «А в честь чего? Праздник, что ли, какой-то?» Привыкли, что все происходит только по торжественным датам. Поначалу зрителей было мало. Театр – это было что-то новое, со странным названием. И я был странный в то время. Мне хотелось эпатировать, но я делал это с чистой душой. Казалось, я таким образом людей подстегну, расшевелю. Потом перестал это делать. Зачем шевелить мертвых? Лучше будем звать живых…
В отличие от площади Свободы, местную тюрьму в Мариинске знают все. Огромная, больше любого другого здания в городе. Над массивными кирпичными стенами поднимается дым. От замка Иф, Бастилии и прочих известных тюрем сибирская коллега отличается тем, что за все сто семьдесят с лишним лет существования из нее никто никогда не сбегал. Она практически ровесница Мариинска, и несложно представить, как город нарастал вокруг тюрьмы, словно вокруг Кремля – такого же краснокирпичного, высокого и недоступного. Да и сбежать из Кремля, как показывает история, немногим проще.
Неподалеку от тюрьмы находятся вокзал и спиртовой завод, так что в одной энциклопедии о городе сказано: «Мариинский район – преимущественно сельскохозяйственный. А сам Мариинск – ликеро-водочный и железнодорожный». Основной и единственной улицей Мариинска долгое время был Сибирский тракт – знаменитая кандальная дорога, по которой каторжники брели в Сибирь. Если верить справочникам, в городе жили три известных писателя: до революции Мариинск прославил писатель-демократ, в первой половине XX века – писатель-натуралист, ушедший от политики в описания природы. Ряд завершает писатель – почвенник и патриот.
Обычная, в общем-то, история, мало чем выдающееся настоящее. Отчего же так радует этот небольшой город? Почему из него удалось увезти такое острое чувство жизни?
Мастерская художника Юрия Михайлова расположена в здании пекарни, в ней всегда пахнет свежим хлебом. В центре потолка вместо люстры – опустевшее гнездо шершней. Рядом висят расписные ложки. У окна раскинуло крылья огромное чучело белой совы, мимо него в форточку вылетает пенопластовый Пегас.
– Вот, поглядите! – Юрий кладет на стол большой кусок свежей бересты. Он прикладывает к ней пустую рамку – и мы с изумлением видим точный до мелочей рисунок заснеженного леса. Быстрое движение рамки – и теперь в ней наскальная живопись – охотники с копьями, бегущие за буйволом. Художник не касается бересты ни кистью, ни резцом, рамка лишь проявляет узор, заложенный самой природой.
В углу стоит огромный расписной туес – на фоне цвета заходящего солнца проступает замысловатый узор, панорама старой Руси. Часть рисунка обуглена.
– Я его назвал «Россия в огне», – смущенно пояснил художник. – Только собрался отдать заказчику, а он взял и сгорел… По-настоящему Юрий оживляется, когда рассказывает о многочисленных друзьях. Он перебирает их работы, словно сокровища, один рассказ сменяет другой, и диву даешься, как много необычных и замечательных людей связаны с Мариинском!
Художник Сергей Поползин из-за несчастной любви пустил себе пулю в висок. Лежал и чувствовал, как мир окрашивается в красный, теряется за яркой краской. Затем наступила тьма. Его положили в морг, где он неожиданно очнулся, перепугав видавших виды санитаров. Сергей выжил, но полностью ослеп. Вскоре он снова попробовал рисовать.
Получилось. Не так, как раньше, по-другому. Краски на палитре Сергей располагает в строгом порядке, находя нужный цвет по специальным насечкам. Разметку делает медицинскими иглами, измеряя пальцами расстояние между ними. Современные импортные краски для него не годятся. Сергей просто не знает их цветов, поэтому до сих пор пользуется старыми, производившимися в Советском Союзе, хотя давно живет и работает в Австрии.
Бабка Ирина начала рисовать, когда ей было уже за шестьдесят. Для внучки, в школьной тетрадке. Когда эта тетрадь случайно попала на глаза Юрию, тот был поражен. Дал бабке холст, акварельные кисти и сказал – рисуй. И она начала рисовать. Странные, ни на что не похожие деревья с узловатыми корнями и ветками, извивающимися, словно змеи. Необычные, яркие цвета, противоречащая всем канонам акварельной живописи манера, гипнотизирующая так, что каждую работу хочется рассматривать часами… За двадцать лет бабка Ирина успела поучаствовать во многих выставках и войти в энциклопедию наивного искусства. А на первооткрывателя своего таланта она обиделась – несмотря на все уговоры, художник наотрез отказался учить ее рисовать «как надо», полагая, что это убьет оригинальность ее творчества.
– Мы часто ездим по колониям, – говорит Юрий. – Зэки постоянно жалуются, что жизнь поломана, заново ее начинать поздно. А я им говорю: поглядите на Сергея. Неужели ему было легче? И как вы можете утверждать, что жизнь прошла мимо, если для бабки Ирины все началось только в шестьдесят лет?
• • •Петр вспоминает:
– В 2005 году я видел, как барнаульские студенты из академии искусств показывали на Алтае Акутагаву, «В чаще».
Так было здорово! Весь реквизит – палки, веревки и японские веера. Девчонки в простых одеждах, парни по пояс голые, босиком. Озвучка – гитара, флейта и колокольчик. Играли под открытым небом. И это было так классно – на фоне гор и заката, на траве. Жизнь нас сама сводит с интересными людьми, если для этого настало время. Другое дело, что я мог оказаться невнимателен. Когда мне сказали: сегодня на поляне, у моста, будет японский детектив, я невольно улыбнулся – ерунда какая-то, даже звучит смешно. Что там, местная самодеятельность? Алтайцы, играющие японцев? И сразу стало стыдно. Я подумал, что ж ты так о самодеятельности? Сам-то ты кто? И я понял, что раз я человек театра, то должен пойти и посмотреть. Потом уже буду судить, хорошо это или плохо. Оказалось настолько здорово, что я всем рассказывал – глаза горели. А профессиональным театрам – даже с долей удовольствия садистского: «Вы все плачете, что вам не хватает финансирования. А ребята театр из ничего сделали, на пустом месте. Это настоящий Театр».
• • •
Бог поет Belle по-французски. Он диктует Шекспиру монолог Гамлета и тут же пытается выправить жизнь двух современных людей – ведь время для него течет иначе. Тоненькие нити судеб натянуты наискось через сцену, каждый человек – всего лишь колокольчик, подвешенный в огромном пустом пространстве. Возлюбленный, Любимая, Убийца – каждый несет в себе особый звук. Бог ударяет по колокольчикам, и их голоса сливаются в мелодию. Бог поет с их помощью и только для них, а зал восхищенно замирает, чувствуя себя огромным инструментом, который настраивает мастер… Петр заглядывает в комнату, где гости смотрят в записи его спектакль «Моя работа», и смущенно бурчит:
– Слышу, кто-то страшно противным голосом поет Belle. Подхожу – а это я сам…
Спать все укладываются на просцениуме. Журналисты и путешественники, юрист и целая труппа исполнителей индийских танцев. Многие познакомились лишь несколько часов назад, но чувствуют себя словно в обществе старых друзей. В воздухе еще витает отзвук последнего спектакля, сыгранного Петром поздно вечером вне программы, только для гостей. И кажется, что где-то под потолком звучит мелодия и дрожат невидимые нити…
– Как только человек перестает учиться, он начинает умирать. Это страшное слово – «профессионал». Я его очень не люблю. Мне больше нравится слово «мастер». Профессионал – это некий потолок. Человек уже дорос и больше ни в чем не нуждается. А мастер всегда ищет.
Таких людей встречаешь повсюду. Актерская честность, это когда человек на сцене не для того, чтобы сорвать аплодисменты, а чтобы всего себя отдать, раствориться в зале. Но бывает и другое. Я видел театр, который меня просто ужаснул. Противно, когда актер откровенно выжимает аплодисменты из зрительного зала. Такой опыт – тоже прививка. Не дай бог такое допустить. Лучше увидеть со стороны, чем потом – в себе.
• • •– Какой я волшебник? Такое же, как вы, чучело!
– Совсем такое же?
– Такое же, точно такое! Вы, это, руки-то опустите.
– А можно?
– Конечно! Давно уже можно.
– А как случилось, что ты стал пугалом?
– Есть у нас, волшебников, такое правило. Если кому по своей воле помог, то должен с ним его участь разделить. Помог слепому – сам ослеп, помог глухому – сам оглох. Посмотрел я на вас и понял много такого, о чем раньше даже не задумывался. И подумал, что несправедливо будет, если вы все вот так вот на огороде окажетесь. Взял, да и потратил на вас это последнее желание. Ну что, девчонки, полетели? Сначала зададим этим воронам, а потом – в кругосветное путешествие! С перелетными птицами!
– Как полетели? Мы ж не умеем летать!
– Умеете, умеете! Теперь все чучела мира летать умеют! Только не знают об этом!
Игрушечные волки
Смеркалось. По оранжевым бокам одноместной палатки барабанили мухи, словно крупные капли дождя. Я читал «Александрийский квартет» и ждал, когда появятся волки. Что-то в этом казалось мне неестественным, почти абсурдным. Слишком живописно были разбросаны вокруг выбеленные временем кости и обломки черепов. Слишком настырным был сегодня грязный бродяга, привязавшийся ко мне точно собачонка – он распугал водителей попуток, на которых я мог бы уехать отсюда до наступления ночи. Все это не только попахивало литературщиной, но и было ею. «Зачем я здесь?» – спрашивал я себя. Такой, казалось бы, несоответствующий окружающему пространству, но странным образом придающий ему смысл. Словно царь Мидас, я превращал живой хаос этого мира, на мгновение возникающий во всем великолепном разнообразии и тут же исчезающий безвозвратно, в скопище сюжетов и смыслов.
Круглые и блестящие, совершенно одинаковые капельки росы, улегшиеся на изогнутом зеленом листке, как горошины в стручке. Ветхий зонтик, который неведомая рука положила вчера рядом со мной, пока я спал на земле, чтобы меня не разбудило солнце. Старик в расшитом халате с советскими наградами на груди, держащий на коленях строгого младенца в кепке с надписью Playboy. Очертания скал в вечернем тумане, похожие на китайский рисунок тушью – все это уже существовало вне реальности. И волки, бродившие по лесу вокруг, слишком удачно сочетались с далекими страстями героев Лоуренса Даррелла, чтобы быть взаправдашними. А разве нечто нереальное может вызывать всамделишный страх?
«Неужели я настоящий?» – воскликнул когда-то Мандельштам. Как знать, не из-за стремления ли выяснить это он читал кому попало сатиры на Сталина? Не хотел ли поэт почувствовать укусы игрушечных волков – и тем самым убедиться в собственном существовании? Если так, то перед смертью он добился своего.
Cogito ergo sum – аргумент красивый, но слишком литературный. Слова похожи на консервы с одесским воздухом, которые когда-то продавали туристам на Привозе. Те наивно считали, что стоит их вскрыть, и они снова почувствуют неповторимую атмосферу Одессы-мамы. А в действительности это – всего лишь жестянки с пустотой, как сам легендарный дух этого города по большей части – отражение в голове приезжих впечатлений от рассказов Бабеля и одесских анекдотов. Но, открывая жестянки или читая рассказы, люди действительно улыбаются. Так какому же миру принадлежат эти улыбки и эти истории?
Мы часто принимаем за отвагу или жестокость всего лишь чрезмерно развитое абстрактное мышление, свойственное математикам, священникам и поэтам. Я убежден, что холодная готовность Робеспьера отправлять на смерть бывших соратников имеет ту же природу, что и ужасная в своей бесчеловечности строка «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова». Великий революционер убивал Дантона, наверное, точно так же, как Пушкин – Ленского. Его совесть оставалась чиста. Как и совесть Ахматовой, которая призывала людей принести себя в жертву, не понимая того, что это – страшно и горько. При всей своей храбрости и умении красиво страдать, стоит ли затягивать живых людей в собственный абстрактный мир, где их жизни цена – копейка, зато драгоценны жестянки слов? Можно ли видимой легкостью чужой жертвы перечеркивать ее величие? Это – не риторический вопрос. Любая идея, именно в силу своей абстрактности, не может не требовать жертв, в том числе и среди непричастных. Даже если это – идея гуманизма. И в то же время какой немыслимо прекрасный наркотик – этот концентрат реальности из пустых жестянок! Эта способность упорядочивать хаос, безнадежно обедняя его, но и сообщая живой материи дополнительные смыслы. В сумерках проскакал всадник – куда? зачем? – и прежде, чем стих цокот его копыт, он уже перекочевал в пространство слова. Мир реальности и мир абстракции играют друг с другом, и это – самая великолепная игра на свете. А смысла и ответов на вопросы ждать от нее так же наивно, как от футбола, крестиков-ноликов и тысяч других игр. Да, это несправедливо, но ведь и сама справедливость – одна из самых кровожадных абстракций, созданных человечеством.
Наступила ночь, а с ней пришли сотни странных, непознаваемых звуков лесной жизни. Я улыбнулся и отложил книгу. По бокам серой, как и все окружающее, палатки, словно назойливые мухи, забарабанили капли дождя.
Девственность
– Ай, ты моя умница! Прелесть моя! Прям наглядеться не могу!
Восторги врачихи напоминали сюсюканье нянечки, разговаривающей с младенцем. Это раздражало. Надя была взрослой девушкой, знающей себе цену. К тому же от неудобной позы затекли ноги. Ей хотелось, чтобы осмотр поскорее закончился, и на нее перестали пялиться, как на музейную редкость. И ведь, казалось бы, что тут особенного. Три года назад, в четырнадцать, почти все были такими. Да и она – вовсе не синий чулок. Было бы с кем и ради чего. Ей казалось, и не без оснований, что одноклассницы занимаются сексом, в основном чтобы почувствовать себя взрослыми. Хотя трепаться про мужиков намного скучнее, чем перемывать косточки соседкам, зато можно пускать друг другу пыль в глаза.
А ей зачем такое, если с этими мымрами она отродясь не болтала. Да, она была другой. И дело совсем не в предмете любования врачихи. Чуть не с первого класса Надя ощущала, что сделана из другого теста, и жизнь ей суждена иная. Увы, они это тоже прекрасно понимали. А потому, хотя она ни с кем особо не ссорилась – сложно поругаться, когда не общаешься! – одноклассницы частенько приглашали ее на задний двор, традиционное место школьных драк. Мальчишки туда тоже хаживали, однако не было ничего страшнее боев разъяренных школьниц, когда в дело шли и зубы, и длинные ногти, так что клочья волос летели в разные стороны.
Но и здесь Надя вела себя не по правилам. Она приходила со старшим братом, который учился в той же школе, и драка заканчивалась, не начавшись. Одноклассницы считали ее трусихой, но Наде было плевать. Когда хочешь, чтобы тебя оставили в покое, остракизм только на руку.
Был, конечно, еще мальчик, с которым Надю связывал тот особый тип дружбы, когда он готов следовать за ней по малейшему зову, а она со сдержанной благосклонностью принимает его восхищение. Но дальше поцелуев дело не шло. Надя пробиралась домой по замызганным дворам, а ей мерещился совсем иной мир. Прекрасный, сотканный из журнальных постеров и снов. Пока еще нечетко, но она понимала: там будут другие, гармоничные города и люди, много работы и много денег. Куда ж без них.
Пока это было фантазией, зато она могла вырываться из города в другое пространство – горную тайгу. Там тоже царила красота и не было опостылевших рож. Она запросто ходила в дальние походы и не чуралась самой грязной работы. Трудиться Надя умела всегда.



