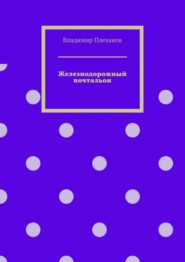
Полная версия:
Железнодорожный почтальон
Гуляя по перрону от одной торговой точке к другой, мы с Полиной не только мило беседовали, а точнее, не без интереса слушала мои рассказы, но и делали необходимые продуктовые покупки, при этом, не обращая внимания на то, что общаемся гораздо дольше по времени, чем предусмотрена стоянка по расписанию. Мне показалось, что с каждым разом наши, пусть и короткие, встречи с Полиной становятся все теплее, обоюдно приятнее, и что у меня появилось реально ощущаемое нежное влечение к этой женщине. Мне было уже приятно быть рядом с ней. Но не стоит торопить события, времени у нас предостаточно… Когда составу дали отправление, я только тогда заметил, что нас задержали на целях двадцать минут, и мы, коротко, но тепло, попрощавшись, стали спешно возвращаться в свои вагоны, неся в обеих руках по паре добрых пакетов с продуктами. она
Едва я запрыгнул в свой почтовый вагон, поезд сразу тронулся, и стоявший в тамбуре Степаныч, закрыл входную дверь. Неспешно пройдя по коридору слегка покачивающегося на ходу вагона, я сначала перенес все продукты в небольшую кухню и скоропортящиеся положил в холодильник, а потом начал продвигаться к своему купе. Идя мимо открытой двери купе начальника вагона, я заметил, что Наталья Петровна не зря походила по торговым точкам станции Иркутск, купив продукты и себе, и Степанычу, они вместе сидели и разбирали пакеты с накупленной провизией. Похоже, съестных припасов у всех нас было достаточно, чтобы спокойно ехать дальше хоть до Хабаровска. Я вошел в купе отдыха, где Геннадий уже пил чай и уплетал приобретенную на станции копченую курицу, которая традиционно была завернута в пищевую фольгу.
– Приятного аппетита, – сказал я ему.
– Спасибо! А ты-то хоть что-нибудь успел прикупить или все время с Полиной проговорил?
– Успел, вот во время общения и успел, совместил приятное с полезным. Кстати, а кто-нибудь омуля купил?
– Думаю, да, просто мы уже не первый раз по этому маршруту едем, омуль всегда берем, а еще кедровые орешки, я их просто обожаю! Их можно приобрести только в этих местах, – произнес Геннадий, при этом показав мне увесистый кулек с орехами.
Пока коллега продолжал трапезу, я решил просто посмотреть в окно на красивые места, которые мы сейчас проезжали. Покинув Иркутск, поезд начал свой путь прямиком к «славному морю, священному Байкалу» по новой постоянно действующей ветке Транссибирской магистрали, потому что, как известно из истории, прежний участок дороги, построенный еще в царской России, проходил вдоль берега Ангары, но в связи с последующей постройкой плотины Иркутской ГЭС, был затоплен. И уже многие десятилетия прибрежная станция Порт-Байкал, по сути, теперь уже начиная Кругобайкальскую железную дорогу, соединяется с основной веткой магистрали только небольшим участком. Кстати, то, что когда-то дорога проходила вдоль берега Ангары, можно было понять по тому, как прямая железнодорожная ветка после выезда со станции вдруг резко уходит вправо и подходит к Байкалу только у станции Слюдянка, расположенной на берегу южной оконечности озера.
История железной дороги, построенной вдоль берега Байкала, очень интересна и насыщена событиями. Строителям Кругобайкалки пришлось столкнуться с огромными трудностями, дорога строилась в сложнейших географических условиях, а значит, сюда было безмерно вложено и тяжелейшего людского труда, и гениальной технической мысли. Эту дорогу не зря считают произведением инженерного искусства, потому что в ней построено множество уникальных мостов и тоннелей, и это все в начале прошлого века, когда технологий, подобных современным, просто не существовало. Но, к сожалению, мы не сможем увидеть все то, что было построено, но большая часть пути все-таки проходит вдоль берега Байкала, и это даст нам возможность во время рейса получить удовольствие от созерцания вечных красот Прибайкалья.
Через пару часов поезд достиг одной из самых известных, да что там, станций Транссиба, крупного железнодорожного узла магистрали станции . В народе ее всегда называли и продолжают называть России, потому что рыбаки одноименного поселка спокон веку добывали из безупречных по чистоте вод Байкала эту уникальную рыбу, и промысел этот жив до сих пор. Эта местность вообще чрезвычайно богата различными минералами. В прежние времена здесь производилась добыча мрамора, слюды и лазурита, откуда, собственно, и произошло название поселка, а потом и станции, а статус города Слюдянка получила в середине двадцатого века… культовых Слюдянка омулевой столицей
На станцию наш поезд прибывал на первый путь с низким перроном. Постепенно снижая ход, электровоз протянул состав до границы станции так, что наши почтово-багажные вагоны немного выехали за пределы перрона. Состав, громогласно прозвенев всеми металлическими деталями вагонов, включая ударно-тяговые приборы и ходовые части, с режущим ухо кратковременным «щенячьим» визгом тормозных колодок, наконец, остановился. И все замерло в морозной тишине. Стоянка по расписанию предусмотрена всего на пару минут, почта здесь не обменивалась, и члены моей бригады даже не намеревались выходить из вагона, чтобы просто подышать воздухом. Однако я из любопытства все же накинул на плечи теплый полушубок, вышел в проходной тамбур в майке, своих синих спортивных штанах и тапочках на босу ногу, и открыл наружную входную дверь, но не стал поднимать площадку и опускать лестницу.
Держась за поручни, стоя на площадке и выдыхая изо рта пар, я начал осматривать видимые пределы станции, оглядываясь по сторонам, а потом решил увидеть отсюда само озеро. По прямой расстояние от станции до Байкала составляло метров триста, но мне все же удалось разглядеть вдалеке едва заметную береговую линию и сливающуюся с ней покрытую снегом и, разумеется, замерзшую водную гладь озера… Помнится, однажды я побывал на Байкале ранней весной, и тогда по его очень толстому и кристально чистому льду можно было спокойно ходить, да что там ходить, когда-то очень давно по толстому полутораметровому байкальскому льду была налажена регулярная зимняя переправа. Слева от того места, где стоял наш вагон, мой взор упал на необычной формы маленькие зеленые купола Свято-Никольской церкви, которая, как известно, является памятником истории и культуры федерального значения.
Несмотря на весьма морозный день, на перроне недалеко от здания вокзала стояло несколько женщин, одетых в зимние шапки, тулупы и валенки, приплясывая возле своих импровизированных прилавков и лотков, судочков и ведерок, покрытых белыми полотенцами. По давней местной традиции они торговали омулем разных способов приготовления, но я решил не покупать здесь этой вкусной рыбы, так как мы ее достаточно набрали еще в Иркутске, да и времени на покупки совсем не было, стоянка же очень короткая.
Разумеется, я не мог не обратить внимания на одноэтажное и очень красивое здание вокзала, возведенное, по историческим данным, более ста лет назад. Известно, что оно в своем роде уникально и построено специально для этого места, это единственный в мире вокзал, целиком созданный из местного белого мрамора. Говорят, что этому зданию по красоте нет равных на всем Транссибе. Легендарная станция была непосредственно связана со строительством Кругобайкальского участка магистрали, и именно здесь в Слюдянке магистраль встречается с Байкалом. Я читал, что прямо внутри здания вокзала около двадцати лет существует небольшой музей Транссиба, и вообще своими экзотическими достопримечательностями это место постоянно привлекает туристов…
Местность, где расположена Слюдянка, очень необычная, согласно историческим данным, здесь в древние времена жили гунны, потом пришли тюркские племена курыканы, а уже позднее эти места заселили буряты и эвенки. В семнадцатом веке там был построен острог для добытчиков слюды, который вскоре был перенесен в другое место, где сейчас находится Култук, и до начала девятнадцатого века поселений на этом месте не было. Потом появились исследователи и добытчики местных полезных ископаемых, в середине века построили колесную дорогу вокруг Байкала, создав в Слюдянке почтовую станцию, а уже в конце позапрошлого века начали строить Кругобайкальскую железную дорогу, что в конечном итоге сделало Слюдянку крупной узловой станцией и районным центром в Иркутской области…
Постояв у двери вагона, вдыхая морозный воздух, я вдруг отвлекся от своих мыслей и наблюдений, заметив, что поезд слишком долго стоит, уже минут пять или даже больше. На это я обычно никогда внимания не обращал, потому, как правило, пассажирские поезда частенько опаздывали, но, помнится, это было в стародавние советские годы, а в наше время железнодорожники такого старались не допускать, кроме, пожалуй, чрезвычайных случаев, когда для задержки была очень веская причина. Несмотря на это, я продолжал любоваться видом станции и вокзалом, а когда поезд, наконец, начал движение, сначала медленно, а потом с каждой секундой увеличивая скорость, я плотно закрыл дверь на защелку и вернулся в вагон. снова
Часа через три наш поезд должен сделать двадцатиминутную остановку в столице Бурятии городе Улан-Удэ, и, по словам Натальи Петровны, обмен почты на этой станции должен быть очень объемный, поэтому у нас было только часа полтора на отдых, а потом надо было приниматься за свою обычную работу. Разумеется, после отправления со станции Слюдянка все мое внимание было приковано к окну, из которого были видны байкальские заснеженные берега и покрытая снегом белая пустыня, временно распростертая по массивному ледяному покрову замершего до самой поздней весны озера. Несмотря на то, что стояла настоящая сибирская зима, это ни капельки не умаляло красот здешних мест, я смотрел в окно и мой взор получал истинное удовольствие от этой удивительной картины нашей русской природы…
Примерно с этого момента и началась череда всевозможных событий, которые, в конце концов, привели меня к фатальному изменению всей моей будущей жизни, и, как оказалось, не только моей…
Глава 4
Началось все с того, что после прохождения поездом очередного кругобайкальского тоннеля в вагоне вдруг полностью отключилось электричество, на первый взгляд, казалось бы, безо всякой видимой причины, просто взяло и отключилось. Такое в принципе было невозможно, потому что в случае обрыва отдельных коммуникаций или частичного выхода из строя оборудования все сразу отключиться, разумеется, не может. Это нонсенс! Особенно на ходу поезда, когда постоянно работает генератор переменного тока, приводимый в движение карданным валом от постоянно вращающейся колесной пары, и обеспечивающий вагон автономным и бесперебойным электропитанием. Понимая друг друга без слов, мы с Геннадием сразу же покинули свое купе и молниеносно вышли в коридор, где уже находились Наталья Петровна и Виктор Степанович, пытаясь понять что произошло. Всем было ясно, что без электричества продолжать рейс просто невозможно и даже опасно, полное отключение это настоящее ЧП для любого вагона, а не только почтового. Улучшив минуту, я позвонил по мобильнику Полине (в Иркутске во время прогулки по перрону мы обменялись номерами), чтобы узнать, как ситуация у них. После предельно короткого разговора с ней выяснилось, что и у них происходит то же самое, и они тоже пока не понимают, что именно случилось с электрической системой вагона прямо на ходу поезда. К сожалению, я ничего не мог ей посоветовать для решения проблемы, и поэтому, пожелав удачи, не стал больше ее беспокоить, она же в багажном начальник, и ей сейчас не до меня…
…Поначалу наш главный специалист по оборудованию решил, что где-то «просто закоротило», и начал штатную проверку по инструкции, что называется, «как учили». Геннадий вызвался ему помогать, держа в руке принесенный Натальей Петровной из кладовой железнодорожный фонарь и подсвечивая его мощным лучом темные участки для удобства осмотра Виктором Степановичем электрощитов, трансформаторов, контактов, выключателей, розеток и прочих элементов мудреной вагонной электросети. Степаныч на свой страх и риск даже высовывался из открытой входной двери вагона на ходу состава, чтобы удостовериться, что карданный вал, крутящий генератор, не заклинило, и он продолжает вращаться. В конечном итоге, к нашему общему крайнему и неподдельному удивлению, в результате тщательной получасовой проверки ничего необычного обнаружено не было, ток просто исчез, электричество совершенно не вырабатывалось, хотя поезд двигался, колеса крутились, как обычно передавая свое вращение генератору.
– Осталось подумать о генераторе, – обреченным тоном произнес Степаныч, – если вал крутится, значит каким-то удивительным образом вышел из строя только сам генератор. Если это действительно так, тогда это настоящая катастрофа.
– Ну, дорогие коллеги, что делать будем? – собрав всех нас в помещении кладовой, произнесла Наталья Петровна уже после того, как было перепробованы все возможные и доступные нам способы, которые могли бы восстановить электропитание в вагоне.
– Теперь ума не приложу, ребята, – грустно промолвил Виктор Степанович, разведя от бессилия руками, – просто не понимаю! Но генератор нам не исправить, посмотреть можно только на ближайшей станции и то с помощью местных электриков.
– В соседнем вагоне то же самое происходит, я спрашивал у Полины, – высказался я, чтобы хоть как-то подбодрить своих коллег, – но даже я понимаю, что такого просто не может быть, чтобы сразу у двух вагонов одновременно вышли из строя генераторы, значит, проблема общая и более глобальная.
– Кстати, у нас же внутренняя связь имеется, вы машинистам или начальнику нашего пассажирского сообщили? – вдруг спросил Геннадий, думая предложить хоть какой-то выход.
– Конечно, пробовала, Гена, хотела сообщить, но с кабиной машиниста связи нет, как и со штабным вагоном из-за отсутствия тока, а номеров их мобильников я не знаю. У нас же обособленные вагоны, мы сами по себе, нам такого не сообщают. Значит, сообщить о проблеме некому, – спокойно и невозмутимо произнесла Наталья Петровна, направив задумчивый взгляд куда-то в сторону.
– Ну, что-то делать надо, черт возьми! Ведь совсем не дело это ехать, да еще так долго, – слегка вспылил Степаныч, и было заметно, что эта ситуация его действительно беспокоит. вот так вот
– Знаю, Витя, остается одно – дождаться Улан-Удэ, станция часа через три, а там выйду на перрон и побегу в штабной, а потом за электриками… – сказала Наталья Петровна, – есть еще какие-нибудь предложения, вопросы?
– Наталья Петровна, обмен почты будем готовить? – спросил Геннадий.
– Полагаю, что будем, в любом случае до станции-то мы уж доедем как-нибудь, а там все надо сделать, как положено. Еще вопросы?
– У меня не вопрос, а информация к размышлению, – неуверенно произнес я, и все притихли, приготовившись слушать, что я буду говорить, тем более, времени у нас было предостаточно. – Я, коллеги, заранее прошу прощения, если, может быть, скажу глупость, но полагаю, что нельзя исключить и такой вариант.
– Говори, Илья, слушаем, – спокойно, без какого-либо интереса ответила ВПН.
– Знаете, друзья, я раньше несколько раз уже бывал в этих местах, у меня родня живет в Иркутске. У моей тетки, в прошлом учительнице русского языка и литературы, в домашней библиотеке можно было отыскать разные книги, в том числе о Байкале, об этом крае и его истории, и которые я читал в свободное от отдыха время. И вот однажды в одной из таких книг я наткнулся на информацию о том, что по берегам «славного и священного моря», начиная еще со стародавних времен, кроме других народов, жили и , которые веками поклонялись озеру и его стихиям, небу и земле, совершая свои многочисленные, сложные и яркие языческие обряды. У них не было храмов, и все свои священнодействия они проводили на открытом воздухе, возле рек и на горах. В частности, местные шаманы все это совершали на Шаманском мысе. В основе их религии лежало обожествление сил природы и умерших предков, вера в то, что в мире существует множество богов и духов, и с помощью шаманов (избранников бога, посредников между верующими и сверхъестественными силами) можно влиять на них для обеспечения счастья, благополучия и здоровья, отвращения беды. В политеистической иерархии высшим божеством у шаманов считался , то есть, Вечно Синее Небо – существо материальное и в то же время духовное, управляющее всем миром. Со временем шаманизм стал сложной и развитой особой системой религиозных представлений и обрядов. Вера охватила все сферы жизни, оказывая влияние на формирование культуры и образа жизни людей. Разными учеными была изучена масса артефактов древней шаманской культуры и все это очень хорошо описано в соответствующей литературе, а потомки этих людей до сих пор здесь живут в этих местах. буряты-шаманисты Хухэ Мунхэ Тэнгри
– Это очень интересно, Илья, смотрю, ты много начитался об этом, – сказала Наталья Петровна, – но какая нам-то в данной ситуации польза от этой информации?
– Да, читал в свое время, ради собственного интереса. Но мне сейчас примечательно другое. Среди всего потока прочитанных сведений, мне также встретилась и коротенькая заметка о том, что когда-то очень давно после произошедшего в этих местах какого-то очень значимого, яркого, но точно неизвестного науке события, от местных шаманистов отделилась некая группа людей, отщепенцев, которых шаманы прозвали . Они перестали поклоняться священному озеру, природным стихиям, и вообще почему-то вдруг решили напрочь отказаться от шаманских верований. Но точно известно, что ни буддистами, ни мусульманами они не стали… калуханами
– И что с того? – вставил свою пару слов Геннадий.
– Полагаю, у этих калуханов возникла какая-то религия, ученые полагают, что по их поверьям, это самое место вокруг Байкала, является каким-то , что ли, мол, оно в свое время было чуть ли не проклято всеми богами. Вот поэтому здесь то и дело с людьми происходили и, возможно, даже сейчас происходят ужасные вещи… иного сорта аномальным
– И какие же, например, – с интересом спросил Виктор Степанович.
– Ну, об этом информации очень немного, как правило, подобного рода темы не интересуют широкие массы ученых, но где-нибудь да можно отыскать сведения об этом.
– Как всегда, в любимом Интернете! – ухмыльнулся Геннадий, скептически покачав головой.
– И там тоже, – ответил я, – но тогда в той книге я прочитал, например, о сохранившихся в народной памяти случаях бесследного исчезновения или гибели людей, причем, как аборигенов, так и приезжих. Но лучше всего было бы почитать древние шаманские рукописи, где могло быть описано это роковое событие, из-за которого калуханы изменили своей вере. Ведь есть же ученые историки, лингвисты, которые наверняка читали и переводили тексты каких-нибудь манускриптов, где возможно содержались сведения и об этом уникальном событии, и возможно писали об этом свои научные монографии, защищали целые диссертации…
– И где же ты их сейчас достанешь, Илья, – с иронией в голосе спросил все тот же Геннадий, – и потом что нам-то это даст?
– Вот в этом-то и проблема, – только и смог ответить ему я, оставаясь в недоумении.
– Так что ты хотел в итоге сказать-то, – спросил меня Степаныч.
– В общем, я думаю, что, возможно, наш поезд сейчас попал именно в такую аномальную зону, а когда мы ее покинем, мы же все-таки движемся, то все придет в норму… наверное, придет…, – неуверенно произнес я.
– Ты думаешь, мы все пропадем, исчезнем? – с невеселой ухмылкой спросил Геннадий.
– Не знаю, Гена, просто это одна из версий происходящих событий, раз уж у нас больше другой нет, – ответил я, глядя перед собой.
– Десятки поездов проходят через эти места каждый божий день, и ничего такого не происходит…, – произнес Степаныч, в порыве вполне объяснимого гнева вскинув вверх обе руки.
– Ну, ладно, ребята, хватит мистики, у нас реальная ситуация, которую нам надо как-то разрешать, во что бы то ни стало, – строгим начальственным тоном произнесла Наталья Петровна, – Если у кого появятся новые идеи, но только реальные, то сразу говорите. Пока всем нам остается только ждать и надеяться, что пока мы не доехали до Удан-Удэ, здесь не случится чего-нибудь еще…
После совещания и невозможности найти решение нашей серьезной проблемы, все вынуждены были просто разойтись по своим местам, и мы с Геннадием тоже вернулись к себе в купе. Там, как и во всем вагоне, не было освещения, но мне было достаточно естественного яркого света, лучи которого в ясный солнечный день отражались от белого искристого снега и попадали через окно в наше купе, немного поднимая настроение. Я устроился на своей полке и продолжил смотреть в окно на байкальскую заснеженную природу. Не сильно покачивая вагонами на ходу, состав продолжал двигаться по путям кругобайкалки, и на пару мгновений мне даже показалось, что так мы спокойно и размеренно доберемся до Улан-Удэ без дополнительных проблем. Никто из нас не хотел даже и думать о том, что может произойти что-то хуже того, что уже случилось с нами в этом рейсе.
Я даже совсем успокоился, и, сидя у окна и наблюдая за меняющейся в нем картиной, слегка задремал, впрочем, как и мой коллега Геннадий, который прилег на полку и сначала молча лежал, погруженный в свои мысли, возможно, о нашей внештатной ситуации. Полагаю, в эти минуты подобные мысли не покидали никого из нас. Но мы пока знали одно – примерно через час-полтора надо было невзирая ни на какие проблемы идти готовить очередной обмен почты для станции Улан-Удэ, и я был уверен, что Наталья Петровна нам своевременно сообщит, когда приниматься за дело. Поэтому я окончательно расслабился и погрузился в дремоту, и как мне показалось, даже видел какие-то сновидения на фоне равномерного мягкого гудения движущегося вагона…
Глава 5
…Из легкой дремоты меня вывел сильный толчок, у меня возникло естественное ощущение, что наш поезд остановился. Едва отойдя ото сна и открыв глаза, я вдруг оказался в полной темноте, хотя окно купе не было завешено плотной шторкой. Машинально нащупав лежавший где-то рядом фонарик и включив его, я сначала осветил все помещение купе, а потом направил луч в окно, чтобы понять, почему через него не поступает свет с улицы. Однако я не увидел там ничего, кроме отражения в стекле своего лица, похожего на призрак из какого-то потустороннего мира. Все мои дальнейшие попытки разглядеть что-то снаружи даже с фонарем оказались тщетными. Из на меня смотрела чернеющая кромешная тьма, но поначалу я никак не отреагировал на это, не ощущая даже малейшего беспокойства, считая, что поезд попросту остановился в одном из многочисленных железнодорожных тоннелей, расположенных на этом участке магистрали. Я не стал даже покидать наше купе и просто спокойно ждал, пока состав после небольшой задержки вновь начнет движение. В это время проснулся Геннадий и, садясь на полку и позевывая, взглянул сначала на меня с фонарем в руке, а потом в окно, и спросил, почему мы снова стоим, да еще в полной темноте. Я ответил, что, похоже, произошла незапланированная остановка прямо в тоннеле, и он, поверив на какое-то время в эту версию, замолчал, также как и я, стал ожидать начала движения. Но поезд настойчиво продолжал стоять уже минут пятнадцать, и снаружи не было слышно ни единого звука, ни гудка, ни звона автосцепки, стояла мертвая оглушающая тишина. заоконья
– Что-то долго стоим, – вдруг сказал Геннадий, понимая, что пора бы уже начать двигаться, а то, судя по затянутым предыдущим стоянкам, поезд и так уже неприлично опаздывает.
– Да кто его знает, в чем там дело, все равно ничего не узнать, связи-то нет, – вяло ответил я, коротко зевнув.
– Тишина какая-то необычная, тебе не кажется?
– Мы же в тоннеле, откуда взяться шуму-то? – бодро и с наигранной уверенностью в голосе ответил я, осознавая, что признаков самого тоннеля (например, его стен) за окном я не обнаружил.
– Ну как же, Илья, шум воздуха, избыток которого на стоянках обычно травят с тормозной системы, например. Кстати, мы же находимся рядом с электровозом, всего через багажный вагон, а его электродвигатель должен постоянно издавать характерный гул, он всегда слышится, даже на остановке, а тем более внеплановой. А сейчас я его даже не улавливаю…
– Ты прав, друг, присутствие локомотива вообще не ощущается, – ответил я, тщетно пытаясь ухом различить в этой пугающе мертвой тишине хоть какие-нибудь звуки.
– Ладно, пойду сам посмотрю, – произнес Геннадий, встал с полки и, с шумом отодвинув дверь, вышел из купе.
Я услыхал, как он медленно почти на ощупь пошел по темному коридору и, дойдя до купе ВПН, заговорил с Натальей Петровной о слишком долгой стоянке и о полной темноте, на что она ничего вразумительного ответить не могла. Минутой позднее Геннадий, похоже, вышел в тамбур, а потом открыл входную дверь вагона, как я понял, посмотреть, что творится снаружи. Через несколько минут он вернулся в купе с лицом, полным глубочайшего изумления, и жестами позвал меня с собой, чтобы я посмотрел на все сам…



