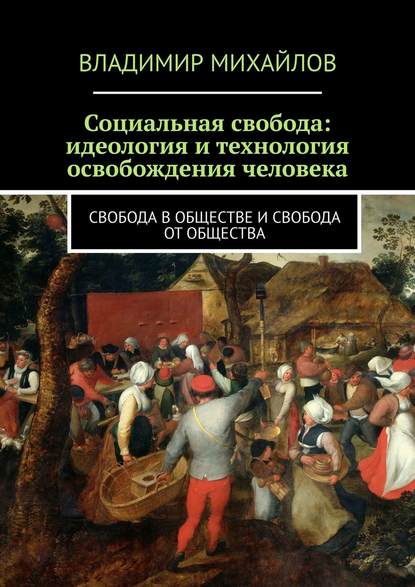
Полная версия:
Социальная свобода: идеология и технология освобождения человека. Свобода в обществе и свобода от общества
По сути, накопительный инстинкт присутствует у многих животных, но если у бурундуков, белок и других грызунов он инстинктивно ограничен, например определённым сезоном, то у многих социально-ограниченных людей благодаря культуре, снявшей с них некоторые инстинктивные ограничения, этот инстинкт может функционировать совершенно беспрепятственно, порождая различных миллионеров и миллиардеров. При этом их интеллектуальные и некоторые иные «технические» способности могут быть весьма совершенными, несмотря на то, что их цель – обслуживание некоторых преобразованных и извращённых культурой достаточно примитивных животных инстинктов.
Также мало кто почему-то замечает, что деньги не только зарабатываются, но и тратятся по определенным программам. Продавая за деньги своё время, свободу, способности и труд, работник (или бизнесмен), вопреки распространенному заблуждению вовсе не свободен в их трате. Большие деньги дают большую власть и глупо думать, что их могут доверить кому угодно. Их дают только тем, кто не только «правильно» их зарабатывает, но и правильно тратит. Поэтому-то миллионеры и тратят их на роскошь и казино, а не на благотворительность или поддержку передовых ученых и изобретателей. Тот, кто тратит свои деньги «не правильно», рискует быть исключенным из «приличного общества», а значит и отстраненным от источников прибыли точно также как преступник, который их «неправильно» зарабатывает. Средний обыватель оказывается в роли робота: зарабатывает, совершая действия по чужим правилам и указаниям и точно также тратит заработанное, оставаясь в обоих случаях в роли эксплуатируемого дурака. Обладание большими деньгами зачастую никак не повышает его качества жизни, а нередко и наоборот – ухудшает. Несвобода в расходовании денег порождает феномен «потребительской эксплуатации», о котором тоже не говорят. Потребитель бездарно тратит время на приобретение и потребление реально бесполезных, ненужных и даже вредных для него товаров и услуг, теряя в итоге на это не меньше сил, чем на работу…
Такая социальная ограниченность мешает заметить, понять, а тем более ликвидировать многие экономические ограничения. Истинной причиной и подоплекой всех экономических ограничений является недоразвитость или деградация духовных и психофизических способностей человека. Действительно, в случае развитости этих способностей сырьевые и энергетические ограничения могут быть легко разрешены путём изменения производства и нахождения их новых источников, а проблемы их социального распределения решены посредством усовершенствования социальной организации и структуры потребностей самих людей. В современном же обществе только из-за его несовершенной организации не развиваются и уничтожаются передовые решения, идеи и технологии, только лишь потому, что они могут сократить прибыль или подорвать чью-либо власть. Например, любое усовершенствование автомобилей, ведущее к снижению расходов ими бензина, встречает сопротивление нефтяных монополий. О более серьезных инновациях в такой ситуации нет и речи.
У К. Маркса и Ф. Энгельса решение этих вопросов представлено в искажённой и мистифицированной форме, так как всестороннее развитие человека и его способностей предполагается там как следствие захвата пролетариатом политической власти и средств производства и последующего развития техники и технологии, которые якобы дадут всем массу свободного времени. При этом ускользает от внимания, что время в этом случае уже будет потрачено на развитие техники и технологии и отдых от этих усилий, а не на развитие способностей. На самом же деле, чтобы захватить власть, нужно сначала развить и использовать эти способности, а необходимое для этого время можно было найти в основном за счёт отказа от технико-производственной деятельности и аскетизма (т.е. освобождения от потребительской эксплуатации). Именно этот путь и предлагали религии, прежде всего восточные, и, в меньшей степени, более близкое К. Марксу иудохристианство. В отличие от К. Маркса, А. С. Пушкин в своей известной «Сказке о попе и о работнике его Балде» предлагает иной, отличный от марксова способ разрешения экономических и социальных противоречий. Аскетичный, но талантливый и трудолюбивый Балда не устраивает революций и не захватывает средств производства Попа, а переигрывает одержимого экономикой священнослужителя, по его правилам, не принимая, однако, ни идеологии Попа, ни оставшегося после него «наследства». Балда переигрывает Попа за счет нестандартной и неожиданной для Попа реакции на его указания и предложения; таким же способом он обыгрывает и бесов. Похоже, что серьезный герменевтический разбор смысла этой сказки ещё ждёт своих исследователей.
Военно-силовые социальные ограничения связаны с функциями защиты и принудительной реализации тех или иных социальных норм, установок и ценностей. Субъектом их выступают военно-силовые социальные структуры и ведомства, являющиеся, однако, как правило, инструментами реализации не только своих собственных ценностей и интересов, а интересов других, господствующих в обществе личностей и групп. Легальной монополией на применение силы обычно обладает государство, по мере ослабления которого эта монополия начинает делиться им с частными охранно-силовыми структурами88 и международными организациями. Появляются частные военные компании (ЧВК), различные незаконные и полузаконные вооруженные формирования (Донецкая и Луганская народные республики), «игилы»89 т. п. Спецслужбы начинают сотрудничать уже не только с государствами, но и транснациональными корпорациями, закрытыми надгосударственными организациями и кланами (масоны, Бильдербергский клуб и т.п.)90. Таким образом, грань между легальным и нелегальным (преступным) насилием и реализующими его структурами постепенно стирается.
Объектом этих социальных ограничений обычно оказываются индивиды и группы (вплоть до суверенных государств) не желающие выполнять или нарушающие нормы, установки (интересы), ценности и планы господствующих или претендующих на господство групп, инструментом которых обычно становится государство с его силовыми ведомствами и (или) негосударственные вооруженные формирования, которые часто бывают нелегальными. Возникает негласное сотрудничество государственных «силовиков» и спецслужб с «криминальными группировками», выходящее за пределы официальных правовых полей (пространств). Монополизация информационного пространства и правоохранительной деятельности позволяет скрывать это от общественности.
Наиболее заметной и острой формой реализации военно-силовых социальных ограничений является война, военный конфликт, вооруженное противоборство, особенностью которых является насилие, сопряжённое с ранениями и убийством людей и масштабными разрушениями материальных и духовных ценностей. Сегодня грань между войной и миром всё более стирается, в военных целях начинает использоваться буквально всё, что угодно: от пищевых добавок, до компьютерных вирусов и сообщений в СМИ.
Отношение к этому виду социальных ограничений у многих сегодня отрицательное. «Нет слов: мир, конечно, большая ценность. Но наивысшая ли? Если наивысшая, то почему люди, народы, государства всю свою долгую историю вели войны, странным образом пренебрегая этой ценностью? – Было бы наивно и глубоко ошибочно полагать, что велись они ради лишь корыстных интересов, ради захватов, аннексий, экономических выгод или иных материальных и низменных побуждений. Нельзя, разумеется, отрицать роль таких побуждений, но нельзя и сводить все к ним. В человеческом словаре есть ведь и такие понятия, как честь, достоинство, свобода… В их защиту люди выступали во все времена, жертвуя собственными жизнями…»91, – писал Э. А. Поздняков. По мнению К. фон Клаузевица «война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю»92. Это определение позволяет говорить не только о классических вооруженных войнах, но и войнах экономических, идеологических, информационно-психологических и прочих. Это показывает тесную взаимосвязь военно-силовых социальных ограничений с экономическими, политико-управленческими, технико-технологическими, структурно-демографическими и информационно-образовательными и правовыми социальными ограничениями.
«Как бы то ни было, но понятие jus ad bellum (право войны) пока еще существует, и никто от него добровольно не отказывался»93, – считает Э. А. Поздняков. Происходит это потому, что дать приемлемое для всех определение справедливой войны и агрессии, никому пока не удалось, ибо различие ценностно-целевых ориентаций разных культур делает это невозможным. Однако так как массовое сознание значительной части людей обоснованно не приемлет войну и негативно реагирует на военно-силовые (насильственные) ограничения, манипуляторы сознанием предпочитают избегать термина «война», называя её «контр террористической операцией», «операцией по разоружению Ирака» и т. п. С другой стороны, «оказывается, в 1990 г. только в СССР и только в автодорожных катастрофах погибли свыше 60 тыс. человек и более 400 тыс. человек получили ранения, то есть за один лишь год в четыре раза больше, чем за десять лет войны в Афганистане»94. А сколько людей гибнет в дополнение к этому в морских, авиационных, железнодорожных катастрофах, в драках, от рук преступников, от других причин, пропадает без вести по всему миру? Цифры шокирующие. Однако, отмечает Э. А. Поздняков, здесь мы почему-то не слышим гневных возгласов пацифистов. В этом проявляется противоречивость и расколотость массового сознания. На самом деле, если человек не имеет права убивать и калечить другого человека, то этого права не должно быть и у техносферы. Если же признавать допустимыми подобные издержки ради выгод от технократического пути развития, то, наверное, не стоит протестовать против войн и уголовного бандитизма, ведь у их субъектов тоже есть свои интересы, как и у технократов или производителей и торговцев, производящих и сбывающих опасные для здоровья и жизни товары. Получается, что последовательный пацифизм, гуманизм и экологизм должны начинаться с отрицания технократической модели развития и безудержной погони за прибылью, а не с борьбы или войны за мир и защиты прав животных. В противном случае следует признать: то, что не позволено человеку – убивать других людей, позволено новым «богам» – технике и капиталу.
Важнейшей причиной разрастания воинственности и агрессивности является принятая сегодня большинством хищническо-техногенная модель питания, связанная с мясоедением, а также употреблением промышленно обработанной и вареной (жареной) пищи. Показательно, что ни одно живое существо кроме человека не употребляет термически обработанную еду. В промышленно обработанную еду добавляются ядовитые и неполезные ингредиенты. Мясоедение также противоречит особенностям физиологии человека, является экономически невыгодным и способствует росту агрессивности. Миллионы животных содержатся в отвратительных, по сути, концлагерных условиях, а затем массово убиваются на бойнях. Естественно, что подобные нравы проникают и в общество. В то же время у Индии, где большая часть населения придерживается вегетарианской диеты, не наблюдается людоедских планов по завоеванию всего мира и истреблению низших рас. Поэтому без изменения режима питания человечеству трудно будет избавиться от бесконечных конфликтов и войн. Сегодня имеется масса литературы, интернет ресурсов по этой теме, многие переходят на вегетарианство, веганство, сыроедение и прочие прогрессивные модели питания и поведения. По данным газеты Vegetarian, сегодня в России вегетарианского типа питания придерживается 3—4% населения, в то время как в Индии – 31—42%, Мексике – 19%, Бразилии, Швейцарии, Тайване— 14%, Израиле – 13%, Австралии – 11%, Германии, Бельгии, Швеции, Италии – 10%, Польше – 8%, США – 5—8%, Китае – 4—5%95. Не здесь ли лежит одна из причин повышенной конфликтности России с другими странами?
Путь снятия военно-силовых социальных ограничений, лежит через духовно-нравственное, интеллектуальное и психофизическое совершенствование человека, в результате которого они могут стать ненужными, подобно государству в коммунистических утопиях. Однако современное общество движется в основном лишь в направлении технико-технологического усовершенствования военно-силовых социальных ограничений вместо их ослабления и снятия. Что свидетельствует о том, что в будущем их значение будет лишь возрастать.
Каждый отдельный блок социальных ограничений выявляет одну из граней социальных ограничений как системы. Военно-силовые социальные ограничения наиболее ярко демонстрируют нам насильственный, принудительный аспект всех социальных ограничений, проявляющийся с той или иной интенсивностью во всех их формах. Всякое социальное ограничение есть насилие, как форма проявления необходимости сохранения некого социального порядка, «как подавление или принудительное ограничение свободы выбора субъекта факторами социальной среды»96, но военно-силовые социальные ограничения есть квинтэссенция этого насилия.
Последней группой социальных ограничений выступают структурно-демографические ограничения, которые связаны с объективно существующей в обществе поселенческой, классово-стратовой, сословной, профессиональной, демографической и половозрастной структурой населения. Этнические и этноконфессиональные социальные ограничения легко разлагаются на расово-биологические ограничения, не являющиеся социальными, которые рассматриваются в работах В. Б. Авдеева, Л. Вольтмана, В. А. Мошкова и других авторов97 и культурные ограничения, систему которых мы и рассматриваем.
Субъектом воздействия на эти структуры могут выступать различные властные организации, способствующие их изменению, объектом ограничений выступают здесь отдельные личности и группы, скованные теми или иными структурно-групповыми рамками. Показательно, что все тоталитарные режимы ХХ века проповедовали и принудительно внедряли «коллективизм», принцип «общественное выше личного». При этом вопрос об уровнях развития отдельного человека и коллектива не ставился. Исходя из этой логики, человек попавший, к примеру, в стаю обезьян или волков должен подчиняться вожакам этой стаи и действовать исходя из её, а не своих интересов. Либеральный принцип юридически равноправных личностей был безосновательно распространен тоталитаристами на человека в целом, хотя человек это не личность, а, напротив, личность лишь инструмент его самореализации в обществе. Тоталитаристы игнорировали, что «испокон веков на Земле живет не один, а несколько классов людей, а именно: люди обычные, обыкновенные, разумные (хомо сапиенс); люди Пути, садху (те, кто идет по пути духовного развития, хомо спиритуалис); джняни (Знающие, достигшие мудрости, святые); сиддхи (Совершенные). Национальные, культурные, религиозные, социальные различия не так сильны, как различия между этими классами существ. Это действительно существа совершенно разные по мировоззрению, ценностям, способам выполнения когнитивных операций, методологии познания мира, энергетике, скорости мышления и образу жизни. Это словно разные расы, сосуществующие друг с другом на планете Земля. Облик, конечно, одинаковый, но сходства на этом заканчиваются. У каждой расы своя особенная психология, этика, картина мира, система ценностей, цель жизни, а иногда – даже физиология!»98, – отмечает современный духовный учитель Вишнудевананда Гири. Однако все эти различия игнорируются господствующей современной культурой, в том числе и на правовом уровне, что является грубым нарушением законов природы и космоса. Более того, возникают попытки принудительно загнать людей разных антропологических типов (а не только разных наций, культур или религиозных взглядов) в принудительно сформированные социальные структуры или даже «дисциплинарные общества» (М. Фуко) и «законсервировать» в оных, где они должны выполнять функции полицейских надсмотрщиков по отношению друг к другу. Подобный авторитарный и тоталитарный «социальный конструктивизм» является ярко выраженным проявлением негативных, регрессообразующих социальных ограничений. Для общества в целом подобная «консервация» является деструктивной, потому что она приводит к подавлению более развитых типов людей, которые в этом случае лишаются возможности полноценной трансляции своих достижений во вне (то есть обучения менее развитых), что приводит к общему регрессу социальной системы, а часто – и к её гибели, причем вместе с организаторами таких экспериментов. Яркий пример подобной политики имел место в Камбодже при Пол Поте, который решил уничтожить интеллигенцию, принудительно превратив всё население страны в сельскохозяйственных рабочих. А потом взбесившиеся полпотовцы были разгромлены Вьетнамом, на который они по собственной дури напали.
Преодоление структурно-демографических социальных ограничений достигается личностями и группами с помощью горизонтальной и вертикальной социальной мобильности99. Однако, при переходе из одной группы в другую социальные ограничения для личности или группы не исчезают, а только видоизменяются. «…Мобильность – то есть движение между позициями, обеспечивающими неодинаковый доступ к ограниченным материальным и социальным благам, оказывается основным способом удовлетворения витальных потребностей. Резко суженой становится сфера, в которой индивидуумы исключительно себе могли быть обязанными в достижении жизненных успехов»100, – писал С. А. Макеев. При этом главным мотором социальной мобильности выступает «отделение индивида от ресурсов жизнеобеспечения», которое «ставит его в позицию просителя, заставляет перемещаться к более обильным источникам благ»101, то есть это движение является вынужденным. Свобода же обнаруживает себя в независимости от разного рода структур, учреждений, условий существования, замечает С. А. Макеев. Государство, социальные институты и хозяйственный механизм, по мнению С. А. Макеева, являются главными источниками побуждения и принуждения человека к определённому типу социального поведения и конкретным направлениям мобильности. Таким образом, мы видим, что структурно-демографические социальные ограничения тесно связаны с экономическими, правовыми, политико-управленческими, технико-технологическими и информационно-образовательными социальными ограничениями. Чем больше ограничений в этих сферах, тем более затруднена мобильность. Ограниченность личности проявляется здесь, прежде всего, в её социально-групповой зависимости, а ограниченность группы – зависимости от определённых идеологических, ценностно-целевых и поведенческих клише. Ценностно-целевые установки личности, так же, безусловно, определяют тип её социального поведения, являясь для неё субъективным фактором, в отличие от объективного фактора групповых ограничений.
Усиление в современном обществе структурно-демографических ограничений нашло своё отражение в структурализме, считающем, что поведение человека определяют безличные и бессознательные структуры, в которые он включен, что, к сожалению, как правило, верно.
Заметный вклад в изучение структурно-демографических социальных ограничений внёс марксизм, показавший классово-групповую детерминированность индивидуального сознания и исследовавший феномен общественного сознания. По мнению К. Маркса «отчуждение человека нарастает по мере усиления могущества общества»102.
Гендерные исследования также внесли заметный, хотя и неоднозначный, вклад в познание структурно-демографических ограничений. Как отмечала О. А. Воронина, «гендер… оказывается одним из базовых принципов социальной стратификации. Другими такими принципами выступают этничность (национальность), возраст, социальная принадлежность. Сочетание этих стратификационных принципов усиливает действие каждого из них»103. Гендерные различия, как социально сформированные половые идентификации и модели поведения есть проявление структурно-демографических ограничений, исходящих из демографической и стратификационной структуры общества. Поэтому вполне правомерно вести речь о гендерных социальных ограничениях, описанию и критике которых в значительной мере и посвящены гендерные исследования104.
В отличие от военно-силовых, структурно-демографические социальные ограничения не являются негативным явлением сами по себе, так как они, создавая дифференциацию, создают и социальную свободу в обществе, которая стала бы невозможной в условиях социального хаоса. Специализация снижает и конкуренцию за рабочие места и ряд благ. Ликвидация этого вида социальных ограничений означала бы ликвидацию социальной структуры и иерархии вообще, путём достижения полной социальной однородности. Подобную однородность можно рассматривать как проявление социальной деградации «вторичного упрощения» по К. Леонтьеву. Поэтому решение проблемы снятия этих ограничений достижимо именно через создание многообразных каналов горизонтальной и вертикальной социальной мобильности, но не любой, а такой, которая бы позволяла всякому человеку занять именно то социальное место, которое наиболее соответствовало бы уровню развития его способностей, его образовательной и профессиональной подготовке и ценностно-целевым ориентациям. К сожалению, в современном обществе человек лишен такой возможности. Социальное положение человека сегодня в значительной степени обусловлено различными коррупционными технологиями и механизмами и часто не имеет вообще никакой связи с его истинными способностями и желаниями.
Субъективно этот вид социальных ограничений наиболее остро начинает ощущаться, когда человек находится не на своём месте, то есть его способности и желания не соответствуют его социальному статусу. Подобные люди становятся источником социальных конфликтов и разнообразного деятельностного брака. Для решения этой проблемы необходим отказ от ориентации на приспособление к безличным и социально-производственным потребностям, которые на деле являются потребностями господствующих социальных групп и переход к творческо-самореализационнным установкам, способствующим личностному и профессиональному самораскрытию. В этом ракурсе справедливыми являются только те структурно-демографические ограничения, которые дают возможность человеку находиться на своём месте, а несправедливыми – те, которые этому мешают. Реализация идеала «человек на своём месте» и является, по сути, исполнением известного коммунистического принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям». К реализации этого идеала близко подошла кастовая система древней Индии, теоретически дававшая каждому типу людей с пользой для общества максимально реализовать свою природу105. Но пребывание в «касте» должно быть добровольным. Желающий попробовать свои силы в иной сфере, а тем более имеющий соответствующие способности и навыки должен иметь возможность для их реализации106. Однако в современном обществе преобладает противоположная установка на приспособление к существующим тенденциям и реалиям, порождающая массы людей, находящихся не на своём месте и ведущая к системной социальной деградации, посредством роста деятельностного брака, выражающегося, в частности, в преступности, коррупции, терроризме и т. п. По сути подражательно-приспособленческая установка как ложный стереотип социального поведения создаёт самовоспроизводящийся механизм поддержания и роста социальных ограничений. Принудительно загнанные в определенные касты люди превращаются в подобие узкоспециализированных насекомых и животных.
Рассмотрением структурно-демографических социальных ограничений мы завершаем описание статической модели социальных ограничений. Однако необходимо рассмотреть эту систему в динамике, чему будет посвящён следующий параграф107.
Подводя итоги, целесообразно будет кратко представить описанную выше системную модель социальных ограничений. Итак, системообразующим фактором социальных ограничений, как системы, является воля общества в его существующем виде к самосохранению и самоутверждению. На практике, однако, этой волей является воля к самосохранению и самоутверждению властной элиты данного общества. Воля общества к самоутверждению реализуется посредством деятельности по осуществлению концепции его социокультурного проекта, содержащей его основные ценностно-целевые установки. Этот концептуальный проект является высшим уровнем всей системы социальных ограничений, закладывающим её основные принципы.
Более низким уровнем системы социальных ограничений является идеология, задача которой заключается в приспособлении абстрактной концепции к условиям реальной жизни и психоментальным особенностям реализующего его народа. Идеология реализует себя в четырёх основных формах: 1) языка, 2) этики, 3) эстетики, 4) онтологическо-гносеологических представлений. Эти четыре формы идеологических ограничений, в свою очередь, находят свою конкретизацию и материализацию в следующих семи блоках вторичных социальных ограничений: 1) политико-управленческих, 2) правовых, 3) информационно-образовательных, 4) экономических, 5) военно-силовых, 6) технико-технологических и 7) структурно-демографических.



