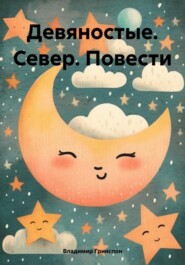скачать книгу бесплатно
Через неделю Тарас забрал жену, уволился и отбыл в своё Закарпатье.
Трест. Главк. Министерство
Наше управление входило в состав треста «Сибмонтажавтоматика». Он охватывал территорию от Новокузнецка на западе до Сахалина на востоке. Всего в нем было 12 управлений, завод средств автоматики и проектный институт. В свою очередь наш трест входил в состав «Главмонтажавтоматики» – подразделения «Министерства монтажных и специальных строительных работ» – огромной организации с числом работников переваливших в 1980 году за миллион, производившей начинку производственных цехов вновь строящихся фабрик и заводов различным технологическим оборудованием от линий по розливу молока до доменных печей. Специализированных главков в министерстве было больше двух десятков. Это были предприятия, к примеру, по проходке вертикальных стволов на шахтах и рудниках, по бурению скважин с целью осушения водоносных пластов, по возведению заводских труб, футеровке огнеупорными материалами внутри металлургических печей, химической защите ванн электролиза и т. д. Основными по объёму работ, конечно, были Главтехмонтаж – установка основного технологического оборудования – и Главэлектромонтаж. Разделение предприятий по видам работ без сомнения приносило огромную пользу. Коллективы были насыщены квалифицированными кадрами по данному профилю работ, которые готовились в Институтах (инженеры), техникумах (руководители среднего звена), производственно – технических училищах (рабочие).
В нашем Главке было 8 трестов, в них 97 управлений по всей территории СССР. Так что, оказавшись в любом более – менее крупном городе страны всегда можно было обратиться за помощью, если надо, в родственное предприятие. Вертикаль власти была выстроена четко. Так назначение на должности строго регламентировалось. Начальником управления или главным инженером – так тогда называли технического директора – можно было стать только по приказу Главка, Трест только представлял кандидатуры. Руководство же Треста назначалось только самим министром!
Из подразделений министерства начавших работать на Норильский комбинат Сибмонтажавтоматика была первой. С 1959 года в виде участка, а с 1962 – управления. К середине 70-х таких управлений разного профиля в Норильске было уже 17.
Командировки
Норильск не был связан с «материком», как мы называли остальную страну, ни авто, ни железными дорогами. Грузы доставлялись по морю и реке Енисей в порт Дудинка в 100 км от Норильска. Людям же оставался воздушный транспорт. На местных линиях, в пределах 300 км, летали трудяги АН-2. Летом на колесах или поплавках (при посадках на воду). Зимой на лыжах. Для них был построен маленький аэропорт «Валек». Там же базировались и вертолеты местного авиаотряда. Большие магистральные лайнеры садились на современном аэродроме «Алыкель» в 50 км. От Норильска. Он имел посадочную полосу для всех видов самолетов. Здесь же базировался и полк ПВО.
Командировок было много, и летали мы и с маленького и с большого аэропорта по несколько раз в год. Да еще полеты в отпуска… Я как – то попробовал сосчитать, сколько же я за время работы в Норильске налетал километров? Получилось, что я облетел Землю по экватору не менее 10 раз.
Первая командировка у меня случилась на втором году работы и сразу на 2 месяца. Нашему управлению поручили смонтировать автоматику в самом большом цеху Ачинского глиноземного комбината. Цех гидрохимии был размером с 3 футбольных поля, 50 метров высотой, и начинен по самую крышу массой химических агрегатов и трубопроводов. Проект автоматики был очень большим по объему и сложным, так как вся система была на пневматике. Мы в Норильске, на объектах цветной металлургии привыкли к системам автоматики на электрических цепях, а в Ачинске все сигналы представляли воздушный поток, и регулирование шло при помощи пневмоустройств. Меня отправили как инженера по связи с проектировщиками и облегчения работы нашим монтажникам. С проектантами – молодыми ребятами из Питерского института «Проектавтоматика» я быстро нашел общий язык и вник в особенности проекта. Командировка запомнилась особенностями быта. Строили комбинат 60 000 так называемых «химиков». В те времена за не особо тяжкие преступления суд часто выносил приговоры с направлением осужденных не в колонию или тюрьму, а «на стройки народного хозяйства». В основном это были стройки новых химпроизводств. Отсюда и бытовое – «на химию».
Так вот в Ачинск собрали массу этих «химиков» обоего пола, заселили на время строительства в построенные для будущих работников новые дома по 3–5 человек в комнату. На первом этаже одного из таких общежитий была гостиница для таких как мы прикомандированных «не химиков». А над нами четыре этажа, а также во всех близлежащих пятиэтажках всё было занято приговоренными. Так что после работы мы сидели дома, готовили ужин, гоняли чаи с медом, читали, болтали. Но на улицу, ни-ни.
Комбинат, что мы строили, был огромным. Трамвай, который ходил из города и вдоль всего комбината кроме центральной проходной делал еще десяток остановок и назывались они по названию цехов и заводов входящих в комплекс. Последняя была Цементный завод.
По пути в Ачинск я побывал и на другом грандиозном сооружении – Красноярской ГЭС. Тогда она была еще в стадии строительства, и мне удалось взобраться по внутренней лестнице с более чем 1000 ступеней на стометровую плотину, заглянуть в турбинный зал, где уже работали два агрегата. Самоё большое впечатление произвел вид с правого берега, на котором уступами разросся поселок Дивногорск, на отвесную скалу левого берега. Слева полукружье плотины с огромным буруном водосброса, напротив огромная стопятидесятиметровая темная скала и внизу бурлящий Енисей. Много раз бывал я в Дивногорске, но первое знакомство с этой, захватывающей дух картиной, и сейчас стоит перед глазами. Бывал я позже на других ГЭС и Сибири и Волги – Иркутской, Братской, даже на самой большой Саяно-Шушенской, но Дивногорск по красоте и величию – первый!
Одной из самых длительных командировок была поездка в Находку, на Дальний Восток. Там открывалось новое управление Треста и меня приглашали на должность главного инженера. Был август 1972 года. Мне удалось побывать во всех значимых местах – Владивостоке, Артеме, Находке. Искупаться в Тихом океане. Месяц я знакомился с условиями работы. Понимал, что по сравнению с Норильском здесь масштабы мизерные, работа не интересная – в основном на ремонте судов. Поэтому, когда на должность решили взять местного, я даже обрадовался. Подписал отпуск (моя Таня с сынишкой уже были у мамы с папой в Измаиле) и вылетел самым далеким рейсом Аэрофлота Владивосток – Одесса. Летел на ТУ-104 с шестью промежуточными посадками 18 часов. Вот когда понимаешь строки песни «Широка страна моя родная…».
Чаще всего приходилось бывать в родном Тресте. То на технических совещаниях, то на сдаче серьезных экзаменов на различные допуска, то на подведении итогов года или профессиональных конкурсов. Я постоянно отличался как рационализатор и несколько лет носил звание «Лучший рационализатор Треста». Кстати кроме почета и призов рационализация приносила и вполне ощутимый доход. Нам выплачивали до 4 процентов от экономии по рацпредложениям. Были вознаграждения сопоставимые с месячной зарплатой, а то и более.
Город Ангарск появился среди сибирских просторов после войны, в начале пятидесятых. В этом месте решено было построить секретный и очень важный завод для советского ядерного проекта. На огромном предприятии, под землей, обогащали уран и вырабатывали «тяжелую воду» для атомных и водородных бомб. Завод потреблял массу электроэнергии. Поэтому неподалеку построили еще несколько теплоэлектростанций. Потом рядом расположился Ангарский химкомбинат. Первые агрегаты на него поступили из завоёванной Германии в качестве репараций. Потом протянули трубу из Тюмени и построили Нефтеперегонный завод. Ангарск превратился в довольно мощный промышленный центр. Сам город строили молодые архитекторы и его отличительной чертой были максимально сохраненные деревья. Иногда сосна росла в полуметре от стены дома. Все дворы были как рощицы с вековыми соснами и березами.
Дальше просто перечислю, где еще пришлось побывать по делам за 30 лет работы в родной фирме. Вильнюс, Рига, Москва и Подмосковье, Свердловск (ныне Екатеринбург), Нижний Тагил, Невьянск, Верхняя Пышма на Урале. В Красноярском Крае – Игарка, Енисейск, Лесосибирск, Снежногорск… Далее – Кемерово, Новосибирск, Иркутск, Усолье – Сибирское…
Но от одной категории командировок я усиленно старался отказаться. И это удалось. Это работа на военных объектах. Дело в том, что наш трест выполнял работы на шахтных пусковых установках межконтинентальных ядерных ракет, на новейших комплексах радиолакации. Этих объектов в Сибири было очень много. Основной подрядчик на этих работах «Минсредмаш» не справлялся. Привлекали нас. Но я еще в начале работы в «СибМА» услыхал, что те, кто работает на оборонных объектах дают подписку о неразглашении секретных сведений в течении 15 лет. А это автоматически делает таких людей невыездными. Приходилось под разными предлогами отлынивать. В последствии я мог ездить в турпоездки за рубеж. Бывал в Индии, ГДР, Болгарии.
Хотя наши рабочие ездили на такие объекты с удовольствием. Тяжело и скучно было по три – четыре месяца, по 12 часов вдень, без выходных вкалывать в сибирской глуши. Зато заработки были очень приличными, а потом давали с месяц отгулов. Помню, как управляющий трестом на совещании выговаривал нашему руководству за поведение, вернувшихся в трест за расчетом после оборонного объекта, норильчан.
– Что удумали! – возмущался он, – Каждый с вокзала подъезжал на двух такси, в первом сам развалился, а за ним, в пустом! Его картуз едет. Безобразие!!! Примите меры! Скромнее надо быть!
Он вздохнул и закончил:
– Ну а поработали хорошо. Всем грамоты от министра и три оклада премии.
Во время полетов в командировки или отпуска по погодным условиям часто были задержки рейсов, иногда уже подлетая к Норильску, самолет вынужден был разворачиваться на запасной аэродром. Сколько суток пришлось провести в больших и крохотных аэропортах, ожидая погоды. Наш личный рекорд был шесть суток во Внуково (летели из отпуска в 1969-м). Чаще сидели в Амдырме, Хатанге, Новом Уренгое, Салехарде, Игарке, Подкаменной Тунгуске и т. д. Всех «точек» уже и не упомню.
Кроме командировок расширяли мы свою географию и в турпоездках. Наши профсоюзы устраивали для работников Норильска экскурсии выходного дня. Подгадывали праздничные дни на 7 ноября, 1 мая, арендовали самолет, обычно ТУ-154 на 150 пассажиров и на 3–4 дня отправлялись чартерным рейсом в интересные места. Таким образом, мы побывали на Сахалине, во Владивостоке и на Камчатке. Местные экскурсоводы возили нас на автобусах по интересным местам и по торговым точкам. С Дальневосточных маршрутов самолеты возвращались, оставляя в небе устойчивый и густой запах копченой рыбы. Путевки стоили немного, так как профсоюз брал на себя большую часть расходов.
Карьера
Когда я еще учился в школе, у нас с отцом зашел разговор о будущей моей жизни. Отец был чужд нравоучений и нотаций, считал нас с братом достаточно умными и самостоятельными, чтобы самим определиться в жизни. Он вполне спокойно отнесся к моему нежеланию продолжать его дело, идти в моряки. Единственным его советом было не идти в военное училище. Он в подробности не вдавался, но, видимо, полученный за более чем двадцатилетний срок службы опыт, позволял ему давать такой совет. Я впоследствии понял, что он имел в виду. Трудно в армии образованному, мыслящему и разностороннему человеку. Забивает всё серость и солдафонство.
Так вот говоря о разных аспектах моей будущей жизни, в том числе и карьеры, он подчеркнул, что большие города в европейской части СССР перенаселены и продвижение по службе часто зависит от ухода старших по должности на пенсию, а то и от «естественной убыли». Другое дело Сибирь или Крайний Север, где перемещение населения велико, стройки новых производств грандиозны, население моложе, а до пенсии работают далеко не все. Уезжают на родину. Это был даже не совет, а так, размышления вслух, но они мне запомнились на всю жизнь.
Как – то на третьем курсе один студент рассказывал о своем старшем родственнике. Он после института попал работать в Норильск. А через три года явился в отпуск и купил машину! По тем временам купить машину, если ты не космонавт или герой труда было нереально. А тут такие успехи. Мы с другом Валерой, недолго думая, написали на Норильский комбинат заявления. Мы, мол, студенты через два года окончим курс по такой – то специальности и желаем поработать на Вашем прославленном предприятии. Просим выслать на нас заявку через Министерство в установленном порядке. Через некоторое время каждый получил один и тот же ответ – «В настоящее время штат ИТР на комбинате полностью укомплектован и в приглашении специалистов необходимости нет». Судя по тому, что текст ответа был напечатан на стандартном бланке, куда только вписывалась фамилия адресата, а тираж бланков был 30 000 экземпляров, мы поняли, что таких как мы желающих по стране много, и нам «не светит».
И вдруг, перед распределением нам дают на две группы (50 человек) выпускников одно место в Норильск! Мы с Валерой вспомнили наше острое желание попасть на Север и спорили, кому ехать. Так как я шел на распределении раньше его, то и выбрал должность мастера в Норильском монтажном управлении треста «Сибмонтажавтоматика» и ни сколько об этом не жалею.
О своих первых шагах на службе я уже писал. Коротко перечислю последующие должности. В 1969 году я был назначен старшим инженером Участка подготовки производства. Мы занимались согласованиями нестыковок в чертежах с проектными организациями, выпускали проекты производства работ, общипывали сметы и выгоду от внедрения решений по индустриальным методам ведения работ на объектах. Целью было перенести как можно больше объемов работ в мастерские при управлении, чтобы на объекте в условиях вредных производств и сжатых сроков выполнить монтаж быстрее и качественнее. В мастерских собирались большие блоки приборов, релейных схем, трубопроводов, изготавливались пульты и щиты для операторных пунктов цехов и заводов.
Затем работы выпуск проектов производства работ централизовали в Ангарском институте «Проектмонтажавтоматика». При каждом управлении создали группу от института и меня перевели туда руководителем. Сидел я там же, делал то же, только зарплату присылали из Ангарска.
Через два года меня перевели назад в управление на освободившуюся должность начальника Производственно – технического отдела (ПТО). Отдел занимался техническим сопровождением работ участков. Разрабатывал графики работ, обеспечивал проектной документацией, сметами, обеспечивал связь с генеральными подрядчиками, смежными организациями. Генподрядчик вел общестроительные работы на объекте и передавал монтажникам (субподрядчикам) помещения и территории под монтаж технологического, электротехнического, сантехнического, вентиляционного и другого оборудования согласно графику строительства. Графики зачастую срывались, а срок ввода объекта никто не отменял, так что монтажникам приходилось работать в более короткие сроки.
Условиями начала работ нашей организации были полная готовность помещений операторских пунктов, иногда в этих помещениях требовалось создать и особые климатические условия, включить системы кондиционирования. Иначе не разрешалось устанавливать особо чувствительные приборы измерения и контроля. Должно было смонтировано технологическое и другое оборудование, что подлежало автоматизации. Проложены трубопроводы с установленными на них устройствами для присоединения приборов контроля параметров и т. п. Все сроки, сорванные смежниками, отодвигали начало наших работ. Битва за соблюдение графиков и сроков была одной из главных проблем нашего руководства, а мы должны были быть в курсе событий на всех! Многочисленных объектах монтажа. А таких бывало в производстве больше сотни одновременно.
Работа хоть и считалась канцелярской, но требовала постоянного выезда на штабы строек, к заказчикам, проектантам. Некоторые важные для страны объекты контролировались на самом высшем уровне. Нередко совещания проводил Председатель Совета Министров, или его заместитель в присутствии трех – пяти министров и нескольких десятков руководителей помельче. На таких собраниях проявить некомпетентность или непонимание момента любым руководителем могло повлечь мгновенное снятие с работы.
В 1978 году умер наш начальник Анатолий Анатольевич Евграфов, не дожив и до 50 лет. Сказалось давнее облучение радиацией на подводной лодке. Он работал на ремонте подлодок в Комсомольске – на – Амуре. Главный инженер Павлов стал начальником, а я в свои 33 года сал главным инженером или как сейчас называют техническим директором управления. Начальник и главный инженер в то время получали равную зарплату, но ответственность главного была на порядок выше.
Я отвечал за такие, «пахнущие» уголовным наказанием направления, как техника безопасности (то есть жизнь и здоровье работников), брак в работе и его последствия, правильность оформления выполненных работ и оплаты за них, соблюдение норм и правил при работе на механизмах, в условиях повышенной опасности, с пиротехническим инструментом и т. д. и т. п. По всем направлениям была масса инструкций, строительных норм и правил, постановлений, разъяснений и рекомендаций. По основным необходимо было сдать экзамены в контролирующих органах и раз в год подтверждать квалификацию. В свою очередь на своём предприятии я возглавлял комиссию по приему аналогичных экзаменов у подчиненных.
Работы было много, но работать было интересно! Я не любил следовать давно установившимся порядкам и правилам. Старался побороть хоть явно одиозные. Иногда это удавалось, иногда получал нагоняй от вышестоящего начальства. Постепенно я начал выстраивать систему вертикали власти в управлении. Раньше ответственность за успешное ведение дел на объектах была размыта среди исполнителей, при неудачах не всегда можно было найти виновных, при поощрениях главенствовала уравниловка. Взять хотя бы так называемые планерки – совещания по состоянию дел на каждом объекте, по какому – ни будь кусту объектов, например горной базе, или обогащению… Уровень этих совещаний и их важность была очень разной. Пришлось много сил потратить, чтобы упорядочить представительство на них наших работников. Составить график посещения. На некоторых достаточно было присутствия мастера с участка, на других должен быть начальник участка, на крупных и ответственных – главный инженер. И уж на совещаниях с приездом замминистра или выше ходил начальник управления.
Разработал я и систему кратких информационных справок для каждого объекта, вроде паспорта, где указывался объем и сроки работ, состояние дел на текущий момент, вопросы к снабжению, к предоставлению фронта работ и т. д. Это была обязанность ПТО. Так что выезжающий на планерку по любому объекту, имел достоверную и краткую информацию.
В 1982 году начальник управления Павлов Александр Николаевич перешел на работу заместителем управляющего Треста. Меня назначили начальником. На этой должности прибавилось ответственности, но и возможностей дальше совершенствовать производственный процесс. Выстраивать взаимоотношения внутри коллектива, с вышестоящими организациями и смежниками по стройке Большого Норильска. Как начальник управления я оставил в своём ведении кадры (прием, увольнение, расстановку), финансы (плановый отдел, бухгалтерию) и снабжение. Производством, как и положено полностью занимался главный инженер, у которого в подчинении находились технические службы и отделы, транспортный цех и Монтажно – заготовительные мастерские.
На совещания я лично ходил только на уровень директора комбината и выше, сосредоточившись на внутри управленческих делах. Для того чтобы максимально заинтересовать работников в результатах труда пришлось специально разработать и ввести в действие на общем собрании коллектива «Положение по оплате труда в коллективе НМУ треста «Сибмонтажавтоматика». Пришлось действовать в условиях очень жесткой тарифной системы принятой в СССР. Но и внедрять некоторые разрешенные в виде экспериментов новшества. Одно только то, что в нашем «Положении» отменялись наряды на работы, вызвало шквал негодования и со стороны Треста и Главка, да еще местных профсоюзов. Буквально с кровью удалось получить временное согласие на работу без ежемесячного составления нескольких килограммов этих никчемных бумаг.
Положение сохраняло право работников на получение 75 % тарифной части заработка в зависимости от квалификации. Заработки в то время могли в 2–3 раза превышать тариф. Так вот, часть заработка, превышающая 75 % тарифа, распределялась между работниками советами бригад в соответствии с "коэффициентом трудового участия" каждого работника. В советы бригад входили только рабочие и никто из «начальства» не имел права вмешиваться. Зарплаты рабочих с тех пор даже одного разряда стали отличаться, иногда и вдвое. Сами рабочие видели, кто в бригаде «тянет лямку», а кто сачкует. Были выделены и деньги в фонды мастеров, начальников участков, чтобы в критические моменты на местах можно было задействовать стимулирующие рычаги, не теряя времени на просьбы в управлении. Оставались суммы и в распоряжении начальника и главного инженера для особых поощрений.
Первые же месяцы работы по новому «Положению» принесли резкие изменения в поведении и мотивации всех работников. Уволились откровенные лодыри, и даже сами рабочие приходили с предложениями убрать у них из бригад пьяниц и «сачков». Резко повысилась дисциплина. Теперь рабочие и не думали прикрывать опаздывающих, приходящих с похмелья.… Подскочила производительность труда. Участки стали перевыполнять план на 15–20 %, так что приходилось даже сдерживать «порывы».
Планирование при социализме не отличалось гибкостью. Брали выполнение за год и прибавляли 3–5 %. Это называлось – планировать «от достигнутого». Так что достигать многого и сразу было неразумным, кто знал, какие объемы строительства будут в последующие годы? А главное, в разы сократились вопросы и претензии между службами и подразделениями. Старались ошибки и недочеты исправлять оперативно, не вынося на совещания у начальства.
Постепенно коллектив настраивался на работу в «автономном», саморегулирующемся режиме. Я и добивался положения, когда на фирме работа идет одинаково как под руководством начальника, так и в его отсутствие. Эту мудрость я вычитал у какого – то видного японского руководителя, то – ли «SONY» то – ли «TOYOTA». И добился. Оставалось только подбирать на каждую должность кадры самостоятельных, энергичных людей. Да еще «выбивать» в верхах побольше материалов, инструмента, машин и механизмов.
Когда я пришел на работу в «Сибмонтажавтоматику», в управлении было всего 2 автомобиля – грузовой ГАЗ-53 на 2,5 тонны и легковушка ГАЗ-69 с крышей – тентом, возила начальника. При мне на фирме уже было отдельное подразделение Гараж с тремя десятками единиц техники. За каждым участком был закреплен ГАЗ-66 с утепленной будкой – кузовом с местом для груза и автобусными сидениями для рабочих. Несколько большегрузных автомобилей, два автокрана, автопогрузчики, автобус ПАЗ и даже вездеход. Легковой парк – «Волга» начальника и несколько УАЗов для замов и главного инженера.
Материалов для производства монтажных работ у меня было с годовым, а то и с двухгодовым запасом, что было важно в условиях ограниченного срока навигации на реке Енисей, когда за три летних месяца поступало 99 % грузов.
Так что основным своим достижением в работе на монтаже я считаю организацию работы в управлении. Периодически мне поступали предложения перейти на работу в Трест, Главк и другие тресты нашего профиля. Но мне нравилось работать в Норильске, быть самостоятельным руководителем, у которого ближайшее начальство за полторы тысячи километров. С городскими и комбинатовскими властями у меня сложились отличные отношения. Об их развитии и успехах на этом поприще расскажу в отдельной главе. Управление постоянно занимала первые места по всем показателям в Тресте, отмечалось и министерскими структурами. Да и менять устоявшийся быт и идти на заведомо меньшую зарплату не хотелось.
Общественная работа
С первых лет работы у меня помимо основных обязанностей были и выборные должности. Через пару месяцев после приезда в Норильск, на очередном собрании меня выбрали секретарем комсомольской организации нашего управления. Комсомольцев в коллективе было много, ведь возраст комсомольский был до 27 лет, а у нас работала, в основном, молодежь. При управлении строительства комбината был райком комсомола во главе с освобожденным секретарем райкома. Я довольно хорошо влился в комсомольскую работу. Понимал, что в ней много формализма, но и какие – то комсомольские инициативы часто были к месту. Помогали вытягивать некоторые «тяжелые» объекты строительства. Много внимания уделялось спорту. У нас была хорошая лыжная команда, неплохая по стрельбе и самая успешная по плаванию. Я сам был перворазрядником по плаванию и водному поло и занимал призовые места на спартакиадах производственных коллективов. Уловил я и главные критерии, по которым судили о качестве комсомольской организации. Во время уплаченные взносы, проведение собраний по графику и своевременно сданные протоколы в райком. Посещение мероприятий, совещаний, слетов. В общем, формализм, но это позволяло числиться в передовиках, и руководство управления было спокойно за этот участок работы.
Лет в 25 я вступил кандидатом в члены КПСС. Решение было принято без всякой идеологии. Просто продвинуться на руководящие должности без партбилета в те времена было нереально. Меня приняли в партию. Я оставил комсомол и был избран уже на собрании парторганизации заместителем секретаря. Секретарем был начальник отдела снабжения прекрасный человек и душа коллектива Юрий Павлович Вольский. Он с удовольствием поручил мне всю бумажную партийную работу. Набив руку на комсомольской деятельности, я вполне успешно справлялся и с партийной. Через год меня выбрали уже секретарем парторганизации управления. По сути это была должность второго человека в любой организации. Без одобрения парткома руководством не принималось ни одного решения по кадровым вопросам, поощрениям, наказаниям и увольнениям.
Была у меня еще одна общественная нагрузка. Шесть лет я избирался народным заседателем в суд. Процедура была простой. От каждой организации, в зависимости от числа работающих, на собрании коллектива избирали народных заседателей в суд. Избранник согласно графику освобождался несколько раз в году от работы и присутствовал в суде, как равноправный член судебного процесса. Председательствовал профессиональный народный судья, а два заседателя слушали процесс, могли задавать любые вопросы и голосовать за вынесенный приговор. Могу с некоторой гордостью сказать, что в тех процессах, где я участвовал, несправедливых приговоров не было. Были споры с судьями, но при сомнениях в недоказанности вины дело отправлялось на доследование. На протяжении своего представительства я довольно хорошо познакомился с законодательством, с порядком нашего судопроизводства, особенностями взаимоотношений между правоохранительными органами.
Судья, Александр Иванович Дмитриев, за которым я был закреплен, был человеком уже в годах, с большим опытом. Постепенно он стал ценить меня как специалиста разбирающегося в производственных коллизиях, и стал приглашать меня на рассмотрение дел, где я уже мог разъяснить ему кое-какие тонкости. Это были дела о нарушении техники безопасности, в результате которых, пострадали люди или случилась авария. Приглашал он меня и на дела с махинациями с оплатой выполненных работ, с нарядами, актами приемки и т. п. Всё это расширяло мои познания о жизни и ее разнообразии и несколько раз пригодилось на практике.
Заполярье
Дети наши, Алеша и Рита, родились и большую часть своей жизни провели в этом чудесном краю. Они знают все радости и тяготы жизни на 69 параллели. Поэтому эти заметки я хочу оставить внукам и их потомкам. Хотя почувствовать Арктику по воспоминаниям деда трудно. Тот, кто сам там не пожил, не может наверняка знать этот край.
Приехали мы на Север в апреле. Уже вовсю светило солнце. Ночь наступала после 11 вечера и светало в 4 утра. Разгорался полярный день. Легкий по тем местам морозец, – 20, 25 градусов с ветерком не давал расслабляться на улице. Передвигались мы, с непривычки, перебежками да в автобусе.
Но постепенно морозы спали, в конце мая, при уже круглосуточно не заходящем солнце, побежали ручьи и к середине июня в городе сошел снег. В окружающей тундре он еще лежал сплошным ковром с месяц, а в оврагах и ложбинах сохранялся и до новой зимы. Когда в конце июня прошел ледоход на реке Норилке, наступило лето. Бывали дни с температурой за 25, и тут же могло похолодать до 5-ти. Норильск располагается в долине шириной 30 километров, что тянется между двумя грядами гор вдоль реки. Это место немного защищено горами от северных ветров. Поэтому долина заросла пусть чахлыми и невысокими, но деревцами-березками, ольхой, лиственницей и елью. На открытых же местах, что к северу, что к югу, простирается голая тундра наполовину покрытая озерами и болотами, а на суше заросшая низким кустарником или ягелем.
Лето для тундры, эти короткие два месяца без снега и мороза, шанс на выживание. Все растения под незаходящем солнцем тянутся вверх. Трава растет до полутораметровой высоты, всё цветет и плодоносит в рекордные сроки. Надо успеть зацвести, завязать плод, дать потомство! Идешь по тундре покрытой цветами, а через каких-то две – три недели уже под ногами ягодный ковер. Грибы лезут из мхов наперегонки с брусникой. Успеть!!!… Иногда и не успевает природа. Грибы прихватит морозом, вот и стоят перемороженные, мертвые. Ягоды иногда не успевают покраснеть, так и умирают под рано выпавшим снегом. Но когда погода постоит хотя бы до середины сентября, без заморозков и снега, наступает самое лучшее время для вылазок на природу. Полно грибов и ягод. И нет комара и гнуса! Летом этой гадости тучи. Без обмазывания открытых частей тела диметилфталатом или рипудином из города не выйти. Съедят!
Помню, мы вышли поискать грибы с друзьями в первый раз. Пошли вдоль железной дороги. О комарах еще не слышали. В городе их было мало-дым и газ от металлургических печей прогонял. Но в тундре… С непривычки это был ужас. Над головой жужжащий столб. Жалят, лезут во все щели, за ворот, в глаза, в уши, в рот при вдохе. Почему-то меня они «полюбили» больше всех. Компания разбрелась по лесу искать грибы, а я выскочил на железнодорожное полотно и начал бегать, пытаясь оторваться от комариного роя. Но, куда там. Побегал без толку минут 20 и тут из – за поворота выехала электричка «Талнах-Норильск». Рельсы по тундре были уложены хоть и на гравийную подсыпку, но по вечной мерзлоте. Дорога шла буграми и провалами. Поезда ходили медленно. Я в отчаянии вскочил на подножку и уехал домой. Таня нашла меня уже дома, всего покусанного, с опухшей физиономией. Так что не сильно ругала за бегство с «поля боя» без предупреждения. Иногда на рыбалке, чтобы поесть ухи без залетевших в миску комаров и мошек, приходилось брать котелок и на лодке, на полной скорости, убегать от берега, чтобы спокойно поесть.
В эти прекрасные несколько дней половина жителей стремилась на природу по грибы, ягоды, на рыбалку. Некоторые заядлые рыбаки копили отгулы за переработку на службе и уезжали на озера на неделю. Отводили душу. Для рыбаков там было раздолье. Но надо было иметь лодку с мотором, место, где ее хранить на берегу, снасти и т. д. Напротив впадение в Норилку реки Валек был поселочек. Он так и назывался «Валек». Там стоял рыбзавод и рядом, вокруг небольшой бухты, весь берег был уставлен большими, величиной с контейнер, ящиками. Изготавливали их рыбаки для хранения снастей и лодочных принадлежностей кто как мог, на работе из подручных материалов. Лодки качались тут же у берега на воде, а на зиму их поднимали на эти ящики-сейфы. Лодочников было больше трех тысяч. На воде даже была инспекция по маломерному флоту. Лодки проходили регистрацию, рыбаки получали права. Всё серьезно. Рыбу ловили разными снастями, но в основном сетями. Допускались только сети определенной длины и размера ячейки, чтобы не ловить мелочь. За этим следил рыбнадзор. А рыбы в тех местах много. Хватало всем. Правда, чтобы улов был весомым, ехать надо было подальше, на рыбные места. Река Норилка вытекала из одного озера и впадала в другое. Но на рыбалку все стремились пойти против течения, в озера, что были выше. Внизу вода и рыба были сильно загажены ядовитыми отходами Норильского комбината, а вверху воду пили прямо из озер.
Куба
В конце 80-х годов мы с Таней стали задумываться о переезде в местности с нормальным климатом. В Норильске всё было хорошо налажено и с работой и с бытом. Дети оканчивали школу, сын Алеша успешно занимался спортом, дочь Рита получала музыкальное образование в Музыкальной школе. Они родились и выросли в Заполярье и не тяготились местными условиями, но мы, родители, не представляли себе жизнь на пенсии в Норильске.
Я уже много лет пытался как – то решить проблему жилья «на материке», но тщетно. Было две возможности: обмен квартиры или вступление в жилищный кооператив. На обмен желающих не находилось, а в кооперативы была очередь в каждом городе и приезжим никто такую возможность не предоставлял. Наконец, попался нам вариант обмена квартиры на Измаил, хоть и неравноценный (за нашу отличную трехкомнатную предлагалась двушка на первом этаже). Да еще сторговались на доплате от нас в три тысячи рублей, при том, что в Измаиле месячная зарплата в 100 рублей считалась приличной. Но таковы были негласные правила. Поменять квартиру с севера на юг было нереально.
Но всё же квартиру мы с большими трудностями, но поменяли. Но ехать в Измаил не спешили. Я выхлопотал в Главке командировку на Кубу советником на строительство Никелевого комбината. Условия работы на загранобъектах в ту пору были очень неплохими. По месту работы сохранялся стаж и 60 % заработка. На месте командировки платили 500 кубинских песо и 90 долларов в месяц. Песо в ту пору равнялся нашему рублю, и половина из 500 шла на счет во «Внешэкономбанке» и по прибытию превращалась в чеки магазина «Березка», торгующего дефицитом. Кто в те поры не мечтал купить что – ни будь в «Березке»!?
То, что продавали в доступной всем торговой сети сейчас и представить не возможно! Убого и топорно. Продукты в свободной продаже были только самые простые и необходимые. И то всё зависело от места проживания. Недаром в качестве анекдота ходила загадка: что это – длинное, зеленое и пахнет колбасой? Оказывается электричка. На ней ездили люди за колбасой в Москву. Хорошо было жить в Москве или рядом. В родном Норильске тоже было неплохое снабжение, правительство понимало сложность и нужность для страны нашей работы и жизни в сложных условиях Заполярья.
А я однажды, будучи в командировке в Красноярске зашел вечером, когда основная масса идущих с работы уже прошла, в гастроном взять чего – то перекусить. Тогда торговля шла через прилавок, платишь в кассу, получаешь чек на товар и идешь в отдел, в очередь к прилавку. Отдал чек, получил товар. Так вот в Красноярском огромном по тем временам гастрономе я не увидел покупателей! Пусто! За совершенно пустыми прилавками по двое – трое сплетничают продавщицы, а полки за ними уставлены трехлитровыми банками с березовым соком. Всё! Даже кусочка завалящего плавленого сырка и того нет! Вот что представляла в ту пору советская торговля. Конечно, процветал блат (услуги «нужным людям» за ответные), спекуляция, воровство, недовесы, пересортица… Уважаемыми людьми были работники торговли. Начальник станции автосервиса вообще считался небожителем. Аж тошно вспоминать! Конечно, у людей в холодильниках был запас, доставали и что – то помоднее поносить, но всё это очень усложняло жизнь, давило морально. Поэтому попасть в загранкомандировку было очень выгодно и престижно. Многие давали немалые взятки, чтобы год – другой провести на всем готовом за границей, да еще и получить доступ к дефициту. Мне эта поездка ничего не стоила. Мои заслуги перед министерством, главком, трестом позволили быстро оформить командировку.
Поехал я сначала один. Потом должны были вылететь и жена с дочкой (она должна была пойти в 8 класс). Сын Алеша в то время уже учился в Норильском институте и остался в отдельной комнате в общежитии.
Остров Свободы встретил страшной жарой помноженной на почти стопроцентную влажность. Никаких признаков кондиционеров в аэропорту не наблюдалось, а проходили мы процедуры с таможней, багажом и паспортным контролем часа два. После 20 лет проживания на крайнем севере впечатление было, что попал в русскую парную. Только без возможности выйти, или уменьшить «парок»…Хорошо, что встречали меня наши норильчане, которые раньше уехали на Кубу работать и уже освоились. Отвезли к себе на «фазенду», дали отойти в душе и накормили обедом, плавно переходящим в ужин, с местными вкусностями и напитками. Неделю я провел в Гаване, оформил документы, получил деньги и «тархеты» – талоны на продукты, без которых на Кубе ничего не купишь. Когда собралась партия специалистов на полный автобус, поехали к месту работы, городок Моа на другом конце острова за 1000 с лишним километров. Ехали сутки, останавливаясь только для коротких перекусов да захода в туалет.
Большая колония советских специалистов (с семьями набиралось полторы тысячи человек) располагалась в многоквартирных в основном четырехэтажных домах. Мне выделили четырехкомнатную квартиру на 4-м этаже. К приезду жены и дочки я произвел в ней косметический ремонт, а главное, установил в одном из окон огромный кондиционер БК2500, что привез с собой из Норильска. И хорошо сделал. Кого я не спрашивал из побывавших на Кубе ранее знакомых, все в один голос уверяли: если что и брать с собой, то кондиционер, там не найдешь ни за какие коврижки.
И действительно. Кондиционеры полагались только большому начальству. Рядовые же специалисты получали вентилятор. Так же в «джентльменский набор» выдаваемый по приезде входила мебель, постельное белье, миксер, посуда, бытовая химия, туалетная бумага, хозяйственное мыло и тряпки для мытья полов. Работающим давали каску, робу и ботинки. Два расположенных поблизости никелевых комбината нещадно пылили, и убирать в квартире надо было каждый день, ато и не один раз. Стекол в окнах по местному обычаю не было, только деревянные жалюзи. Через них производственная пыль беспрепятственно проникала в квартиру и оседала во всех углах. Вторым неприятным фактом было водоснабжение. Вода подавалась в дома по графику, через день на 2 часа. В каждой квартире была система запасных емкостей на крыше и балконе. В те 2 часа, что давали воду, семья успевала помыться и наполнить все запасные емкости. У нас это была бочка 200 литров на крыше и несколько труб большого диаметра под потолком технического балкона литров на 150. Вода в нашей местности была очень жесткой и перед употреблением ее надо было кипятить 40 минут, отстоять и слить, пропустив сквозь 8 слоев марли. После этого в ведре оставался белый как молоко осадок сантиметров в 15.
Но все эти «трудности» были мелочью по сравнению с удовольствием от местных условий. К жаре понемногу привыкли, тем более что наступила осень и зима с температурами 25–28 градусов, частыми освежающими дождями и прохладным морским бризом. Вода в океане летом была 29–30 градусов, а зимой не опускалась ниже 25.Нас, норильчан, помню, очень забавлял случай отмены занятий в школах из – за «критически низких температур и сырого ветра». Критическая температура была +22! В Норильске занятия отменяли для младших классов при -40, а для старших при -45.
Работа была необременительной. Консультант есть консультант. Сиди в конторе (хибарке с кондиционером) на территории комбината и периодически проверяй проделанную местными кадрами работу. Правда, каждая вылазка на объект, в жару, приводила к полностью промокшей от пота рубахе и к последующему отпаиванию организма чаем. Чай мы потребляли литрами. В конторке (по местному мы ее называли «офесина») был всегда дежурный по чаю. В большой – литра на три стеклянный плафон от цехового светильника, установленный на специальной треноге в центре стола, наливалась вода, кипятилась при помощи кипятильника. Это были параллельно расположенные две металлические пластины разделенные диэлектриком. На них подавался ток из розетки. Ток проходил по воде и нагревал ее, пока не закипит. Кстати, на таком же принципе работали самодельные устройства для нагрева воды в душевых наших квартир. Они назывались «календадорами». В закипевшую воду дежурный всыпал полпачки чая. Пили мы фасованный в Союзе первосортный индийский или цейлонский чай. Когда чаинки опускались на дно, кипяток окрашивался в темно – коричневый с янтарным оттенком цвет, каждый брал свой сосуд для чая (обычно это была литровая банка из-под консервированных огурцов) зачерпывал им из плафона, сколько считал нужным и с удовольствием пил под приятную беседу или просмотр газет. Эти чаепития в жару позволяли предохранить организм от обезвоживания, сохраняли тонус и здоровье.
Продукты каждая семья получала в расположенном рядом с нашим домом магазине для иностранных специалистов. За совсем умеренную плату мы покупали, опять же по «тархетам» положенные продукты. Отдельно во дворе стоял фруктово – овощной ларек. Там тархеты не требовалось. Самым дорогим продуктом была картошка, ито не всегда имевшаяся в продаже. Картофель был привозной, на Кубе не рос. Заменяли его сладковатые корнеплоды юкка и бониата. Но еще лучше на гарнир шел недозревший банан в жареном виде. Фрукты же были очень дешевыми и в изобилии. Апельсины, мандарины, ананасы, манго и ранее неведомые папайя, гуаява, гуанабана…Очень много было кокосов. Мы их разбивали, вычищали саму ореховую плоть, перекручивали с сахаром в мясорубке и начиняли этой прелестью сдобные булки.
Меня избрали секретарем парторганизации в нашей группе. Таню – членом женсовета. Так что по общественной линии работы хватало. Зато мне была положена персональная машина. В то время на Кубе с машинами дело обстояло тяжело. Еще ездили по дорогам «кадиллаки» и «доджи» пятидесятых годов. Из новой техники 90 % были советские автомобили, как легковые, так и грузовые. У меня сначала был старый УАЗ-469 носивший гордое имя «Шайтан – арба». Как мы шутили, тормозить на нем можно было ногой об асфальт, такие были дыры в полу. Зато на ходу машина хорошо проветривалась, а от дождя и жгучего солнца сверху предохранял еще не совсем сгнивший тент.
Потом ездил на «Волге» ГАЗ-24, которую у меня выменял знакомый по работе кубинец на «Ниву» тольятинского завода. Руководство нашей группы из специалистов, знакомых с автоделом, для поддержания автопарка в рабочем состоянии собрали мини бригаду. За группой был закреплен автобус ЛАЗ и пяток легковых машин для специалистов. Были кое-какие мастерские, станочки, инструмент. Каждая машина по графику местных властей проходила техосмотр. Проверялись основные узлы, особенно рулевой механизм, сигнальные фонари и тормоза. По результатам, если всё в порядке, в особую тетрадь, которая была при каждом автомобиле в стране, ставился штампик. Если срок техосмотра наступил, а штампика нет, то ни на одной заправке по всему острову, машину не заправят. Это очень дисциплинировало водителей. Такой порядок не допускал выезд с неисправностями. А выезжать было куда. Кроме работы, в выходные ездили на пляж, по другим городам и интересным местам. Особенно нам нравился отдых на горной реке, что текла километрах в 15-ти от нашего поселка в ущелье. Там было прохладней, вода пресная позволяла, и накупаться и постирать вещи, которые тут же быстро сохли на валунах. Река изобиловала быстрыми перекатами, тихими заводями и даже водопадами. Тут же на костре варили простенький обед, жарили шашлык или рыбу на углях. В заводях водилась форель, но на удочку не шла, видно мы были не грамотными рыбаками. Пару раз попались угри.
Зато на океане рыбалка приносила улов всегда. Метрах в трехстах от песчаных пляжей с пальмовыми рощами в море проходила гряда коралловых рифов. Она надежно отделяла прибрежные воды от океанских глубин. Акулы в эту зону заплыть не могли. Глубины не превышали 10–15 метров. Море кишело живностью, сотни видов рыб, осьминоги, лангусты, разных форм раковины. Охотился я с подводным ружьем, а у меня их было два: пневматическое и более надежное с резиновым спуском. В экипировку входили поплавок из пенопласта с приделанным к нему разъёмным проволочным кольцом – куканом для добытой рыбы, трал метров в 10 из капронового тросика внутри полой пластиковой трубки, чтобы не тонул. Он соединял охотника с поплавком и имел длину соответствующую глубине ныряния за добычей. Важно было закрыть всю поверхность тела от лучей солнца. На голове шапочка, спортивный легкий и тонкий костюм, носки, перчатки и даже платок на шее. Особенно важным предметом экипировки были перчатки. Вся морская живность имела свойство, если уколет, вызывать серьезные раны, опухоли или язвы. Экипированный таким образов отплываешь часа на три, а то и больше за добычей. Выследишь рыбеху покрупнее. Подкрадешься поближе, метра на 3–4 и пускаешь стрелу из ружья. Азарт, интерес, забава. Да еще разнообразие к столу. Снимаешь рыбку со стрелы и цепляешь к поплавку. Иногда чувствуешь – кто – то дергает поплавок, а это барракуда, океанская щука уже пристроилась к твоей добыче и отгрызает куски. Вообще противная тварь, с оловянным хищным глазом и торчащими зубами. Метра по полтора в длину. Плавает сзади, пока не покинешь ее, как она – хищница считает, участок. Противно. Мы их не стреляли, мясо жесткое и пресное. Иногда бросали в котел с ухой для навара. Один раз я довольно сильно испугался. Проплывая по лабиринтам рифов на границе безопасных вод, увидел под собой темную трехметровую тень, скользящую над самым дном на глубине метра четыре. Акула! Я в максимальном для перворазрядника по плаванию темпе преодолел расстояние до берега и рассказал друзьям об опасности. Более опытные ребята посмеялись над моими страхами:
– Так это Гата! По-русски кошка, рифовая акула. Она не опасна – у нее нет зубов, а только присоски и пластинки, которыми она объедает кораллы. Тем и живет.
Когда мы выезжали на океан группой на своём автобусе, обязательным ритуалом была коллективная уха. Автобус был оборудован 60-литровым котлом, в котором к моменту возвращения рыбаков уже кипела вода. Каждый выделял из улова пару рыбин, женщины быстро бросали в уху головы, плавники и мелочь для навара. Потом это всё вынималось, и в котел шли большие куски свежей рыбки. Уха кипела еще минут 5 и все собирались под раскидистым деревом вокруг котла. Запивали деликатес пивом, вином или местным ромом. Завязывались беседы, пели песни. На обратном пути народ, разморенный тропическим солнцем, засыпал, а кому не хватило сна в автобусе, продолжал дома.
На втором году пребывания я сменил профиль морской добычи. Занялся собиранием красивых раковин. Мы их обрабатывали и готовили к отправке домой в качестве сувениров. Еще делали чучела рыб. Особенно хороша была рыба – шар. Она имела свойство при опасности набирать воду и раздуваться в большой шар с острыми колючками наружу. И никто из ее врагов не мог ее проглотить. А мы осторожно снимали крепкую шкуру с иголками, просаливали, вставляли внутрь воздушный шарик. Надутая рыбья шкура сохла и сохраняла форму шара. Потом чучело сверху лакировалось в несколько слоёв, шарик вынимался. Готово!
Жизнь на острове в нерабочее время была насыщена. Проводились соревнования по волейболу, настольному теннису. Работала художественная самодеятельность. Я участвовал как певец, исполнял эстрадные шлягеры той поры и русские романсы. Подыгрывал себе на гитаре, или пел под аккомпанемент рояля или баяна. Специалистов-музыкантов было много. Был у нас и сводный хор и танцоры, и чтецы. Почти каждый вечер в нашем клубе шли советские фильмы. Мы смотрели даже довольно свежие картины, меняясь с командами стоявших в порту наших кораблей. Вообще встречи с моряками были частью нашей жизни. Они рассказывали о своих буднях, мы о своих. Угощали их фруктами, местной экзотикой. Они нас черным хлебом и селедкой.
По праздникам мы устраивали большой концерт самодеятельности, а потом накрывали общий стол. Во время банкета сыпались шутки, анекдоты. Пели песни. Особенно весело встречали Новый год. В нашем поселке были представители всех уголков Советского Союза. Разница во времени с Москвой была 8 часов. Первыми, в 8 утра свой новый год встречали жители камчатки. Раздавалось дружное УРА, хлопало шампанское. Напомню, что стекол в окнах не было, а через жалюзи все поздравления разносились на весь квартал. От соседей неслись поздравления, кто – то поддерживал тосты… Через час УРА кричали владивостокцы, потом якуты. Ровно в 12 дня в процесс подхватывала большая группа норильчан. У нас с Кубой была разница во времени ровно полсуток. А вечером уже за общим банкетом, куда сносили всё самое вкусное наши хозяйки, наступал Новый год по – Кубински, веселье продолжалось до утра.
Часто отмечали отъезд на родину специалистов, у которых заканчивался срок командировки. Собирали небольшое застолье, обменивались адресами, фотографиями. Собирались на дни рождения, другие события. Большие банкеты на 1 мая и 7 ноября устраивало наше Генконсульство СССР в Моа. Я как парт секретарь получал приглашение на фуршет с супругой. Столы ломились от советских и кубинских деликатесов и напитков. Одно было непривычно – угощались стоя, по дипломатическому этикету. Как сейчас помню крупных поросят, запеченных на костре целиком и больших – метровых – рыб.
Но больше всего нам нравились поездки в выходные дни. Наш восточный район Кубы был гористым. Часто дорога шла над пропастями с одной стороны и впритык к скалам – с другой. Были и большие пространства ровных как стол полей, засаженных сахарным тростником. Бывали мы во втором по величине и значению городе Сантьяго – де – Куба. Останавливались там в старинных особняках местной дореволюционной знати, приспособленные под мини гостиницы для командированных. Посещали знаменитое кубинское варьете с красавицами мулатками, осматривали крепость еще пиратских времен над входом в бухту, ходили по магазинам. По дороге объезжали запретную зону «Гуантанамо», где до сих пор военная база США со знаменитой тюрьмой.
На горах проезжали плантации кофе. Кусты его растут в лесах, в тени деревьев, иначе им не выжить под палящим солнцем. На ровных бетонированных площадках кофе сушат, периодически переворачивая вручную. Проезжали мы и маленькие заводики по переработке кокосов, где нам насыпали мешок плодов. Мы в благодарность отдаривались банкой тушенки или сгущённого молока. Вообще сигареты и консервы были лучше денег. В поселке на берегу океана за пару банок и пачку сигарет нам доставали с глубины живых пяти килограммовых рабин. Лучшими сортами считались розовая Парга, или темная Черна. Давали и огромных лангуст. Однажды варил их в ведре, так две сразу не помещались. Один хвост мы втроём не могли съесть за раз.
Кубинцы – очень дружелюбный и приветливый народ. Сколько раз мои старенькие машины или глохли или ломались. Тут же подбегали местные ребята и толкали машину, пока не заведется, или лезли в мотор и находили неисправность. Один раз у УАЗа чуть не отлетело колесо, уже раскорячилось под углом к земле. А было это в какой-то маленькой деревушке посреди тростниковых полей. Кто-то из местных сел на велосипед и попросил ехать за ним. Мы на малой скорости, чтобы совсем не потерять колесо, проехали 2–3 км. До полевой станции с тракторами и комбайнами. Там нам сняли колесо, что – то заварили, что-то завинтили и всё это уже после рабочего дня. Оставались сколько надо. И никто не просил оплаты. Мы, конечно, отдали сигареты, конфеты, тушенку, что было. Кубинцы улыбались и благодарили, как – будто не они нас, а мы их выручили.
Куба живет в условиях жесткой блокады со стороны Запада. Америка и ее сателлиты не могут простить ей свободы и независимости. Но в условиях страшного дефицита всего, распределительной системы, когда деньги почти теряют смысл, ведь без «тархеты» ничего не купишь, моральный дух населения необычайно высок. Не встретишь унылых или озлобленных лиц. Люди приветливы, открыты, веселы. В стране всеобщие, бесплатные образование и медицина. Причем уровень медицины очень высок. Два примера показывают это. Когда едешь по бескрайним полям сахарного тростника, через равные промежутки дистанции возле дороги встречаются одинаковые дома с неприхотливым садом вокруг. Это дома участковых врачей. Они покрывают сетью весь остров. На 10 000 человек один врач. На первом этаже дома клиника с осмотровым кабинетом и помещением оказания несложной первой помощи. Если больной нуждается в более квалифицированном лечении, его везут, или дают направление в ближайшую больницу или поликлинику. Второй этаж это жильё доктора с семьей.
Второй пример. Каждый месяц родители должны приводить ребенка на профилактический осмотр в детской поликлинике. Мать в этот день получает официальный выходной на работе за счет государства. Если мать не принесет справку, что ребенок прошел осмотр, ее не допустят к работе! Продолжительность жизни на «бедной» Кубе 80 лет!
Отношение к жизни у кубинцев своеобразное. На первом месте у них находится любовь, т. е. отношения между мужчиной и женщиной, причем это не относится к крепким семейным узам. Нередки разводы, супружеские измены. Но отношения к ним просты и не трагичны. Как объясняют они свои чувства при очередной смене партнера:
– Это же так не интересно жить, с одним и тем же мужем! А так у него будет новая, и я себе найду.
Отношения между полами начинаются очень рано, в школах с шестых-седьмых классов уже вовсю крутятся романы.
Второе по значению жизненное благо у кубинцев – танцы и праздники. Особенно во время многодневных карнавалов. Танцуют все великолепно чуть не с пеленок. Музыка латиноамериканская заводит с пол оборота! Во время карнавала, а длится он не менее четырех дней, по всему городу на перекрестках улиц работают эстрады с оркестрами и прямо на асфальте без устали и перерывов танцуют пары. Только под утро улицы пустеют. А с обеда гулянье вспыхивает с новой силой. Тут же продают любимое населением пиво и нехитрую снедь. Кстати, за два года на Кубе мы не увидели ни одного пьяного. Если компания выпивает, то это чаще всего пиво или бутылка рома. Ее передают друг другу по кругу, поочередно отхлебывая из горлышка. Процесс может длиться часами, бутылка так и не пустеет.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: