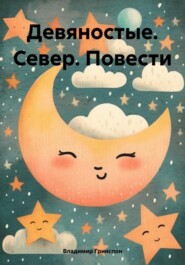скачать книгу бесплатно
– Мы всё равно сидим взаперти, впереди серьезные экзамены. Так давайте потратим это время с пользой и гарантированно, ВСЕ! сдадим экзамены.
Публика меня сначала не поддержала, но потом логика взяла верх. Я предложил каждый билет ответить по одному разу, по очереди, каждому из нас у доски. Нас было человек 35, и я здраво рассудил, что один раз ответив на билет и более 30-ти раз прослушав ответ на него, каждый просто не сможет на экзамене плохо отвечать.
Так оно и вышло. Ответы так крепко засели в головах, что приемная комиссия, ставя пятерку за пятеркой, просто диву давалась такой сверх подготовке. Обе наши группы сдали четыре экзамена всего с тремя четверками. Остальные сплошь «отлично»! Успех был невиданным за все годы работы военной кафедры. С тех пор я твердо знаю, что лучше всего запоминается материал, который ты сам выучишь и обязательно объяснишь другому. Ну и «повторение – мать учения» здесь подтвердилось в полном объёме.
Во время двухмесячных военных сборов твердо заученные знания помогли нашим группам отлично стрелять из пушек, водить танки и работать на локаторах и приборах управления огнем. Порядок действий на каждом номере боевого расчета был забит в мозг крепко и надолго.
Диплом
После военных сборов и преддипломной практики мы съехались в Одессу, чтобы дописать и дочертить в основном уже готовые дипломные проекты, получить заключения руководителей, отзывы оппонентов и подготовиться к защите. Вот тут-то и обнаружилось, что у нашего «комика из АССР» Витька Безгодова нет никаких материалов к диплому. Чем занимался во время практики, он рассказать нам вразумительно не мог. До защиты оставалось 10 дней! Пришлось помогать ему всей группой. Мужская часть разобрала по одному – два листа чертежей, а девушки писали пояснительную записку. Чертежей на полный лист ватмана надо было начертить минимум восемь, а пояснительная записка состояла из 100–120 рукописных листов формата А4. Успели благополучно, в срок.
И 24 февраля 1968 года вся группа, с первого захода, защитила дипломы. Так что потерь на всем пути в нашем дружном коллективе не было. На следующий день, 25 февраля мне исполнялось 23 года, а моему папе (у нас с ним Дни рождения в один день) исполнялось ровно 50. Я спешил попасть к нему на юбилей и уехал на поезде в Измаил, даже не дождавшись результата защиты. Договорились, что ребята сообщат мне оценку телеграммой. На следующий день в разгар юбилейного застолья почтальон принес телеграмму с одним словом – ОТЛИЧНО!
В Норильск
Остались в прошлом студенческие годы. Надо было отдавать Родине долги за обучение. Система бесплатного высшего и среднего-специального образования в СССР (платного тогда вообще не было) предполагала обязательную отработку после окончания ВУЗа по распределению, то есть там, где запланировало государство использовать обученного за его деньги специалиста. Правда, был некоторый выбор. На группу студентов приходила разнарядка на 3–4 десятка рабочих мест. Каждый студент выбирал из имеющегося списка, причем, первым выбирал тот, у кого лучший средний бал успеваемости за всё время учебы. Наш список предприятий был большим, география его была от Мончегорска и Норильска на Крайнем Севере до Душанбе на юге и от Минска на западе до восточного порта Находка. Я давно мечтал попасть в Норильск. И вот удача! Одно место в списке было. Я шел четвертым в группе по успеваемости. Передо мной желающих попасть за Полярный Круг не было. Так мы с Таней стали норильчанами. Ей, как замужней выпускнице, был предоставлен «свободный диплом» – право ехать с мужем и устраиваться на работу самостоятельно.
Пролетели счастливые дни отпуска после окончания института. Получили мы «подъёмные» – деньги на билеты и первые дни трудоустройства. Немного денег дали наши родители. Улетали мы из Измаила в День Дурака – первого апреля. Помню, что в эти дни вовсю цвели абрикосы и яблони. Было тепло – за 20 градусов. Перелет в Одессу на ЯК-40, 45 минут, в Москву на ТУ-104 около часа. Вечером погрузились в ИЛ-18 и через пять с половиной часов сели в аэропорту Алыкель – одинокий двухэтажный аэровокзал с башней диспетчера наверху, взлетная полоса со стоянкой для самолетов и вокруг бескрайняя белая тундра. Ни заборов, ни охраны… По земле метет поземка, мороз – 22. От самолета до аэровокзала пешком метров 400. Тут – то мы и почувствовали, что одеты не по северному. У Тани модные тогда ажурные синтетические колготки всем своим узором впились в кожу, а мохеровый шарфик на голове, поверх прически, не мог согреть горевшие уши. Отогревшись в аэровокзале, мы вместе с другими прилетевшими пробежались еще немного по морозцу до прибывшей электрички из пяти-семи вагонов. До города ехать было 50 километров и два часа. Ехали медленно, с частыми остановками. Автомобильной дороги до аэропорта тогда еще не было, а электричка ехала медленно потому, что, как я узнал впоследствии, путь, проложенный по вечной мерзлоте, был плохого качества. Прибыли мы на конечную станцию, практически, на центральную площадь, где не было ни перрона, ни вокзала. Просто рельсы заканчивались. В ста метрах от остановки располагалась шикарная гостиница, где нам объявили две новости, плохую и хорошую. Плохая, что нас здесь не ждали, если бы было командировочное удостоверение и бронь, тогда бы еще…Хорошая новость, что для таких как мы существует, и недалеко, транзитное общежитие для вновь прибывших. Там нас приняли, дали мне место в просторной мужской палате, коек на двенадцать. В такой же, но женской, поселили Таню. В этом старом двухэтажном доме собрались люди со всего Таймыра. Военные с семьями и без, добирающиеся до своих точек в тундре, геологи, строители… На общей кухне жены стряпали обеды, по широким коридорам носились дети, играли в войну и катались на велосипедах. В душевых стирали и купали младенцев.
Мы думали перекантоваться в этом «пересыльном лагере» денек – другой и потом поселиться в приличном общежитии. Нам уже рассказали попутчики, что в Норильске есть улучшенные общежития для ИТР (инженерно-технических работников), где в комнате живут семейные. Действительность оказалась не такой радужной.
Я созвонился с работой, куда имел направление, и на автобусе поехал в «старый город». Норильск 1968 года представлял собой старую часть, откуда он начал строиться еще с 20-х годов и новую часть, что строилась в период его бурного развития. Архитектуре нового города наглядно демонстрировала изменения советских градостроительных взглядов, начиная с 1950 года. Сначала шли помпезные дома в стиле старого Санкт-Петербурга с лепными карнизами в завитушках, колоннами и башенками, широкий проспект и две просторные площади. На круглую Гвардейскую площадь выходили овальные фасады трех шестиэтажек – гостиницы и двух жилых с магазинами на первых этажах. На двух домах, постройки до 1953 года все завитушки, лепные обрамления окон, гипсовые вазоны по краям крыши были на месте. А вот дом с гастрономом «Енисей» строили уже после смерти Вождя Народов. Он был лишен всех украшательств и излишеств. «Сталинский» стиль сохраняли еще 3–4 дома с каждой стороны проспекта, а дальше уже шли стандартные пятиэтажные «хрущевки». Проспект, конечно, носил имя Ленина и был длиной три километра. Собственно это и был весь город Норильск с четырьмя параллельными проспекту и десятком поперечных улиц.
Моя работа находилась в «старом городе» где было много заводов и промзон и совсем мало жилых домов, старых деревянных одноэтажных и каменных двухэтажных. Почти всех жителей переселили в «Новый город», что строился с начала шестидесятых.
Управление «Сибмонтажавтоматика», куда я был направлен, располагалось в старом здании, полузанесенном снегом, и состояло из двух этажей конторы с десятком кабинетов и примыкающим к ней цеху. Потом я узнал, что в здесь в тридцатых годах находился первый металлургический завод Норильска, где в небольших, экспериментальных печах получили первые партии меди и никеля.
Начальник управления Анатолий Анатольевич Евграфов показался мне довольно пожилым, хотя ему было лет 45. Он проверил мои документы и послал оформляться в отдел кадров. Там я узнал, что по правилам я могу быть принят на работу, только имея прописку. Надо было решать вопрос с жильём. В направлении на работу у меня была запись – «С предоставлением общежития». Мы с Таней и не рассчитывали ни на что другое. После полуподвала у Доры комната в общежитии грезилась райским уголком.
Вот тут и начались загвоздки. В Норильске почти всё принадлежало Норильскому горно-металлургическому Комбинату (НГМК). Все дома, гостиница, общежития, магазины, рестораны и столовые, продуктовые и промтоварные базы, институт и техникум, даже больницы и поликлиники. Не входили в комбинат только школы, милиция, суд, прокуратура и КГБ. Дороги, порты, аэропорт тоже входили в структуры этого гиганта. Основными, конечно, были производственные предприятия – рудники, фабрики и заводы, транспортные, ремонтные и строительные объединения. На комбинате тогда работало 115 000 человек из 180 000 населения Норильска. Самыми многочисленными подразделениями, кстати, были не металлургические и не горнорудные, а Управление торговли – 15 000 работающих и Управление снабжения 3200. Первое подразделение Комбината, с которым мне пришлось познакомиться, был Жилфонд, который подчинялся заместителю Директора комбината по быту. Наша «Сибмонтажавтоматика», к сожалению, не входила в состав Комбината, а работала на субподряде у строителей. Входили мы в состав Всесоюзного министерства Монтажных и специальных работ. Своего жилья фирма не имела, а получала раз в год определенное количество квадратных метров от комбината. Для решения вопроса о моём расселении требовалась виза заместителя директора по быту. Попав к нему на прием, я узнал, что мест в семейном общежитии не хватает и для своих, комбинатских, а в простое меня поселить не могут, так как я, «к сожалению», женат. Вернувшись в управление, я рассказал о своей беде начальнику. Он изготовил письмо на имя того же зам. нач. по быту, где просил выделить молодому специалисту с женой несколько квадратов под жилье в счет будущих площадей, выделяемых управлению в начале года. Вариантов со съёмом жилья в те поры никто не знал. Прописаться можно было только у родственников и то с большим трудом.
Александр Иванович Шерер, а именно он занимал тогда должность зама по быту, запомнился мне на всю жизнь. У его секретарши я узнал, что он родом из Одессы, что придало позитива моим надеждам на положительный ответ – всё-таки мы земляки, он же должен видеть по документам, откуда я прибыл. Но, не тут – то было! То ли у него язва разыгралась, то ли он не жаловал «некомбинатских», но пообщаться мне с ним пришлось долго.
– Нет у меня свободного жилья!
Объявил он, мельком взглянув на письмо. Иди. Я опешил, стал бормотать, что приехал на работу, а меня не могут принять без прописки.
– Селите хоть в общежитие, но решите вопрос!
Ничего не помогало. Управление посылало меня к Шереру, тот с очередным отказом выгонял. Мой начальник уже стал предлагать мне ехать в Хабаровское управление, там, мол, жильё дадут. Он, оказывается, только месяц, как приехал в Норильск на повышение из Комсомольска – на Амуре, где работал начальником участка. В Норильске он еще не познакомился достаточно с руководством, не знал местных раскладов, и не стремился лезть на рожон по мелочам.
К этому времени, а прошла уже неделя моих мытарств, в транзитном общежитии начали намекать, что пора бы и «ехать дальше». На нашу удачу инженер по технике безопасности Женя Морозов просился в отпуск, его жена с двумя дочками уже уехала, а его не отпускали. Начальник поставил ему условие, пустишь к себе вновь прибывших, пока решается вопрос с жильем, отпущу. Женя с радостью согласился и помог нам перебраться в его двушку в хрущевке. Сам улетел на следующий день. Пора было мне приступать к действиям решительным. Уезжать, сдавшись, я решительно не хотел. В очередной раз, придя в приемную к Александру Ивановичу, я узнал, что он распорядился меня больше не пускать в кабинет. Я дождался, когда выйдут очередные посетители и вошел без приглашения, заявив, что не выйду, пока он не решит вопрос с пропиской!
– Вы не сделаете из меня советского безработного, а если сделаете, будете отвечать!
На это моё заявление он начал кричать, что если я сам не освобожу кабинет, то он вызовет милицию, и меня привлекут за хулиганство.
– Вызывайте! – с радостью согласился я, – пусть и милиция будет свидетелем попирания прав молодого специалиста!
Он сбавил тон, оделся и ушел, сказав секретарше, что его сегодня больше не будет.
Не знал Александр Иванович, что я прошел школу борьбы с бюрократией «имени Гарика», у которого снимал с друзьями комнату на втором курсе. Меня так просто не скушать! На следующий день пошел я по инстанциям, благо все они находились в одном здании на Ленинском проспекте, аккурат, напротив нашего временного убежища. Сначала посетил Горком Комсомола на первом этаже. Имел приятную, но совершенно бесполезную беседу с первым секретарем. У них, мол, нет влияния на распределение жилья, другие задачи, энтузиазм молодежи, трудовые подвиги… В общем, пусто. Поднялся я этажом выше, в Горисполком. Орган Советской Власти, в лице зампредседателя, поведал мне о полном отсутствии таковой в руках Исполкома. Всё в Комбинате! Мы сами со своими педагогами и библиотекарями к ним на поклон ходим. Выделяют мало, пожаловался он, посоветовав идти к Шереру.
В поисках какой-то власти я поднялся на третий этаж в Горком КПСС. Записался на прием к первому секретарю на послезавтра. Ждал два дня, чтобы узнать, что секретарь вычеркнул меня из списка, заявив, что по жилищным вопросам не принимает. Я всё – таки дождался окончания приема и отбывающему на очередное совещание «Первому» высказал всю нелепость моего положения, напирая на невозможность воспользоваться конституционным «правом на труд»! Видимо слово Конституция было ему неведомо, а заботы о светлом будущем всего человечества так его занимали, что отвлекаться на мои мелочи у него не было возможности.
Его секретарша выслушала мою историю, посочувствовала и посоветовала зайти ко Второму секретарю Горкома. Второй секретарь традиционно курировал производство. Я попросил записать меня на прием.
– Да иди так. Он у нас всего три месяца. Пришел с Обогатительной фабрики и еще не успел обюрократиться.
Фамилию Второго помню до сих пор. И помнил, когда сам стал начальником управления, никогда не вел записей на прием, работники могли заходить ко мне со своими вопросами в любое время. Владимир Иванович Селезнев, симпатичный, лет тридцати брюнет принял меня сразу. Посмотрев моё направление на работу, он удивился:
– А в чем дело? У нас с молодыми специалистами никаких проблем не бывает.
Я рассказал о своих боях с Шерером. Селезнев удивился и попросил секретаря связаться с ним. Секретарь сообщила:
– У Александра Ивановича идет совещание, и он просит перезвонить.
– Ничего. У нас вопрос короткий, пусть возьмет трубку.
– Здравствуйте, Александр Иванович! У меня тут сидит молодой специалист Гринспон Владимир Маркович… Ах, вы знакомы.
Секретарь послушал, и лицо его стало вытягиваться в недоуменную гримасу.
– Послушай, он говорит, что ты требуешь двухкомнатную отдельную квартиру! Так?
Я, опешив от такой изворотливости зама по быту, выпалил:
– Да мне прописка нужна, чтобы к работе приступить! Хоть в общаге!
Селезнев всё понял, улыбнулся, и продолжил в трубку:
– Он согласен на комнату. Хорошо?
Он выслушал ответ и дал отбой.
– Завтра с утра, к 8–00, приходи в жилфонд, назови фамилию. Тебе выпишут смотровой ордер, если не подойдет, дадут другой. Выбирай.
Едва дождавшись утра, я пришел первым к заветному окошку и получил бумагу с адресом. Нам предлагалась комната, аж 18 квадрат, в двухкомнатной «хрущевке» с одними соседями. Комната показалась нам огромной. В квартире были все удобства: ванная, совмещенная с туалетом, коридор и кухня в 5,5 кв. метров. Пол был выстлан еще только появившемся тогда линолеумом светло – серого цвета. Соседи – молодая пара без детей. После одесского подвала это жилье казалось для нас сказкой. Мы не стали смотреть дальше и согласились. Ордер мы получили в тот же день, а на следующий сдали паспорта на прописку.
Заканчивая описание моей борьбы за законную жилплощадь, не могу не упомянуть, что лет через 5–7 после этих событий Александр Иванович Шерер благополучно сел в тюрьму вместе с главным бухгалтером комбината. Что-то мухлевали с доверенным добром. В тюрьме ему не понравилось, и он умер там года через три.
Пришло время обзаводиться обстановкой. В магазинах в те времена мебели практически не было. Стояли какие-то монстры производства местной тюрьмы. Но на стенах домов попадались объявления о продаже или желании купить что-либо. Нам попалось объявление семьи отъезжающей из Норильска, как здесь было принято говорить – «на материк». Сложив вместе все наши подъемные и деньги от родителей, мы купили довольно сносную мебель производства г. Иваново. Трехстворчатый шифоньер, диван-кровать, стол со стульями и даже тумбу с зеркалом в рост человека – трельяж. Всё было светлого дерева, в комплекте. Купили и телевизор на ножках, тюль на окна. В общем, не комната, а сказка.
Через два года, как раз перед рождением нашего первенца Алеши, нам повезло в квартирном вопросе еще раз. Соседи решили уехать на родную Кубань, вторая комната освободилась. Я, вооружившись справкой об ожидаемом семейном пополнении и ходатайством с работы, ринулся по инстанциям с целью оставить освободившиеся девять метров жилой площади за нами. Параллельно решал сложнейший в те годы вопрос с квартирным телефоном. Могу похвастаться, что вез я молодую маму Таню с малышом из Родильного дома в отдельную двухкомнатную квартиру с телефоном! Тогда для семьи из трех человек это было чудом! А телефон был вторым чудом. До сих пор помню номер 2–41–04.
«СИБМОНТАЖАВТОМАТИКА»
Немного расскажу о своем монтажном управлении, где проработал 30 лет. Сразу скажу – с работой мне повезло! Главное, это очень доброжелательный человеческий климат в коллективе. Народ собрался молодой. Редко кому было за тридцать. Самый старый ветеран бригадир был пятидесятилетний Петр Иванович Шпота. Да еще главным бухгалтером работала Софья Михайловна Никифорова – ветеран Войны, служившая на фронте в зенитном пулеметном взводе, за что за глаза имела прозвище «Сонька пулеметчица». Начальнику управления было 45, главному инженеру 32. Сам город Норильск тогда был самым молодым городом в СССР. Средний возраст чуть более 27 лет. Люди старшего возраста встречались крайне редко. Коллектив был небольшой – около 200 человек, дружный и работящий. Не было и намеков на соперничество за должности, подсиживание и наушничество.
Второе, что мне нравилось, это «география» деятельности управления. Мы участвовали в строительстве практически всех объектов комбината. Приступали к монтажу средств автоматизации и связи, на чем специализировалось наше управление, мы уже в самом конце строительства, когда корпуса и все технологические цепочки были на месте. Это позволяло быть в курсе всего огромного масштаба Норильской стройки. Даже в новых жилых домах мы монтировали телефонизацию, радио и телевизионные антенны с разводкой в каждую квартиру.
На каждом крупном предприятии комбината находились наши участки. Иногда мы располагались в выделенных для нас помещениях в заводских корпусах, а чаще ставили передвижные домики с помещениями для прораба, раздевалками. Пристраивали к ним склады и мастерские. Стройка велась как в самом Норильске, так и в городах – спутниках: Талнахе (центре добычи руды), Кайеркане (угольные разрезы, шахты), Дудинке (порт на Енисее). Объем строительства новых объектов и реконструкции и расширения действующих был огромен.
Здесь начиналась моя трудовая жизнь
На стройке работало более 20 тысяч строителей и монтажников. Комбинат стремительно развивался. Государство остро нуждалось в его продукции-меди, никеле, кобальте. Немаловажно, что наряду с этими основными материалами из норильской руды добывались и золото, и серебро, да еще треть мирового производства платины с другими металлами платиновой группы: осмием, родием, иридием и т. д.
Третьим приятным моментом работы на Севере была оплата. На тот оклад, что был нам положен с первых дней работы, сразу начислялся районный коэффициент 1,8. То есть я сразу получал почти вдвое по сравнению с зарплатой в нормальном климате. Затем, каждые полгода, к этому коэффициенту прибавлялось еще по 0,1 (т. е. по 10 %) и так до того как оклад умножался на 2,6. Это был потолок. Но к этому времени и сам оклад рос, с продвижением по службе. И это продвижение на Севере было не в пример быстрее. Народ приезжал, зарабатывал деньги и уезжал «на материк», освобождая должности для молодых.
Первые назначения
Первым моим рабочим местом была должность мастера на Талнахском участке. Город Талнах возник года за три до нашего приезда на месте вновь открытого огромного месторождения руды в 30 километрах от Норильска. Сразу были заложены три рудника, и началось строительство города для их работников. Мне пришлось поработать на строительстве самого первого и самого неглубокого рудника «Маяк». Мы монтировали там систему автоматизации стрелочных переводов для внутрирудничного рельсового транспорта – электровозов с вагонетками и вагончиками для перевозки людей к забоям. Впервые я познакомился с подземным хозяйством, посмотрел на просторные, почти как в метро галереи.
Но спускаться под землю приходилось не часто. Обязанности мастера были в обеспечении бригады технической документацией, материалами, выполнять все положенные действия по технике безопасности (инструктировать каждого рабочего под роспись в журнале перед спуском в рудник), согласовывать с техперсоналом рудника все технические вопросы, сдавать им выполненные работы.
Моей жене Тане мы подобрали спокойное место работы в институте «Норильскпроект». Это было солидное учреждение с персоналом в 1200 человек. Находился он на центральной площади.
Таня очень скучала по югу, трудно привыкала к Северу. Просилась в отпуск. Система отпусков в Заполярье допускала суммирование отпусков за 2 и даже 3 года. К положенному по всей стране отпуску северянам добавляли еще 20 рабочих дней и 4–5 дней на дорогу к месту отпуска. Так что некоторые, скопившие отпуск за 3 года, северяне не появлялись на работе по пол – года. Зато потом три года – работа! Правда, детей школьного возраста можно было отправлять на всё лето в лагерь «Таёжный» на юг Красноярского края. Я бы тоже хотел сначала подкопить отпуск, но пожалел жену.
– Копи деньги на отпуск, а то что – ж, с Севера да без денег являться! Накопим 1000 рублей, поедем.
Стали мы жить на одну зарплату, а вторую откладывать. Режим дня у нас был однообразным. В 7 утра подъём, в 7–30 я уже убегал, дабы успеть на автобус, что возил смену ИТР на Рудник «Маяк». Дорога была еще только отсыпана валунами и подровнена щебнем, так что скорость была соответствующей. Добирались мы за час. Зимой в автобусе стояла температура не намного теплее, чем за напрочь замерзшими окнами. Так что народ был одет соответствующе. «В моде» были овчинные полушубки, а – то и тулупы, тяжелые шубы – верх материя «под Брезент», внутри та же овчина. На ногах унты собачим мехом наружу. Впрыгнешь в автобус, займешь место и дремлешь под прыжки автобуса на кочках, а не достанется места, дремлешь стоя.
У Тани дорога на работу была полегче. Четыре остановки на автобусе, благо наша остановка была как раз под окнами. Автобусы в Норильске ходили часто. Этому аспекту технологического процесса – доставке работающих на заводы, фабрики в рудники и конторы – руководство уделяло большое значение. На основных переделах комбината – рудном, металлургическом, обогатительном был беспрерывный цикл работы. Люди трудились в 3 смены, по 8 часов на обычных производствах и в 4 смены, по 6 часов на вредных и подземных. Так что транспорт ходил по всем маршрутам круглосуточно.
Наступило заполярное лето. Солнце перестало уходить за горизонт, просто опускалось на ночь пониже. Спать приходилось при свете, задернув окно легкой шторой. В молодые годы это не сильно замечалось и раздражало, так же как и сплошная круглосуточная темень зимой.
Летом иногда можно было на остановке встретить взъерошенного, с выпученными глазами, одевающегося на ходу, работягу.
– Сколько времени!? – кидался он к прохожим.
– Шесть часов.
– Утра или вечера!?
– Да вечера, чудак.
– Слава богу, испугался, что проспал! Мне к шести утра на смену. Пойду досыпать.
Социализм – есть учет
Постепенно я освоился с работой. Наставник мой, 27-летний Игорь Прокопенко, был и сам недавно назначен на должность прораба, только окончил заочно местный институт. Перво – наперво он познакомил меня со всем документооборотом по сопровождению нашего монтажного производства. Лозунг В. И. Ленина «Социализм – есть УЧЕТ!» действовал в ту пору строго и буквально. Каждая выполненная работа отражалась в нескольких, часто дублирующих друг – друга документах. Всё расписывалось по операционно и подробно. Хорошо в этих условиях прорабу каменщиков. Вписал в документы 2 позиции – кирпич и раствор. А у нас работа состояла из операций с тысячами мелких приспособлений, сотнями видов измерительной и контролирующей техники, массы сортов кабелей, проводов, пневмотрубок и деталей их коммутации (соединения). Ценники и нормативные справочники, откуда мы выбирали нужные позиции для оформления выполненных работ, были увесистыми книгами усеянными таблицами. А составляли их ведущие отраслевые институты с десятками тысяч работающих. Мне, молодому специалисту сразу бросилась в глаза и постоянно саднила никчемность многих придуманных сверху норм и правил. Но! Жизнь текла и работа торопила. Пришлось вникнуть. Но через 15 лет, когда я стал уже начальником управления, пришло время побороться с бюрократией. И успешно. Но об этом позже.
Обучив меня азам работы мастера, Игорь засобирался в отпуск, три года не брал, устал. Показал мне какие выполненные работы оформить для оплаты заказчиком, попросил бригаду помогать молодому специалисту и отбыл. Я побаивался сначала, но работа пошла успешно, документооборот я освоил, фронт работ бригаде обеспечил. Пришло время закрывать выполненные работы.
Здесь надо немного пояснить, как в то время это происходило. Строительство Норильского комбината велось невиданными, ударными темпами. Очень нужен был «большой никель» стране. Проектные институты едва успевали выпускать чертежи, заводы изготавливать оборудование. Всё «с колес» шло в работу. Не успевали проектировщики только выпускать сметы на предстоящие работы. Это документы с расчетами стоимости работ по строительству зданий, сооружений, цехов, дорог, трубопроводов и т. д.
Правительство приняло решение строить без смет, а строителям и монтажникам платить за фактически выполненные и обсчитанные согласно ценникам и справочникам объемы работ. То-есть, сметы на выполненные каждый месяц работы мы считали сами. На комбинате была целая служба по приемке выполненных работ и оценки правильности расчетов стоимости. Ну и для правильного понимания данного аспекта в уголовном кодексе имелось несколько строгих статей для тех, кто припишет лишнее и получит не заработанное.
Нас курировал специалист по монтажу электрики, автоматики и связи Костромин. Милый дядька. Конец каждого месяца у него был расписан по минутам. Надо было в нескольких организациях, в каждой из которых по полдесятка участков, принять работы. На каждом участке его ждала полуметровая кипа документации. Всё надо было просмотреть, проверить, подписать.
Он справлялся с этой огромной работой своеобразно. Отмечал в спецификациях к проекту, что ему предъявляли, ту часть оборудования и материалов, которая была смонтирована и предъявлена к оплате. Некоторые проекты исполнялись несколько месяцев, поэтому он ставил цифру выполнения (и оплаты) напротив позиции и монтажники уже не могли следующий раз «предъявить» больше, чем осталось. Отметки он делал особым цветным карандашом своей марки. Надеялся, что ни у кого в Норильске больше такого нет.
Этот процесс контролировался и другим способом. Полученные со склада под проект согласно спецификации материалы каждый месяц списывались в количестве, указанном в акте выполненных работ. За этим строго следила бухгалтерия каждого предприятия.
Закрытие объёмов происходило часто в теплой, дружественной обстановке. Начальники участков съезжались на какой-то один, накрывали стол, играли в биллиард и шахматы. В перерывах в приемке куратор не прочь был сгонять партию в шахматы. Присутствующие знали, что выигрывать у него «не рекомендуется», так как после этого «особый» карандаш мог повычеркивать у выигравшего половину объемов. После окончания приемки был незатейливый товарищеский ужин. Потом куратора отвозили домой.
Система была устоявшейся, и никто не искал в ней брешей, дабы получить деньги за «воздух». Проверялось всё еще и во время плановых ревизий управлений по линии вышестоящих организаций.
Первый «ЛЯП»
Вот во время такой ревизии проводимой трестом и вылезла одна «маленькая» неувязочка на нашем участке. Это было уже через полгода, как Игорь вернулся из отпуска. Приезжает он как-то из управления мрачнее тучи.
– Ты, Володя, такой-то проект предъявлял к оплате, когда я был в отпуске?
– Ну да. Ты сам мне оставил чистую спецификацию и велел предъявить. Я обсчитал и «продал».
– Значит это я идиот. Забыл, что парой месяцев раньше уже именно этот проект по установке системы автоматических стрелочных переводов горизонта – 90 метров я уже предъявил. А комиссия углядела, что за один и тот же объект деньги получены дважды. Ждут разъяснений. Да еще и суммы совпали до рубля, а ведь считали мы в разное время! Вот научил, так научил! Хоть бы где ошибся, можно было бы как-то отбрехиваться.
Ситуация «пахла керосином». Нам дали три дня для объяснений. Тут заглянул в нашу каптерку бывший наш прораб Гера Белкин. Он с полгода как перешел на рудник зарабатывать подземный стаж. Работал он как раз начальником службы внутрирудничного транспорта и часто забегал попросить что-либо из материалов. Выслушав нашу печаль, он бодро встрепенулся и заявил:
– Ну, ребята, тут меньше чем шестью пузырями не обойтись!
На наш немой вопрос он начал считать:
– Два главному механику, он акт составляет, два главному инженеру – он утверждает. Ну и мне за оргработу. Тоже два.
Меня как молодого навострили в гастроном «Маяк» за объявленными напитками (шесть бутылок «Московской особой») и какой-то закуской. Герман пошел договариваться и на следующий день притащил оформленный по всем правилам Акт, из которого следовало, что в результате обрушения породы на горизонте – 90 м. была полностью разрушена система стрелочных переводов, и проект № такой-то должен быть смонтирован заново в полном объеме! Комиссия была удовлетворена, а мы больше таких грубых проколов не допускали.
Моральный дух
Много можно писать о несуразицах социалистического способа хозяйствования, но это скучная материя. Хочу сказать, что мы все были настроены не на обман государства, а на выполнения задач по вводу объектов в строй. Часто, особенно в конце года, бригады сутками авралили, не уходя домой, а только поспав в прорабке на скамейке или на полу 3–4 часа. И сдавали объекты. И никто не считал переработанные часы.
– Ты начальник дай после Нового Года пару отгулов, да наряды закрой по-божески.
Вспоминаю один пример, характеризующий моральную атмосферу в коллективе. Она была присуща и городу в целом. Это нетерпимость к проявлениям хитрости, ловкачества, карьеризма, неискренности. После шести лет жизни в Одессе, с ее атмосферой делячества, взяточничества, блата, мы на Севере окунулись в общество честных, открытых отношений.
Конечно, люди обращались друг к другу за помощью. Но оказание услуг строилось не на принципе деляг: «А что я с этого буду иметь?», а на принципе: «Помоги другу, чем можешь. Когда-нибудь кто-то и тебе поможет». О «вознаграждениях» доктору или мастеру в парикмахерской не было и речи. Если уж стрижешься долго у любимого мастера, то отношения не как клиент с работником, а как равный с равным. Можно и подарок преподнести на 8 Марта и не удивиться, если получишь подарок в ответ.
Так вот, был у нас в коллективе инженер Тарас Билык. Сам он был с Западной Украины, а ВУЗ окончил в Харькове. Приехал с женой Светланой, ее взяли в плановый отдел. Тарас поработал мастером на участке, а потом был назначен в отдел подготовки производства начальником. Любимым его развлечением было выйти в коридор покурить, оставить щелку в двери и подслушивать, о чем подчиненные говорят. А так как его подчиненные были женщины, то они не могли сидеть молча. Потом начальник заходил и начинал выяснять отношения, вплоть до угроз доложить все «секреты» начальству. Был он на работе неприкрытым карьеристом, рвался всеми силами подняться на большую зарплату. Да и на Север приехал исключительно за «длинным рублем». Как будто про него ходил анекдот:
«В чем разница между украинцем и хохлом? Украинец живет на Украине, а хохол живет там, где больше платят!»
Светлана, его жена, полненькая украинка-хохотушка с открытым и добрым характером вдруг стала грустной и необщительной. А иногда приходила с запудренным синяком под глазом. На расспросы не отвечала, но однажды не выдержала и по секрету рассказала женщинам о причине конфликта в семье. Тарас был категорически против детей, считал, что надо деньги зарабатывать, а не на пеленки горбатиться. Когда Светлана забеременела, погнал ее на аборт со скандалом и даже кулаками.
Для карьеры, Тарас еще в институте вступил кандидатом в члены КПСС. После окончания кандидатского срока на очередном партсобрании его должны были принять в члены партии. Пришел инструктор из райкома, сел в президиум. Когда подошел вопрос повестки дня о приеме из кандидатов в члены КПСС инструктор ожидал стандартную процедуру: «Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно! Поздравляю…» Да не тут то было! Слово попросили рабочие коммунисты с участка, где Тарас поработал мастером. Все как один высказались за отказ в приеме кандидата. Характеристики стяжателя и карьериста, человека, противопоставляющего себя коллективу, интригана и наушника, были высказаны ему в лицо, как говорится, без купюр. Да еще и с женской стороны были разоблачения его безобразного поведения в быту. Инструктор райкома пытался как-то защищать кандидата, мол, так не принято, кандидаты всегда принимаются… Но его мнение осталось при нем. Председатель собрания поставил вопрос на голосование. Все подняли руку против принятия. В кулуарах после собрания инструктор, поморщившись, сетовал на нахлобучку в райкоме, что, мол, пустил собрание на самотек и т. д. Но нам пожал руки и сказал:
– Бывал я на разных собраниях, но такого здорового и принципиального коллектива не встречал. Молодцы!