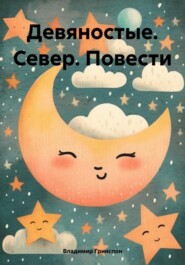скачать книгу бесплатно
Следующей моей мечтой было посвятить себя любимому спорту как тренеру, преподавателю. Тут уж были против мои родители, преподаватели школы, знакомые, близкая и далекая родня. У тебя, Вова, способности к математике, серебряная медаль, а ты хочешь стать учителем физкультуры! Что это за профессия!? Так все скопом и отговорили. Долго я потом об этом жалел, потому что спорт я любил и считал, что уже неплохо в нем разбирался. Сейчас, конечно, я понимаю, какой была бы моя жизнь в этом случае, многие реализованные в жизни возможности наверняка мне были бы не доступны.
Ну и мнение друзей, а поступать мы собирались только вместе, было далеко не последним. Решили не ехать в столицы – Москву, Киев, справедливо решив, что диплом он и в Африке диплом, неважно из какого ВУЗа. А выбрали Одесский политехнический институт. Во – первых близко от дома, во – вторых дешевле доехать и легче, потом приезжать на каникулы, в – третьих у меня там работал на физкультурной кафедре тренер юношеской сборной Одесской области по водному поло. А я за нее уже три года играл. Тренер, фамилия у него была запоминающаяся – Кусаев, настойчиво звал меня в свой ВУЗ.
Специальность выбрали тогда модную и загадочно звучащую – радиоэлектроника. Никто толком не знал, что это такое, но оказалось, что конкурс на нее самый большой – 8 человек на место. А, например, на теплофак конкурс был 2 человека, так что после отсева на первом экзамене, всем уже двоек не ставили.
Мы приехали за несколько дней до первого экзамена. Получили в приемной комиссии карточку абитуриента, и пошли селиться. Нам дали по раскладушке в спортзале близлежащей школы на пятом, последнем этаже. Всего в зал поместилось 90 раскладушек. Лето в том 1962 году было жарким. Температура доходила до 42 градусов, а крыша над спортзалом была плоской и покрыта черным гудроном. Огромные окна были открыты, но от жары это не спасало, а только ночью манило стаи комаров, которые допивали оставшуюся в наших потных телах кровь после насосавшихся ею клопов огромными стаями наползавших по ночам на раскладушки.
Днём мы готовились к очередному экзамену, их было пять, иногда выходя поесть мороженного на открытой веранде в ближайшем переулке. К тремстам граммам мороженного брали бутылку охлажденного до ледяной шуги лимонада. После такого охлаждения часа два можно было учиться спокойно, а маленький Ваня Туркин, мастер спорта по штанге в суперлегком весе (до 52 кг.), даже дрожал от холода и чуть синел. Одуревшие от жары редкие прохожие даже шарахались от его вида в сторону, жались к стене и долго недоуменно смотрели ему в след.
Подготовка шла полным ходом, только частенько по ночам приходилось успокаивать не в меру разошедшихся членов большой грузинской диаспоры, желавших веселья и кипевших неистраченной молодой энергией. Поступать в институт они поехали только из желания вырваться из-под домашней опеки и месяц насладиться прелестями курортного города на родительские деньги. Помню зычный клич часов в 12 ночи:
– Подъём! Грузин пришел, гулять будем.
Приходилось большинству, желающему, спать их утихомиривать. По утрам часть абитуриентов замазывала синяки зеленкой, а часть бегала через дорогу снимать с крыши дома напротив свои подушки, перелетевшие во время ночных боёв сквозь открытые окна через улицу.
Экзамены мы сдавали с переменным успехом и непредсказуемыми оценками. Например, написав практически одинаковые сочинения, проверив несколько раз ошибки у себя и у друзей, мы получили разные оценки: я – тройку!? Мои друзья 4 и 5. Я получше сдал физику и иностранный. Не было проблем с математикой. К финишу мы подошли примерно с равными баллами на границе проходного балла на нашу «редкую» специальность.
Тренер Кусаев посоветовал судьбу не искушать.
– Какая вам разница, на какую специальность идти, диплом есть диплом, и звание инженера на любой получите. Несите свои документы на специальность «Киноаппаратура». Там вы точно пройдете. Ну а если электроника для вас так уж важна, переведетесь внутри ВУЗа после первого курса. Мы с другом Валерой, коллегой по водному поло, так и сделали, а легкоатлеты, Вадим и Вовка пошли один на электротехнический, другой на теплотехнический факультеты. Поступили в итоге все.
Студенческое братство
Время учебы в институте, а это шесть с половиной лет жизни, для меня осталось самым счастливым.
Воспоминания о нем всегда вызывают в душе ощущение легкости, какой – то уверенности в бескрайности жизни, в то, что вся она может состоять только из хороших, отличных и превосходных событий. Все же мелкие неудобства, как-то временное отсутствие денег, завал на экзамене или спортивная травма, есть трудности временные, не заслоняющие общего счастливого фона. А уж в самые радостные моменты, такие например, как сдача последнего экзамена летней сессии с двумя месяцами каникул впереди, помнятся душевным подъёмом и желанием сотворить какое-нибудь безрассудство.
Колхоз
Повторюсь. Группа наша была очень дружна. Проявилось это исподволь в первый выезд на сельхоз работы на первом курсе. Все студенты Москвы и Средней полосы России ездили каждую осень на картошку. Одесские студенты выезжали на помидоры, виноград, дыни и арбузы. Это были полтора месяца хорошего посильного труда на свежем воздухе, добротной кормежки и веселого «свободного времени». Заработать какие-то деньги было нереально, весь заработок шел на оплату нашего питания. Кто зарабатывал меньше, чем съедал, того совхоз «прощал», да мы и не очень стремились заработать. Норму по сбору помидоров у нас выполняла только одна Нюся Бойченко, сельская жительница, привыкшая к такой работе. Выйдя утром в поле, она принимала соответствующую сборщику помидоров позу, и распрямлялась только на время обеда. Она легко набирала две нормы, и уехала с полевых работ, имея хороший «приварок» к стипендии.
Жили мы по три – четыре человека по хатам у местных жителей. Вечерами собирались на площадке в центре села, у клуба. Клуб не работал, но мы своими силами организовали танцы под переносной магнитофон и под нашу музыку. Я играл на гитаре, Вовка Гриценко на баяне. Пели мы самые модные тогда песни и кое-что из «народно-дворового» репертуара. На первом курсе жили мы в селе Петродолина. Помню, как переделали песню о ковбоях и прекрасной девушке Каролине, на местный лад. Вместо первых слов: «В нашей большой долине девчат красивых, как цветов не счесть…» мы пели: «В нашей Петродолине…». Успех у местных красавиц был полный. С хлопцами были небольшие разногласия, но видя в нашем коллективе Валерика Исаева – перворазрядника по боксу в тяжелом весе, местные парни больше стремились улаживать всё миром, принося из дому своё вино.
Из 25 членов группы всего семеро представляли «слабый пол». Поэтому сразу наметился дефицит предложения при избытке спроса. Были у нас и женатые парни, но всего двое. Остальные, как говорится, были в свободном поиске. Из девчонок самая симпатичная гимнастка – перворазрядница, чемпионка Молдавии Таня, сразу объявила, что у нее есть жених и она готовится к замужеству. Круг свободных вакансий сужался. Из этого круга как-то сама собой выпадала Нюся (так она сама себя называла, как в семье переделали имя Аня) – чемпионка не только по сбору помидоров, но еще и по толканию ядра в пределах области. К ней по габаритам мог бы еще как-то подойти наш боксер – тяжеловес, но ему с самого начала приглянулась Валюша из Ялты. За ней, правда, начал ухаживать Витя из Ухты. Это Столица Республики Коми. Мы его так и называли – комик из АССР. Но Валера договорился с Витей, презентовал ему бутылку крепленого вина «Оксамыт Украины», и Витя пошел навстречу товарищу. Пошел он, правда, недалеко. Его «обворожила» Наташа из Черкасс.
Позже, на третьем и четвертом курсах, мы играли несколько студенческих свадеб. Эти, сложившиеся в первые дни нашего знакомства, пары были в числе счастливых молодоженов. Историю о том, как Валера «отбил» Валю у Вити мы рассказали ей только на второй день после свадьбы. Обошлось без битья посуды и крупных обид.
На старших курсах мы ездили в колхоз уже в качестве наставников первокурсников. С нами не посылали даже преподавателей, полностью доверяя нам процесс помощи сельскому населению.
Положение руководителей нас полностью устраивало. Мы, старшие, определив бригады первокурсников на бесперспективные с точки зрения заработка полевые работы, брали себе необременительные, но с высоким наполнением трудоднями, работы. Была при социализме такая форма зарплаты у колхозников – трудодень. Например, за целый день сбора винограда засчитывали один трудодень, это еще, если выполнишь норму. Этого как раз хватало закрыть затраты на кормление студента.
А такая должность как грузчик давала два трудодня в день. На эту «трудную и ответственную» должность мы определяли того из старших, кто хотел отдохнуть и попить продукции местного винзавода. Технология была следующей. Грузчик усаживался в кабину грузового ЗИЛа – самосвала рядом с водителем и выезжал на виноградник. Там машину с нетерпением ждали трудолюбивые первокурсники с наполненными виноградом плетеными корзинами. Они шустро бросались к машине и опорожняли корзины в кузов, им срочно была нужна пустая тара для продолжения сбора даров природы и выполнения дневной нормы. Грузчик мог наблюдать за этим процессом из кабины, мог выйти и размяться. Далее шла самая сложная часть обязанностей. Самосвал подъезжал к воротам винзавода, километрах в 10–15 от места сбора. Машина заезжала внутрь на разгрузку. Как разгружается самосвал и какая роль грузчика в этом процессе вы должны догадываться. Старик сторож при въезде сразу говорил, что нам внутри завода делать нечего и у него всё есть в будке. И правда, в его распоряжении находилось два пятилитровых чайника. В одном был розовый портвейн, в другом белый крепленый вермут. Сухого вина сторож не держал, называя его кислятиной. Рядом лежал каравай крестьянского хлеба и несколько ломтей брынзы. Наливал он дары родного предприятия в алюминиевую полулитровую кружку. Обычно грузчику хотелось попробовать и того и другого. Так что после одного, максимум двух, рейсов место грузчика занимал следующий «дегустатор».
Были работы и по четыре трудодня за смену. Но там надо было действительно вкалывать! Однажды мы вчетвером подрядились готовить и отгружать зерно на посадку озимой пшеницы. Мы брали зерно из огромной горы посредине амбара и большими двуручными совками засыпали его в механизм протравливания, где зерно смешивалось во вращающемся барабане с химреагентом в виде розового порошка с ядовитым запахом дуста. После этого протравленным от вредителей семенным зерном мы наполняли пятидесятикилограммовые мешки и грузили их в, курсирующий между нами и сеялками в поле, грузовик. Грузовики ходили часто, и расслабляться было некогда.
Но всё же иногда можно было пяток минут отдохнуть. Во время короткого отдыха мы успевали съесть припасенный арбуз или дыню, а иногда ходили утолить жажду на примыкающий к амбару винодельческий пункт. Это был длинный открытый навес с сотней двухсотлитровых бочек, которые наполнялись соком, выходящим из – под винного пресса. Сок стекал в большой бетонный приямок размером и формой с кубический метр, а потом насосом закачивался в бочки. У пресса стояла литровая кружка для желающих попить. Рабочие виноделы не понимали нашего предпочтения, всё пытались налить нам уже выдержанного, годовалого вина. Иногда мы пили и вино, но никакого опьяняющего эффекта не испытывали – после загрузки очередной машины весь алкоголь выходил с обильным потом. Так что сок был вкуснее, а утолял жажду так же.
После целого дня упорной физической работы мы шли на ужин. Как старшим руководителям, повариха тетя Дуся накрывала нам отдельный стол, после того как первокурсники закончат и удалятся. И меню соответствовало нашему статусу! Тут была и жареная с картошечкой молодая баранина, и огромная сковорода яичницы из двух десятков яиц (на четверых), и нежнейшая овечья брынза, и много других местных деликатесов. Повариха каждый раз приносила из дому «своего» вина и обижалась когда мы, утомленные дневным приёмом жидкостей, не в полную меру отдавали должное её отличному напитку.
Для меня, правда, работа на зерновом складе быстро закончилась. Техника безопасности подвела, вернее пренебрежение безопасностью. Нам привезли мешков пять элитного зерна. Какой-то новый сорт пшеницы из НИИ растениеводства. Его надо было протравить отдельно и в этих же мешках с маркировкой погрузить в машину. Сеять его должны были на отдельной, экспериментальной делянке. Мы решили подхалтурить. Не пропускали зерно через аппарат, а просто насыпали сверху порошка и сколько можно глубже перемешали его с зерном. Мешал я. Голыми руками. К вечеру руки начало щипать, я промывал их водой, но ничего не помогало. Тыльные поверхности кистей покраснели и «горели огнем». Вечером я еще кое-как поел и лег спать, а наутро уже не мог шевелить руками, вся верхняя часть кистей, включая пальцы, превратилась в сплошной волдырь, надувшийся, с жидкостью под тонким слоем отставшей кожи! В поселковом медпункте мне выписали больничный и расписались в собственном бессилии. Друзья проводили меня на ближайшую ж/д станцию и отправили в Измаил. Маме случился вот такой «сюрприз». Доктор в поликлинике определил химический ожег и намазал волдырь синькой, похвалив меня за то, что я не проткнул вздувшуюся кожу. Я еще раза три посетил поликлинику для помазания синькой, волдырь стал сдуваться, и через две недели кожа сошла, обнажив новую светлую, без загара, шкурку. Потом еще года три эти места не загорали. Вернулся в колхоз я к закрытию сезона. Успел пару дней развлечься, поработав грузчиком, и получил самую большую из всех зарплату. По больничному мне выплатили средний заработок на зерне, а вычитать за питание за это время было нечего. Так что пришлось по прибытию в институт угощать коллег.
Учебный процесс
Будни нашей дружной группы проходили спокойно и довольно разобщенно. Наш староста, Толик Бобынин, был уже человеком в возрасте, отслужившим армию и имевшем семью с двумя дочками. Не смотря на разницу в возрасте, он с пониманием относился к нашим взглядам на учебу. Прикрывал наши прогулы, проставляя в журналах посещений явку. На занятия приходило обычно не более половины группы. Преподаватели тоже не очень следили за посещаемостью, но были отдельные индивидуумы, что считали отсутствие на занятиях личным оскорблением. Так я получил единственную тройку в итоговых оценках на вкладыше к диплому. По гидравлике. Я посещал почти все лабораторные работы, мне нравились опыты, гидравлические законы и особенности работы гидравлических машин. Но вот лекции по теории я традиционно прогуливал. А преподаватель, увидев меня на консультациях перед экзаменом, заявил, что обладает отличной зрительной памятью и уверен в отсутствии моей физиономии на его лекциях. Он прямо заявил, что очень сильно сомневается в моём успехе на экзамене. Пришлось поднапрячься при подготовке в отпущенные на это три дня. Отвечал я хорошо. Уверен был, как минимум, в четверке, но… Доцент со злостью взял в руки зачетку и молча вывел «удовлетворительно», досадуя на мои знания, и что он вынужден отпустить меня без «хвоста».
Досуг
Половина нашей группы была из областных сел. Ребята часто ездили домой подкормиться, отдохнуть день-другой и привезти с собой гуманитарную помощь от родителей. У многих дома подвалы были загружены вином собственного приготовления, так что ребята не забывали захватить с собой пару канистр. Вот тогда группа собиралась почти в полном составе. Не говоря уже о праздниках. Помню, Новый год отмечали на даче. Дачу снимали наши ребята в районе Аркадия, на конечной остановке пятого трамвая. Тогда летние дачи часто сдавались хозяевами на зиму студентам. Собралось человек 25. Пели, танцевали, пили вино из привезенного старостой 80 литрового бочонка. Часов в десять на шум подтянулся местный участковый милиционер в звании старшины, в шинели, перепоясанный портупеей с пистолетом в кобуре. После трех-четырех стаканов домашнего красного он заволновался о сохранности своего табельного оружия. Для его спокойствия староста забрал «Макарова», вынул обойму и положил в ящик комода. Утром опохмелившийся старшина пришел в кое-какое вразумительное состояние и проверил кобуру. Он и так плоховато выглядел после новогодней ночи, а тут сквозь бледность на его лице начала проступать серость. Бедный милиционер уже начал прощаться с карьерой и видел себя уволенным из органов за утрату табельного оружия с «Волчьим билетом». Началось расследование и поиски. С трудом складывая обрывки воспоминаний каждого из участников банкета, выяснили, что с пистолетом бегали наши дамы, дурачась и пугая кавалеров. Оружие нашли под подушкой у Катюши, а патроны прибрала от греха подальше жена старосты Оксана. Старшина поклялся нам всем в вечной любви, отнес оружие в сейф и вернулся поправлять подорванное стрессом здоровье.
Самодеятельность
Наша группа была во главе факультетской художественной самодеятельности. В институте было 12 факультетов и все выставляли на ежегодный смотр талантов лучшие кадры. Институтское жюри просматривало все 12 концертов, а шли они часа по три, и в конце «смотрового» месяца определяло победителей. Наш Мехфак постоянно был в числе первых, что наполняло гордостью руководство и помогало участвующим в самодеятельности двигаться к заветному диплому. Я был солистом (запевалой) в хоре и в эстрадном разделе пел песни под гитару. Музыкальными руководителями нашей самодеятельности были студентки Одесской консерватории. Они в порядке шефства подбирали репертуар, дирижировали хором, аккомпанировали певцам и танцорам.
Особенно нам нравилось выезжать с концертами в трудовые коллективы. Одна поездка запомнилась особо. Дело было 9 Мая. Я прогуливался возле институтской столовой в надежде стрельнуть у кого-нибудь 32 копейки на стандартный обед (Полборща с головизной, котлета, якобы из мяса, с гороховым пюре, компот и 2 кусочка хлеба). Обед был довольно сытным, особенно если в первом блюде попадется кусок небритой хрюшкиной щеки. Здесь меня и поймал зам. Декана, куратор нашей группы и отвечающий на факультете за художественную самодеятельность, Николай Григорьевич Грищук.
– Володя! Как хорошо, что я тебя встретил! Надо срочно собрать ребят на небольшой концерт посвященный Дню Победы!
– Николай Григорьевич! Да я с утра ничего не ел…
– Давай, Володя, быстро! Там и поедим и еще кое-что.
– А куда едем?
– Да тут недалеко, километров 15, винодельческий совхоз. Они и грузовик за нами прислали, в переулке стоит.
Через 20 минут мы уже запрыгивали в кузов галантно подсаживая трех девчат из танцевального ансамбля. Набралось нас человек десять. Как только приехали, сразу попали в клуб, где закончилась торжественная часть и публика жаждала искусства. Первым номером вышли мы с Витей Власовым. Оба с гитарами, и начав с «На безымянной высоте», продолжили песнями Войны-«В землянке», «Темная ночь», «В лесу прифронтовом» и т. д. Затем отрывки из поэмы «Василий Теркин» прочел наш мастер художественного слова, выступили танцоры и акробаты. Вторым отделением шла современная эстрадная музыка. Модный тогда японский шлягер «У моря, у синего моря…» мы повторяли на бис раза три. Наконец, концерт закончился, парторг совхоза вручил нашему руководителю благодарственную грамоту и пригласил артистов на праздничный ужин в столовую.
Вот это была награда студентам! После нашей столовки, да такие деликатесы! Жареные поросята, куры, утки, запеченные целиком карпы из совхозного пруда, салаты и винегреты! Председатель извинился, что магазинной выпивки мало. Мы спросили про вино.
– А этого без ограничений! Председатель показал на две полные бочки – в одной красное, в другой белое. После того как студенты утолили первый голод, парторг попросил исполнить кое-что из нашего репертуара для работников столовой. Вдохновленные отменным угощением, мы повторили клубную программу, а я, в добавок, спел несколько военных песен Высоцкого, которые только-только начали звучать на первых советских катушечных магнитофонах. Особенно потрясла ветеранов песня «Штрафные батальоны». Уехали домой мы часа в два ночи нагруженные гостинцами и впечатлениями.
Новая специальность
Сплоченность нашей группы подтвердили события в начале четвертого курса. После возвращения с сельхозработ нам объявили, что специальность «киноаппаратура» в нашем институте закрывается. В Госплане решили, что для народного хозяйства хватит специалистов по этой специальности, которых готовит Ленинградский институт киноинженеров. Чтобы как – то загладить свою вину за неожиданный облом, руководство института предложила каждому из нашей группы выбрать себе любую специальность на любом факультете и перейти, досдав, при необходимости, не изученные нами предметы.
Известие повергло нас в шок и уныние. Расставаться мы категорически не желали. Получив стипендию, мы собрали вече в общежитии. Попели, попили, погрустили. Девочки поплакали. После долгих дебатов вперемешку с тостами, мы торжественно сожгли плакат с названием нашей «Краснознаменной» группы К-31. И выработали наш «ответ Чемберлену», то – есть ректорату. Трое ребят, что изначально поступали на эту специальность, заявили о желании перевестись в Ленинград и получить – таки желаемое образование по киношному направлению. Я думаю, главным мотивом в их решении было то, что они все трое были одесситами, жили дома и страшно завидовали нашей вольнице. Так что слинять из под опеки родителей, да еще в Питер, было для них негаданной удачей.
Двое поддались на уговоры приехавшего из города Ровно вербовщика. Там открылся институт атомной энергетики, готовил кадры для строительства и эксплуатации атомных станций. На первый курс принимали в обычном порядке, а на старшие курсы переманивали студентов из других ВУЗов страны на очень соблазнительных условиях. Ох, не завидую я атомной индустрии, получившей в те годы выпуски из «перебежчиков». От нас им достался Митя Барон с тремя или четырьмя не сданными «хвостами», и не тянувший по всем предметам. Да и что было ожидать от таборного цыгана волею судьбы оказавшегося студентом. До четвертого курса он дошел только благодаря нашим усилиям, преподаватели ставили ему тройки, не смея противиться нашим бурным уговорам.
Остальная масса на следующий день озвучила декану следующее предложение. Специальность нас не волнует. Выбирайте сами, куда нас перевести. Но! Переводите всей группой! Через пару дней нам предложили специальность «Автоматизация литейного и металлургического производства». Мы согласились. И группа получила шифр ЛА-41.
Экзамены
Наивысшей концентрацией талантов и способностей каждого наш коллектив достигал во время очередной сессии. Одной работой над шпаргалками мог бы позавидовать великий фокусник Кио со всем своим шоу. Были шпоры в виде гармошки из аккуратно сложенной бумажной ленты с ответами на билеты, выписанных мельчайшими буквами и цифрами. Были полоски тончайшей бумаги спрятанные под прозрачным кожухом авторучки. Искать ответ на билет надо было вращая внутренний цилиндр ручки относительно внешнего. Девчата исписывали формулами ноги от колен до трусиков, в этом им было легче, только подними юбку до «нужного ответа». Но юношам легче было проносить на экзамены конспекты и даже толстые учебники. Достаточно было надеть рубашку на выпуск и застегнуть поплотнее пиджак или курточку. После многих экспериментов я пользовался шпаргалкой в виде обычного листка, вырванного из тетрадки. Такие, чистые, нам выдавали при подготовке ответов на экзамене. Листок был исписан вкривь и вкось формулами и не привлекал внимания среди таких же исчерканных листиков.
Был у нас еще один прием успешного преодоления сессионных барьеров. Зачетная книжка представляла обложку с фотографией и печатью и вкладыша из нескольких страниц бумаги. На первой странице вкладыша шли данные студента: ФИО, специальность, факультет и т. д. На следующих страницах в таблицы заносились предметы и сессионные оценки. Вкладыш был прикреплен к обложке в типографии скрепками, как в паспорте. Вы уже догадались, что если разогнуть скрепки и вынуть страницы с фамилией студента и оценками, а на это место вставить вкладыш из другой зачетки, то фото студента и его данные уже не будут соответствовать действительности. Эта особенность была дополнительным стимулом не ходить на лекции и не дать преподавателям шанса «связать» в памяти твою «фотографию» с фамилией.
Сдавали «за того парня» обычно на паритетной основе. Я специализировался на «гуманитарных» предметах – истории КПСС, диалектическом и историческом материализмах, политэкономии. Там где наука не содержала жестких формул, и определений и можно было с помощью диалектики, точнее наукообразной болтовни, ответить и на незнакомый тебе вопрос. А другие ребята хорошо знали точные науки и терпеть не могли философию. Я обычно выносил с таких экзаменов твердые четверки и даже пятерки. Мне отвечали тем же.
Друг Юра
Только один раз я поддался на уговоры друга Юры с электрофака и сдал за него историю КПСС. На «отлично». Юра только что перевелся в наш институт из Караганды. Лицо его не знал ни один преподаватель. Он уговорил меня не ходить на математику, мол, я ас в этом предмете и гарантирую пятерку. Я и сам мог сдать математику, но напор был так силен, что я согласился на «бартер». Юра вошел в аудиторию, взял билет и показал нам в полуоткрытую дверь растопыренную пятерню. Двери прикрыли. Когда Юра вышел, мне показалось, что оценка далеко не 5 баллов. Действительно, Юра не справился с задачкой, и преподаватель предложил ему подготовиться и прийти еще раз. Во второй раз Юра вынес трояк, убеждая нас, что отвечал на отлично, а профессор из принципа при повторной сдаче больше тройки не ставит.
Потом, узнав Юру поближе, я не согласился бы доверить ему свой экзамен. Он оказался на редкость самоуверенным и импульсивным деятелем. Энергия бурлила в нем как в паровом котле, всё время появлялись какие – то идеи. Заканчивались большинство из них обломом, но тут же возникали следующие прожекты. Вот один штрих, характеризующий его натуру. Он любил ездить в такси, и вообще, форсить. Отец, армейский офицер, выдавал ему приличные деньги на проживание, кроме этого, Юра подрабатывал дежурным в котельной по ночам. Деньги были, но и тратил он их без разбора. Так вот, в такси у него был заготовлен трюк при расчете. Когда водитель называл сумму за проезд, а она обычно при городской поездке была от 40 до 90 копеек, не превышала рубля, Юра не глядя вынимал из кармана рубль, бросал водителю вместе с гордой фразой «Сдачи не надо!» и быстро выскакивал из машины. Эти «понты» его не раз подводили. Он часто жаловался нам, что опять перепутал карман и бросил таксисту вместо рубля пятерку, а то и червонец!
Я запомнил еще одну его историю. Мы помогали ему сдавать зачеты по английскому. На этот счет у нас с молоденькой преподавательницей была отработана взаимовыгодная методика. Она на кафедре иностранных языков отвечала за организацию англоязычных вечеров. Там каждый язык был представлен, и преподаватели соревновались, какой вечер пройдет интереснее. Приглашали иностранных студентов, благо в нашем ВУЗе учились представители из 32 стран. Но хозяева тоже должны были продемонстрировать радушие, интернациональную дружбу и знание языка. Мы предложили преподавателю исполнить песни на английском. Она принесла нам тексты патриотических советских песен в переводе. Мы с большим удовольствием разучивали и исполняли под баян и гитару наши «Летят перелетные птицы», «Хотят ли русские войны?» или «Пусть всегда будет солнце!» Юная «англичанка» получала похвалу на кафедре, а мы зачет по языку. Да еще на вечерах можно было попить чайку с конфетами и пирожными, что тоже было хорошим подспорьем к нашему полуголодному Немецкий у него в голове не держался. Но, чтобы произвести впечатление, он каждый раз в новой школе специально опаздывал на пару минут на первый урок по иностранному языку. Войдя в класс, он скороговоркой произносил;
– «Иншюльдиген зи, битте, майне фершпетунг!» (Извините, пожалуйста, за моё опоздание).
Учительница ахала от таких знаний новенького и долго еще не подозревала, что его немецкий исчерпывался этой, единственной фразой. Юра так часто к месту, а чаще невпопад, щеголял этой фразой, что она отложилась у меня и всех его друзей на всю жизнь. Мы уговорили его перейти на английский. Ему было всё равно, он не знал никакого. Зато вместо сдачи длинных переводов текстов газетных статей, он бодро подпевал нам на вечерах и получал свою долю пирожных и зачет.
Экзамены с видом на Черное море
Вершиной же организации коллективной и практически беспроблемной сдачи летней сессии была найденная нами формула – «Если студент не идет к преподавателю, то преподаватель идет к нему!». У нашего института был студенческий спортивно – оздоровительный лагерь «Чайка» в 44 километрах от города на берегу моря. Летний период работы лагеря разбивался на четыре 24-дневные смены. Путевки распространял профком по смешным ценам, 12 рублей за смену. Остальные расходы компенсировал лагерю профсоюз. Конечно, такая халява была в дефиците. Но на первую смену, с 1 июня, желающих было мало – сессия.
Наш староста предложил профкому идею, от которой, как говорится, было трудно отказаться. Мы всей! Группой выезжаем на первую смену, а преподаватели приезжают к нам в лагерь принимать экзамены. Мы даже доставку их берем на себя. У отца Петьки Лапина была Волга ГАЗ-21 и он согласился привозить профессуру.
Преподавателей не надо было долго уговаривать провести денек на море вместо душной аудитории. Так мы и провели две последние летние сессии на четвертом и пятом курсе. Организовывали мы всё на высшем уровне. Из одного из спальных дощатых одноэтажных домиков выносили кровати, расставляли столы и стулья. Столы для подготовки к ответам на билеты ставили поближе к открытым окнам. Под окнами во время экзамена располагалась группа поддержки с конспектами и учебниками. А преподавательский стол располагали так, чтобы максимально затруднить наблюдение за готовящимися соискателями положительных оценок, дополнительно закрывая обзор огромными букетами полевых цветов. Перед приемом экзаменов для преподавателей был накрыт завтрак в столовой. Иные наши наставники мужского пола не брезговали и стаканчиком – другим отличного домашнего вина из соседней деревни. Ну а после трудов был обед. За ним уже никто особо не стеснялся. Зная об особенностях сдачи экзаменов «на природе» к нам иногда присоединялись и параллельные группы, хотя и не отдыхавшие по путевкам. Приезжали на поезде.
Те преподаватели, кто приезжал с детьми, просили сразу сдать экзамен желающих присмотреть за их чадами пока родители трудятся. На роль «нянек» мы определяли наименее подготовленных представителей. Не надо говорить с какой скоростью они получали свои оценки. В общем, на четвертом и пятом курсах я получал только «отлично» по всем предметам и даже повышенную стипендию! Аж 45 рублей.
Наша лаборатория
Помогало отлично учиться и то, что наша новая специальность, связанная с автоматизацией, заставила руководство нашего Механико-технологического факультета создать новую кафедру. А преподаватели на нее пришли из числа механиков, технологов, металлургов. По сути, они вместе с нами осваивали новые для себя предметы: теорию авторегулирования, колебательные процессы, системы и средства автоматического управления и т. п. Почти все дисциплины представляли собой курсы прикладной высшей математики с нагромождением формул и выводов.
Для того чтобы непосредственно ознакомиться с системами автоматизации, со схемами автоматизированных комплексов, при кафедре организовали секцию студенческого творчества с лабораторией. Оснастить ее помогли предприятия, с которыми сотрудничал наш ВУЗ. Я был первым кто записался практикантом в лабораторию. Всего набралось человек шесть. Мы два – три раза в неделю собирали релейные схемы автоматизированных комплексов, решая задачи, приближенные к реальным производственным процессам. Например, выстроили систему регулирования заданной температуры в плавильном тигле, автоматизировали работу принудительной вентиляции и т. д. На практике было легче разобраться в нудной и хитрой теории, и нам, студентам, и новичкам в этих науках – преподавателям.
Позже нам уже определили по полставки лаборантов и мы помогали осваивать науку студентам младших курсов. Так что немалая доля отличных оценок была заработана честно. Да и что мог поставить молодой преподаватель, с которым ты еще вчера бился, как коллега, над очередной головоломной схемой, кроме «отлично». Кстати, эти практические занятия одно из немногих, что в последствии пригодилось на производстве.
Практика
Постепенно подошло время выпуска из института. Это преддипломная практика, подготовка дипломного проекта и его защита. На практику мы разъехались во все концы огромного СССР. Я попал в шестерку студентов поехавших на Минский тракторный завод. Мы стажировались в огромном литейном цехе довольно современно оборудованном автоматическими и полу автоматическими линиями. Там я и выбрал себе тему диплома: Автоматическая линия по набивке опок для чугунного литья. Трудностей с подбором материала для диплома не было и мы довольно вольготно проводили время в столице Белоруссии.
Запомнились пара эпизодов. Стипендию нам присылали в первых числах месяца на главпочтамт. И что – то мы три дня ходили на почту, а заветных переводов не поступало. Деньги кончились у всех и мы на последние копейки купили самую дешевую еду – яблоки, килограммов пять и уже два дня питались исключительно этими полезными плодами. Для экономии калорий никуда не ходили, играли в карты или валялись на кроватях и трепались о превратностях бытия.
Жили мы всё время практики в общежитии Минского политехнического института прямо в красном уголке, пока общежитие летом подбеливали и подкрашивали. Но пришло время занятий и начали прибивать местные кадры. Первыми возвратились студенты из стройотрядов. Они хвастались заработками и как на заработанные средства здорово гуляют. Один с гордостью поведал нам, что они с другом в ближайшем гастрономе вчера выпили по три стакана вина из конуса, и как им было весело и здорово! Вино из конуса тогда продавали вместе с соками. Выливали вино из бутылок в один из трехлитровых стеклянных конусов с краником в нижней части. Сок тогда выпускался в банках по 3 литра и продавался стаканами на разлив. Сок шел по 10–12 копеек, а вино по 20–25 за стакан. Лежащий третьи сутки на яблочной диете Миша Галюров из нашей компании вздохнул:
– Три стакана! Мизер, а не доза! Я бы и 23 выпил.
Белорусы посмотрели не невысокого, худощавого Мишу и стали над ним издеваться:
– Да в тебя и стакан – то не войдет. Лежи, уж, доходяга!
Слово за слово и Миша плавненько и с ехидцей подвел их к спору на что хочешь, что он не выпьет. Ну, ни за что! Остановились на том, что за вино платит проигравшая сторона, да еще выставляет 2 бутылки коньяка и закуску. Выпить надо было 23 стакана сухого вина за час. Без закуски. Стройотрядовцы погорячились. Откуда им, детям бульбы и Полесских болот, знать, что происходил Миша Галюров из большого бессарабского села Кулевча, где на вопрос местному жителю:
– А хорошая у Вас, хозяин, вода в колодце?
Следовал ответ:
– Не знаю, не пробовал.
В Большой Мишиной семье только для «внутреннего потребления», то есть не на продажу, оставляли после сбора винограда и до нового урожая семь тонн вина. Вино в Бессарабии и Молдавии пили все и всегда. Но пьяниц не было, вино было своего рода продуктом питания, не более. Поэтому выиграть пари для нашего товарища было делом не слишком трудным.
Процесс походил на «избиение младенцев». У продавщицы было всего 8 стаканов, она их все наполнила. Миша взял поднос с вином и мы устроились на широком подоконнике гастронома. Подавали белую болгарскую «Фетяску», слабоватое и кисловатое вино. Миша брал стакан, не спеша, в один приём выпивал, и тянулся за следующим. Перерыв он делал только во время налива следующей серии, закуривая сигаретку. Выпив минут за 20 положенные 23 стакана, он хитро нам подмигнул и, вынув из кармана последний двугривенный, протянул продавщице:
– Хорошее вино! Я, пожалуй, еще стаканчик выпью. За свои!
Белорусы ничуть не переживали. Они сказали, что посмотреть такой аттракцион не жалко ни за какие деньги. А мы впервые за последние дни выпили армянского коньячку под великолепные белорусские деликатесы. Миша наравне с нами участвовал в «банкете», правда, часто отлучаясь из-за стола.
Запомнилась еще из Минской практики свадьба нашего товарища Витьки Андреева, нашедшего свою невесту в том же литейном цехе, где она проходила практику от ПТУ в земледелке. Так называлось отделение приготовления формовочных смесей. Невеста Люда была местной. Папа её работал путевым обходчиком на железной дороге и имел, согласно статусу, дом с подворьем прямо у железнодорожных путей. На свадьбу собралось человек пятьдесят. Кроме родни с обеих сторон были мы, товарищи по институту, а так же одноклассники и друзья невесты из соседней деревни.
Столы ломились от даров белорусских ферм, полей, садов и огородов! На наши вечно голодные желудки обрушился настоящий фейерверк удовольствий. Песни, пляски, «Горько!» продолжалось до утра. Всё было на высшем уровне! Отвели спать нас по друзьям в соседнюю деревню.
Всю особенную «прелесть» белорусского застолья я почувствовал только наутро, когда прозвучал сигнал к подъёму и выходу для продолжения торжеств. Спали мы на полу. При пробуждении мне показалось, что мой затылок крепко прибит к полу гвоздем. Гвоздь казался большим, не менее двухсотки и почему-то раскаленным. Такой эффект произвел на меня картофельный самогон, что был основным застольным напитком.
Помню, что придя на место событий и посмотрев на еду, я несколько раз выбегал в дальний угол двора за сараи. Только к вечеру, когда остальная публика весело распевала песни и признавалась друг другу в уважении и вечной любви, я превозмог себя и выпил рюмку магазинной водки из НЗ хозяев, после чего смог кое-как закусить. Больше к картофельному «напитку» я никогда не прикасался.
Будущие воины
Особое положение в институте занимала военная подготовка. Юноши занимались ей целый день по четвергам. У девушек этот день был свободным. А еще нам говорят о равноправии полов! На военной кафедре нашего института все студенты при выпуске получали звание младших лейтенантов запаса и должность – командир взвода зенитных самоходных установок ЗСУ-57–2. Военку, так мы называли военную подготовку, пропускать без уважительных причин было никак нельзя. В начале каждого часа занятий проводилась обязательная перекличка. Ну а прогул сразу влек за собой вызов к руководству института, объяснительные, лишение стипендии, а повторный прогул практически приводил к отчислению. После отчисления мгновенно приходила повестка из Военкомата с распределением «в сапоги».
Занятия включали в себя строевую подготовку, изучение уставов Вооруженных Сил, ну и полдюжины непосредственно «зенитных» дисциплин. Самоходная установка сочетала в себе Танк Т-54 с башней открытого типа со спаренной зенитной полуавтоматической пушкой от наземного зенитного комплекса С-30. Поэтому мы подробно изучали и танк и зенитный комплекс с радиолокатором и системой управления зенитным огнем. Я и сейчас, через 45 лет после выпуска смог бы правильно вести боевые действия на этих давно устаревших боевых машинах.
Дальше расскажу почему так глубоко в память въелись навыки привитые нам за время учебы и лагерных сборов. Военная подготовка не представляла для меня трудностей. Во-первых, материал усваивался хорошо, потому что прогулять было нельзя, на занятиях разумно было не отвлекаться а заниматься, так как конспекты из помещения кафедры не выносились. Нас приучали к режиму секретности и выдавали тетрадки только на занятия и часы самоподготовки. Преподаватели были, в основном, ветераны, прошедшие войну. Они честно делали свою работу и добавляли к занятиям рассказы из своей фронтовой практики. Были, правда, и тяжелые моменты с офицерами, не нюхавшими пороху, но с амбициями.
Расскажу об одном. Устройство зенитного орудия читал нам майор Станев, по национальности болгарин. То ли из-за национальных особенностей, то ли из-за характера, был он редким занудой и излишним педантом. При ответе на вопрос по теме он требовал буквально зазубренных, как по конспекту, сведений. Диктовал он своим противным гнусавым голосом материал по памяти. Сам, наверное, настрадался пока зазубрил сотни наименований деталей орудия, и срывал на нас досаду за свои прошлые тяготы.
– Система ударного механизма затвора состоит из, – гнусавил он. Далее шел перечень из трех десятков деталей. Потом диктовался порядок их взаимодействия:
– Когда тяга педального привода отводит ударник, сдерживаемый пружиной обратного хода, доводит шептало до положения вывода последнего из зацепления с выступом на ствольной коробке, происходит самопроизвольное соскальзывание…
Все детали надо было повторять только в той последовательности, что майор диктовал. За отклонение от текста он снижал оценку, а то и заставлял приходить отдельно и пересдавать предмет.
Все как-то смирились, старались соответствовать. Но наш товарищ Виктор Гордеев из параллельной группы не смог вытерпеть такого насилия над здравым смыслом. Он открыто выступил против практики бессмысленной зубрежки. Майор Станев, видимо, был рожден для конфликтов! Гордеев был круглым отличником с первого курса, получал повышенную стипендию, входил в состав профсоюзного комитета института. Шел на красный диплом. А тут такой казус. Майор упорно ставил ему «неуд» по своей орудийной специальности. Скандал тянулся год. Станев не слушал никаких доводов разума, а студент категорически отказывался выступать в роли попугая и отвечал материал своими словами. Скандал дошел до Министерства Обороны. Приехала комиссия. Майор отхватил выговор, а Гордеев «отлично».
Пару лет после окончания института я, будучи в отпуске, наведался в институт и встретил своего одногрупника. Он остался учиться в аспирантуре и преподавал на нашей бывшей кафедре. Мы сидели на лавочке возле главного корпуса и вспоминали студенческие времена. Вдруг мимо нас протрусил рысцой очевидно куда-то опаздывающий, майор Станев. Мне он показался похудевшим и каким-то «задавленным». На мой немой вопрос мой друг засмеялся и поведал мне историю, которая развлекала уже пол – года весь институт.
Майор, как и многие молодые офицеры военной кафедры, решил получить гражданскую специальность и учился в нашем институте на вечернем отделении. А его бывший «любимый студент» Гордеев преподавал ему «Детали машин», науку довольно сложную, изобилующую мудреными математическими выкладками.
– Пошел Станев к Гордееву в десятый раз курсовой проект сдавать!
Прокомментировал друг самочувствие и внешний вид Майора.
– Уже год за Гордеевым ходит!
Классическая иллюстрация к пословицам «Не рой другому яму…» и «Как аукнется…».
После окончанием курса военных наук и перед выездом на двухмесячные лагерные сборы, мы сдавали несколько экзаменов по военным специальностям. По каждому предмету было от 20-ти до 30-ти билетов. Предметы были довольно сложными, особенно устройство и принцип работы радиолокатора. Да и устройство танка, пушки и теория стрельб были не легче. Готовились мы к экзаменам в закрытых аудиториях с решетками на окнах. После занятий конспекты и наглядные пособия сдавались в секретную часть. Так что готовиться вне института было невозможно. Перед каждым экзаменом было три дня подготовки по шесть часов. Готовились мы двумя параллельными группами в одной аудитории. Народ занимался с ленцой, кто-то учил, а некоторые играли в карты, читали газеты, а то и спали. Я прикинул в уме ситуацию и обратился к коллективу с предложением: