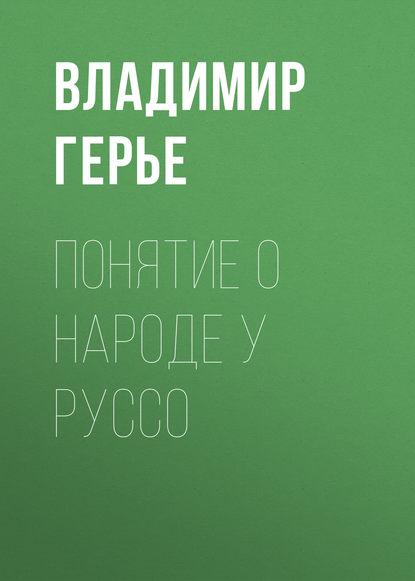 Полная версия
Полная версияПонятие о народе у Руссо
Но если Руссо в своих сочинениях нигде не делает прямых социалистических выводов из формулы «Общественного договора», он как бы вознаграждает себя за эту уступку разуму и уважению к действительности, обильно расточая ненависть и презрение против общества, в котором собственность играет такую роковую роль, в котором богач развращен и только бедняк добродетелен.
Очень метко замечание Сен-Марка Жирардена, что Руссо революционер не столько по своей доктрине, сколько по своим чувствам[80]. То же самое можно сказать по поводу его социализма; Руссо содействовал развитию социализма не столько своим учением, сколько теми чувствами, которые его одушевляли и которые он внушает другим. Как многих других, его сделали социалистом добрые и вместе с тем дурные чувства. Главное место между первыми занимает сострадание. Чувство сострадания (pitié), т. е. способность чувствовать чужие страдания, можно признать основанием всей этики Руссо. Оно в его глазах по преимуществу естественно присущее человеческой природе чувство; оно имеет даже еще более общее и всеобъемлющее значение, ибо его ощущают и самые животные; а с другой стороны, оно воздерживает человека от жестокого обращения с ними[81]. В человеческом же обществе сострадание является у Руссо источником всех благородных порывов и всех социальных добродетелей. «Что такое великодушие, милость, гуманность, – восклицает Руссо, – как не сострадание, примененное к виновным или к человеческому роду вообще? Даже любовь (bienveillance) и дружба, собственно говоря, результат постоянного сострадания, сосредоточенного на известном предмете, ибо желать, чтобы кто-нибудь не страдал, не значит ли желать, чтоб он был счастлив?»[82]
С другой стороны, одного сострадания, по мнению Руссо, достаточно, чтобы воздержать человека от всего дурного: «Пока он не будет противиться внутреннему голосу жалости, он никогда не причинит зла ни одному человеку, за исключением того законного случая, когда его собственная безопасность подвергается риску и он принужден дать себе предпочтение. Таким образом, – заключает Руссо, – сострадание, умеряя во всяком индивидууме себялюбие, содействует взаимному сохранению всего человеческого рода».
Признавая сострадание корнем нравственности и добродетели, выводя из этого начала нравственную солидарность людей, Руссо ставит постоянно сострадание в известный антагонизм по отношению к разуму, настаивая на том, что сострадание есть иррациональный элемент. Руссо не только повторяет, что сострадание предшествует разуму (est antérieur à la raison) и всякому размышлению, но что развитие разума ослабляет сострадание и может привести к уничтожению его. Сострадание основано на способности человека отождествлять себя с лицом страдающим; но эта способность, чрезвычайно сильная в естественном состоянии, суживается по мере того, как развивается в человеке способность размышлять и человечество вступает в период рационального развития (état de raisonnement). Разум порождает себялюбие, а размышление укрепляет его; оно заставляет человека замкнуться в себе; оно отделяет его от всего, что его тревожит и огорчает; философия изолирует человека; под ее влиянием он говорит себе втайне при виде страдающего человека: погибай, если хочешь, – я в безопасности.
Таким образом, Руссо понимает сострадание только как слепой инстинкт, который тем сильнее, чем меньше развит разум, чем слабее привычка размышления. Это сострадание не нуждается в просветлении разумом – оно, напротив, избегает его. Чем необразованнее общество, чем ближе человек к состоянию дикаря, тем живее в нем сострадание, и так как оно есть источник всех социальных добродетелей, то в интересах человечества желательно, чтобы развитие разума как можно меньше ему мешало. «Хотя Сократ и люди, подобные ему, – восклицает Руссо с некоторой иронией, – и были способны приобретать добродетель путем разума, однако человечество давно бы не существовало, если б его сохранение зависело от размышления людей»[83].
Это-то инстинктивное сострадание, не просветленное разумом и недоверчиво к нему относящееся, лежит в основании социологии Руссо; оно же нередко руководило им в его рассуждениях о богатстве и бедности.
Люди, по мнению Руссо, уговорились между собой устроить общество и государство, и по уговору возник народ; но отчего бы людям не уговориться, чтобы не было бедности и нищеты? Руссо первый внес чувствительное фантазерство в историю; он сделался основателем той особого рода историографии, которая видит в жизни народов только насилие и обман, порабощение и эксплуатацию, которая объясняет происхождение государства только из захвата власти и по мнению которой законы придуманы сильными и богатыми для того, чтобы держать в своей власти бедных и слабых. «Рассуждение» Руссо о происхождении неравенства есть основная мелодия, на которую социалистические историки писали только вариации, например Луи Блан и Маркс с их вольными и невольными подражателями. Как мало соответствовало такое страстное искажение истории в пользу пролетария не только научной истине, но и мудрому совету, который Руссо дает учителям в своем педагогическом трактате: «Научите вашего воспитанника любить всех людей, даже тех, которые относятся к ним с пренебрежением; ведите его так, чтоб он не причислял себя ни к какому классу, но умел бы себя узнать во всех; говорите пред ним о человеческом роде с умилением, даже с состраданием, но никогда с презрением. Человек не должен бесславить человека».
Ложный взгляд Руссо на происхождение общества имел своим последствием не только искажение истории, но и должен был привести к превратному представлению об отношениях богатых к бедным и о благотворительности. Если богатство есть результат насилия или обмана, если оно произошло от присвоения того, что должно было бы принадлежать всем, тогда не может быть речи о благотворительности; тогда всякая помощь, оказанная бедному, есть не что иное, как уплата долга, как возвращение чужого достояния; самое сострадание становится абсурдом, когда бедный имеет право не на сострадание к нему, а когда он может требовать дележа во имя права сильного. Такого, в сущности, взгляда держится Руссо, и замечательно, что он прорывается у него в «Эмиле», в сочинении, написанном с педагогическою целью, несколько лет спустя после «Рассуждения о неравенстве», и в то самое время, когда он в «Общественном договоре» признавал право собственности как одно из главных прав личности, гарантируемых государством. Указывая, каким способом лучше всего развивать в ребенке благотворительность, Руссо советует воспитателю делать это посредством влияния собственным примером и в то же время до известной поры лишать ребенка возможности помогать бедным, для того чтоб он не смешивал обязанностей ребенка с обязанностями взрослого. По этому поводу изложен следующий разговор между воспитателем и учеником, который расспрашивает его, почему он подает милостыню бедным: – «Друг мой, это потому, что, когда бедные захотели допустить, чтобы были богатые (quand les pauvres ont bien voulu qu'il y eût des riches), богатые обещали кормить тех, которые не могут содержать себя ни с помощью своего имущества, ни посредством труда». – «Значит, и вы тоже дали такое обещание?» – «Без сомнения; я владею тем имуществом, которое проходит через мои руки только на общем условии, которое присуще всякой собственности».
Можно очень усомниться в достоинстве совета, данного Руссо. Если бы какой-нибудь педагог действительно вздумал говорить таким образом с своим воспитанником, он бы навсегда убил в нем чувство сострадания и инстинкт благотворительности. Такие нравоучения могли бы только развить страх и расчет и содействовать установлению взгляда, высказанного некоторыми публицистами XVIII века, что бедные – враги государства и общественного порядка и меры благотворительности необходимы, чтоб обезопасить от них общество[84].
Но если проявившееся в упомянутых словах мнение Руссо, что богатые обязаны своим существованием доброте и терпению бедных, не могло иметь нравственного влияния на богатых, то оно должно было уже прямо развращающим образом подействовать на бедных и на всех тех, которые с большим или меньшим правом причисляли себя к ним в силу того, что их потребности и желания превышали их средства. А между тем именно этому классу людей было суждено играть большую роль во время событий, которые в значительной степени были подготовлены сочинениями Руссо. Последнему совершенно справедливо был сделан упрек, что никто не вселял столько надменности бедным и их политическим вождям, как он. Если, таким образом, даже добрые чувства, одушевлявшие Руссо, его чувствительность и сострадательность, в своем результате нередко вызывали ложные понятия и возбуждали злобные и антисоциальные инстинкты, то что сказать о дурных чувствах, которым слабая натура Руссо была, без сомнения, слишком легко доступна? Что сказать об его завистливости, неблагодарности, его щекотливом тщеславии, его мнительной подозрительности и болезненной мизантропии, постепенно развившейся до настоящей мании?
Исследовать, насколько эти чувства повлияли на ложные представления Руссо об обществе и о народе, – задача интересная для психолога, но неприятная для историка; к тому же она слишком далеко отклонила бы нас от предмета нашего исследования. Мы ограничимся здесь указанием на этот факт и приведем по этому случаю меткий и справедливый отзыв одного из современных французских критиков о влиянии Руссо. «В сочинениях Руссо нужно искать источник революционного и сентиментального жаргона; он дал общий тон и изобразил главные мотивы; этого было достаточно; концерт, можно сказать, шаривари, тотчас начался. Сетования, воззвания, крики злобы, стоны непонятых сердец, парадоксы и патетические тирады людей, не ужившихся на своем месте, театральные лоскутья, которыми драпируются болезненное тщеславие и страсти, не нашедшие себе предмета, – все это ведет свое начало от него; это он посеял в мире желчь»[85].
Таким образом, как видно из примера Руссо, одностороннее проявление чувства, болезненная чувствительность могут в двояком отношении послужить побуждением к разладу с современным обществом, к протесту против него. Протест может быть направлен против господства разума, против основанной на развитии разума и на знаниях культуры, против тех классов общества, куда проникла эта культура. С другой стороны, предметом протеста и антагонизма могут быть богатство и собственность и те классы общества, которые ими преимущественно обладают. С протестом обыкновенно идет рука об руку чувствительная идеализация таких состояний и классов, которые представляют противоположные черты, олицетворяют собой в известном смысле отрицание того, что вызывает протест. Так, с одной стороны, идеализируются живущие в естественном быту дикари, превозносятся эпохи первобытной культуры в жизни известного народа, представляются в поэтическом свете массы, которых мало коснулась современная культура. Все это – различные оттенки направления, которое принято называть романтизмом. С другой стороны, является идеализация бедности и бедных на счет богатых или вообще собственников. Отсюда особенное направление, которое хотя и не всегда доходит до определенных теоретических формул социализма – иногда даже враждует с ним (Мишле), – но подготовляет для него почву.
Это направление, не требуя вместе с социализмом отмены личной собственности во имя народной идеи, признает ее как роковой факт, но нравственно не вполне примиряется с ним, потому что видит в нем источник розни и раздвоения в народной жизни. Приверженцев этого направления можно назвать романтиками социализма. Теоретический социализм борется против собственности как общественного учреждения; романтический ограничивается идеализацией пролетариата. Понятно, что социальный романтизм представляет очень много точек соприкосновения с обыкновенным романтизмом. Романтики культуры враждуют против прогресса, цивилизации и против образования, потому что оно отрывает известный слой общества от народной массы; романтики социализма относятся враждебно к тому слою, который выделяется из массы посредством собственности. Оба направления переносят на предмет своего сочувствия нравственные преимущества, заимствованные из идеальных представлений. Как у романтиков народности отсутствие образования признается условием нравственного здоровья и добрых инстинктов, так у романтиков социализма богатство есть источник эгоизма и нравственной порчи, а бедность – залог нравственной чистоты, бескорыстия и самоотвержения. Оба направления сходятся в том, что создают искусственные категории в народе и возводят в принцип то различие, которое в жизни смягчается постепенностью явлений и постоянным передвижением.
Приверженцы одного романтизма искусственно обособляют людей, которым они ставят в упрек развитие разума (intelligence), и делают бранным термином то, что составляет естественную цель одного из благороднейших инстинктов, вложенных в человека природой. Сторонники другого романтизма еще более искусственно и насильственно выделяют в особый класс людей, обладающих собственностью, под именем буржуа, присоединяя к этому названию предосудительный оттенок и бросая, таким образом, тень на то, что составляет естественный плод главного корня общественного благосостояния – человеческого труда. Таким образом, оба эти направления извращают естественные отношения между различными классами общества и искажают нормальное представление о народе, которое дается правильным пониманием его, как исторического организма, и разумным отношением к действительности. Одно из этих направлений хочет видеть народ преимущественно в непросвещенной массе, в темном люде, а другое отождествляет бедных с народом.
Зародыши ложных направлений в представлениях о народе, которые мы отметили у Руссо, получили свое дальнейшее развитие в литературе, находившейся под его влиянием; особенно содействовали этому развитию события, сокрушившие старый порядок во Франции. Французская революция 1789 года вызвала к действительной жизни все эти призраки софистической мысли и ложно направленного чувства; они получили громадное влияние на самый ход революции и ярко отразились на главнейших событиях этого переворота.
Роль, которую ложные представления о народе играли во время революции, влияние, которое они имели на благородные увлечения и преступления той эпохи, были ясно поняты еще современниками и вынудили характерное признание у одного из самых решительных последователей политической теории Руссо и главного теоретика революционного движения во Франции… «Мнимый народ есть самый ожесточенный враг, которого когда-либо имел французский народ». Эти слова аббата Сиеса могли бы служить знаменательным эпиграфом к истории революции, и справедливость их подтверждается по мере того, как описание этого события освобождается из-под влияния страстей и становится предметом научного изучения.
Сноски
1
Contrat social. L. I. Ch. 5.
2
Ibid. Ch. 6.
3
Emile. L. V // Hachette. P. 252.
4
Contrat social. L. II. Ch. 1.
5
Ibid. L. III. Ch. 15.
6
Ibid. Ch. I.
7
Это проведено по всем главным сочинениям Руссо Сен-Марком Жирарденом в его книге: «J.-J. Rousseau etc.». См. также статью Каро в сочинении: «La fin du XVIII siècle».
8
Lettre de J.-J. Rousseau à Philopolis. Ouvres. T. VII. P. 246. Ed. 1790.
9
Discours sur l'inégalité. Ouvres. T. VII. P. 162.
10
Lettre à M. Grimm, I. P. 24.
11
Jugement sur la Polysynodie. Ouvres. T. II. P. 461.
12
Задолго еще до появления «Общественного договора» в своем «Рассуждении о неравенстве» Руссо выразил эту мысль следующим образом: «Свободу можно сравнить с крепкой и сочной пищей или с благородными винами, способными питать и подкреплять сильные, привычные к ним натуры, но которые удручают, губят и опьяняют слабые и нежные натуры, не созданные для этого» (Dédicace. P. 10).
13
Ouvres. – Изд. 1790. Т. VII. Р. 265.
14
Верную мысль, что реформы должны соответствовать историческому возрасту народа, Руссо подкрепил не особенно удачно примером России. По его словам, русский народ никогда политически не созреет (les russes ne seront jamais vraiment policés), потому что Петр Великий принялся слишком рано за его развитие. Развивая далее свою мысль, что большая часть преобразований Петра была неудачна и принесла вред, Руссо предсказывает падение России, которая будет поглощена татарами. Вольтер едко глумился над этим предсказанием и сравнил его с пророчествами одного распространенного альманаха Хромого Вестника. Но более любопытно то, что этою выходкой Руссо против Петра Великого счел возможным воспользоваться один современный русский публицист. Объясняя и защищая взгляд славянофилов на Петра Великого, г. Градовский заявляет («Национ. вопрос», с. 244): «Сказать ли, кто в этом отношении подает им руку? – Один из знаменитых общечеловеков XVIII века, Ж.-Ж. Руссо! Вот что говорит он в своем „Contrat social“: „Петр захотел делать немцев, англичан, когда нужно было делать русских: он помешал своим подданным навсегда сделаться тем, чем они могли бы быть, уверив их, что они то, чем они не были“». Эта цитата из Руссо утратила бы свою привлекательность для противников Петра Великого и они отреклись бы от такого союзника, если бы мнение Руссо было приведено целиком.
15
Contrat social. L. III. Ch. 10.
16
Morley. Rousseau. Vol. II. P. 186.
17
Contrat social. L. II. Ch. 8.
18
Disc. s. l'orig. de l'inég. Ouvres. Vol. VII. P. 11.
19
Так, например, Брандес, который подвел возродившееся литературное движение во Франции после революции под искусственную рубрику – «Литература эмигрантов» (Шатобриан, г-жа де Сталь, де-Местр и пр.), был принужден поставить во главе этих эмигрантов Руссо.
20
«C'est de lui que date chez nous le sentiment de la nature» (St. Beuve. Causeries III. Р. 65). Конечно, это замечание знаменитого критика верно только в условном смысле. Во французской литературе и задолго до Руссо можно встретить понимание природы и предпочтение села и земледельцев городу и горожанам, но такие восхваления природы проходили бесследно. Для примера укажем на Ла Брюера: «On s'élève à la ville dans une indifférence grossière des choses rurales et champêtres… on se contente de se nourrir et de s'habiller. Ne parlez pas à un grand nombre de bourgeois, ni de guérets ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains, si vous voulez être entendu; ces termes pour eux ne sont pas franèais; parlez aux uns d'aunage, de tarif, ou de sou pour livre, et aux autres de voie d'appel, de requête civile, d'appointement, d'évocation. Ils connaissent le monde et encore par ce qu'il a de moins beau et de moins spécieux; ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrés, ses dons et ses largesses… Il n'y a si VII. praticien qui au fond de son étude sombre et enfumée et l'esprit occupé d'une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos et qui fait de riches moissons; et, s'il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre, et de leur économie, il s'étonne qu'on ait pu vivre en de tels temps, où il n'y avait encore ni offices, ni commissions, ni présidents, ni procureurs» (ete. P. 155).
21
См. стихотворение Шиллера «Прогулка»:
Здравствуй, веселое поле, ты, шелестящая липа…Здравствуй и ты, синева, захватившая в мирный свой куполИ меня, который, бежав из комнаты душнойИ от пошлых речей, ищет спасенья в тебе…О, разомкнитесь же стены, дайте пленнику выход!Он спасен и бежит в лоно покинутых нив…Пер. Крешева в издании Гербеля22
«Rousseau est un homme de foi;… il croit à la nature comme on croit à l'Ecriture; il la voit sûrement, il l'interprète infailliblement; il reèoit directement la lumière qu'il renvoie sur le genre humain…» (Bersot. Введение к соч. Сен-Марка Жирардена о Руссо, стр. 16).
23
Стихотворение Шиллера – «Прогулка» – первоначально носило заглавие – «Элегия». Вообще, все ранние произведения Шиллера проникнуты меланхолическим оттенком в наслаждении природой. Карл Мор, глядя на закат солнца, заливается слезами и потом восклицает: «Было время, когда слезы мои так сладко лились… О, замок отцов моих, мечтательные долины!.. Горюй со мной, природа!»
24
«Il sentit dans son cDur une reconnaissance attendrie pour la nature» (P. Albert. La littérature franèaise, au XVIII sciècle. P. 225).
25
Emile. IV. Р. 69. Эту мысль почти буквально повторил Карл Мор: «Es ist doch eine so göttliche Harmonie in der seelenlosen Natur, warum sollte dieser Missklang in der vernünftigen sein?» В другом месте Руссо говорит: «Il y a un si bel ordre dans l'ordre physique et tant de désordre dans l'ordre moral, qu'il faut de toute nécessité, qu'il y ait un monde, où l'âme soit satisfaite…» (St. Beuve. Caus. T. VI. P. 349).
26
«En considérant l'homme tel qu'il a dû sortir des mains de la nature, je vois un animal moins fort que les uns, moins agile que les autres, mais à tout prendre organisé le plus avantageusement de tous». Сочувствие Руссо к животному состоянию человека предпочтительно перед культурным бытом, который делает человека злым, проявляется очень характерно: «Il ne faut point nous faire tant de la vie purement animale, ni la considérer comme pire état où nous puissions tomber, car il voudrait encore mieux ressembler à une brebis qu'à un mauvais ange» (Réponse à m-r Bordes, I. P. 52. Ed. Hach.).
27
Ouvres. Vol. VIII. P. 116.
28
«Le paradoxe sert toujours ainsi de tambour à la vérité et l'auteur s'arrange pour faire du bruit avant et afin de faire du bien». T. I. P. 49.
29
Disc. s. l'orig. de l'inég. Duv. Vol. VIII. P. 72.
30
Emile. L. V. Р. 243.
31
Correspondance. № 334.
32
Pourvu que le peuple ne se mêle pas de l'être.
33
Любопытно, что с противоположной стороны в апологии знания сошлись иезуиты с современными последователями Бокля, утверждающими, что нравственный прогресс обусловливается успехом наук и распространением реальных сведений в массе. Подобным же образом один иезуит доказывал в 1753 году, вопреки Руссо, что «любовь к наукам внушает любовь к добродетели».
34
По верному замечанию Сен-Марка Жирардена, в основании крайней демократии лежит идея, что власть принадлежит толпе, все равно, образованна ли она или невежественна (qu'il y a un droit dans la foule, qu'elle soit instruite ou qu'elle soit ignorante). С этой точки зрения образование есть нечто излишнее, ненужная, и часто даже опасная роскошь. С. 43.
35
Emile, IV. Р. 82.
36
Для примера укажем на страницы в мемуарах кардинала де Берни, где описаны наказания, которым он подвергался со стороны своего наставника-аббата.
37
Morley. Rousseau. Vol. I. P. 178.
38
Эта полемика Руссо по поводу орангутангов занимает несколько страниц в его примечаниях к «Рассуждению о неравенстве» (Duv. Vol. VIII. P. 209–213).
39
Ibid. P. 129–130.
40
Ibid. P. 92, 221, 116.
41
Ibid. P. 199.
42
Duv. Vol. VIII. P. 183.
43
Ibid. P. 92.
44
Emile. P. 244.
45
Ibid. P. 262.
46
Речь идет об оскорблениях, которым подвергались на улице дамы, одетые по тогдашней моде (Новая Элоиза. Ч. II, письмо 17).
47
Жизнь и собственные признания Руссо представляют интересный комментарий к этому положению его. Ему однажды г-жа Варенс поручила сопровождать в Лион своего наставника в музыке и друга Ле-Метра «и остаться при нем, пока тот будет нуждаться в его помощи». Там с музыкантом случился эпилептический припадок среди улицы, недалеко от их гостиницы. Руссо начал кричать, звать на помощь, назвал его гостиницу и умолял, чтоб его отнесли туда; потом, пока толпа хлопотала около больного, потерявшего сознание, Руссо воспользовался мгновением, когда никто не обращал на него внимания, завернул за угол улицы и скрылся из Лиона. «Таким образом, – прибавляет он, – Ле-Метр был покинут единственным другом, на которого он должен был рассчитывать» (Confess., I. Р. 1, 3, в конце). Отсюда видно, как справедливо замечает его биограф Морлей, что можно обладать большою чуткостью к звону колоколов, к пению птиц, к красоте прелестных садов – и в то же время быть способным без всякого укора совести покинуть друга, лишившегося чувств на улице в чужом городе (Morley. Vol. I. P. 56). Но отсюда видно также, сколько ханжества и декламации было в выходках Руссо против философов и просвещения, которое убивает будто бы в человеке хорошие инстинкты. Его дурной поступок с Ле-Метром, в котором он потом каялся, конечно, не был обусловлен избытком просвещения.

