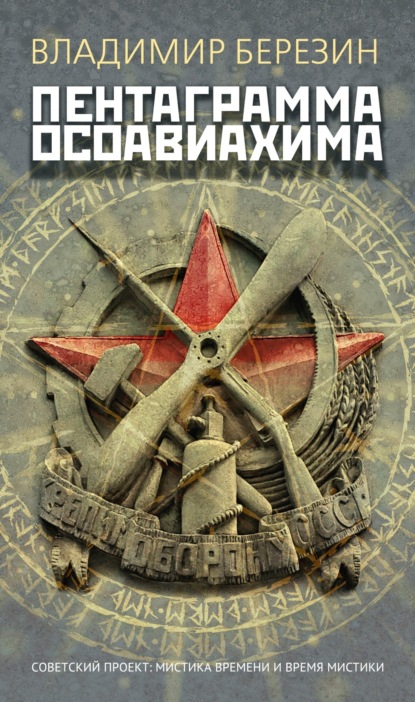
Полная версия:
Пентаграмма Осоавиахима
Они замолчали, слушая, как ухает и постанывает что-то в печной трубе.
– Я утром уйду, ты ребят не буди – лучше я в снег лягу: говорят, когда замерзаешь, не больно. Плохо быть маленьким кровяным тельцем. Или тельцом?
– Каким тельцом?
– Ты меня не слушай, это всё из книжек…
Тогда Минин схватил руку Ляпунова – мокрую и жаркую, и они так и заснули – рука в руке.
Минин проснулся поздно. Ляпунова уже не было, а два оставшихся мальчика, чумазых и печальных, что-то варили на печи. Они поняли всё без объяснений.
Они снова вышли на охоту, но в этот раз немецкий патруль оказался умнее, он расстрелял их, не дав приблизиться. Оба близнеца повалились в снег, одинаково держа руки за пазухой, где грелись пистолеты.
Минину пуля оцарапала бок, но прошла мимо тела, и он спокойно ждал, когда уедет немецкая разведка, и, только когда прошло полчаса, когда тарахтение мотоциклов давно утихло, уполз прочь, не приближаясь к убитым.
Вернувшись на чужую дачу, он нашёл табуретку и, встав, примерился к старым ходикам на стене.
Он попробовал провернуть стрелки вперёд, но они не поддавались, вот обратно они шли с охотой – а при движении в будущее только гнулись.
Он выпил кипятку с вареньем, что нашли да не доели близнецы, и попробовал ещё раз. Стрелки встали намертво, и он понял, что и его время кончилось.
Ляпунов был прав – город зачерпнул их пригоршней, и уже не выяснишь, из-за какой игры отобрали его, Минина. Может, мы просто слишком сильно любили этот город, подумал он, – но при чём тут близнецы?
Он одёрнул себя: много ли он знал о близнецах, ведь сейчас он не помнил даже их имён.
Минин услышал далёкий рокот мотора и, подхватив винтовку, выбрался из дома.
Там, на холме неподалёку, появился кургузый, будто игрушечный, танк. Минин прицелился и стал ждать, когда голова танкиста покажется над башней. Беззвучно отвалилась крышка, и через мгновение Минин выстрелил. Пуля ударила в броню и высекла длинную искру. Танк фыркнул мотором и начал сползать обратно, на другую сторону холма. Трещали разряды в радиотелефонах, доклад о боевом столкновении с передовой заставой русских ушёл командирам, обрастая другими сведениями, часто придуманными и противоречащими друг другу. Радиоволны сливались, шифровались и расшифровывались, для того чтобы печальный немец далеко-далеко от Москвы открыл под лампой дневник и записал на новой странице: «Противник достиг пика своей способности держать оборону. У него больше нет подкреплений».
В этот момент противник старого немца в далёком штабе встал и пошёл обратно, волоча винтовку по снегу, – но через минуту с танка разведки выстрелили в сторону деревни – наугад, без цели. Шар разрыва встал за спиной мальчика, и крохотный осколок, величиной с копейку, попал Минину в спину. Он упал на живот и ещё успел перевернуться на спину, сползая с дороги в канаву.
Холод схватил его за ноги – не тот зимний холод, к которому он привык, а особый и незнакомый. Сначала он схватил его за ступни, погладил их, поднялся выше, и вот Минин вовсе перестал чувствовать ноги.
И тут ему стало ужасно одиноко, потому что он знал, что мама не придёт, – они все звали маму, те, кто успевал. Теперь нужно было крепко терпеть, чтобы не заплакать.
Мороз усиливался, и ночь смотрела на него из-за стремительно летящих зимних облаков. Город жил где-то рядом, там, откуда должно было вылезти солнце, но повернуться к восходу уже не было никаких сил. Мир завис на краю, и чаши невидимых весов, где-то там, в вышине, в чёрном пространстве без звёзд, колебались: ходил вверх-вниз маятник, колебалась стрелка, чтобы потом показать, чья взяла.
Минин ждал, когда они встанут, как ждал результата контрольной: всё уже сделано, и переписать начисто уже не дадут.
Город был рядом, и Минину было лучше многих, умиравших в ту ночь: он знал, чем кончится дело, он знал ответ в конце задачника.
Минин прожил ещё несколько долгих часов, пока не услышал нарастающий шум. Это с востока в темноте шло слоновье боевое стадо.
Танки шли, поводя хоботами и перемаргиваясь фарами. Минин ещё успел ощутить запах гари и двигателей, и лучше запаха не было на земле. Вдыхая в последний раз этот морозный воздух, становясь частью снега и льда близ Москвы, он почувствовал, как окончательно слился со своим городом.
(голем)
Голем шёл, не зная преград, послушный единой воле своего создателя, всё снося, всё сокрушая на своём пути.
Елена Рерих. Письма в Европу (1931–1935)Восстание догорало. Его дым стлался по улицам и стекал к реке, и только шпиль ратуши поднимался над этим жирным облаком. Часы на ратушной башне остановились, и старик с косой печально глядел на город.
Восстание было неудачным, и теперь никто не знал почему. Эта кровь становилась хлебом для историков будущего. Так или иначе, чёрные танки вошли в город с трёх сторон, и битый кирпич под их гусеницами хрустел, как кости.
Капитан Раевский сидел в подвале вторые сутки. Он был десантником, превратившимся в офицера связи.
Раевский мог бы спуститься с остальными в сточный канал, но остальные – это не начальство. Остальные не могли отдать ему приказ, это был чужой народ, лишённый чёткой политической сознательности. Капитан Раевский служил в Красной армии уже четыре года и, кроме ремесла войны, не имел в жизни никакого другого. Он воевал куда более умело, чем те, что ушли по канализационным коллекторам, – и именно поэтому остался. Он ждал голоса из-за реки, где окопалась измотанная в боях армия и глядела в прицелы на горящий город.
Приказа не было три дня, а на четвёртый, когда радист вынес радиостанцию во дворик для нового сеанса связи, дом вздрогнул. Мина попала точно в центр двора. От рации остался чёрный осколок эбонитового наушника, а от радиста – куча кровавого тряпья.
Теперь нужно было решать что-то самому. Самому, одному.
До канала было не добраться, и вот он лез глубже и глубже в старый дом, вворачиваясь в щели, как червяк, подёргиваясь и подтягивая ноги.
Грохот наверху утихал.
Сначала перестали прилетать самолёты, потом по городу перестала работать дальнобойная артиллерия – чёрные боялись задеть своих.
Но разрывы приближались: видимо, чтобы экономить силы и не проверять каждую комнату, чёрные взрывали дом за домом.
У Раевского был английский «стен», сработанный в подпольных мастерских из куска водопроводной трубы. Он так и повторял про себя: водопроводная труба, грубый металл, дурацкая машинка, – но к «стену» было два магазина, и этого могло хватить на короткий бой. Застрелиться из него, правда, было бы неудобно.
И вот Раевский начал обследовать подвал. На Торговой улице дома были построены десять раз начерно, и на каждом фундаменте стоял не дом, а капустный кочан: поверх склада строился магазин, а потом всё это превращалось в жильё. Прошлой ночью он нашёл дыру вниз, откуда слышался звук льющейся воды – но это было без толку: там, среди древних камней, звук был, а влаги не было. Там могла течь вода из разбитого бомбами водопровода или сочиться тонкий ручеёк древних источников.
Так на его родине вода текла под слоем камней, и её можно было услышать, но нельзя пить.
Вода у него кончилась ещё вчера.
И вот он искал хоть что-то, чтобы не сойти с ума. Раевский начинал воевать у другой реки и, сидя два года назад в таком же разбитом доме, понял, что жажда выгонит его под пули.
Жить хотелось, но воды хотелось больше. Это было то, что называлосьжажда жизни, и Раевский, выросший у большой реки посреди Сибири, знал, что без воды ему смерть. Он боялся жажды, как татарина из своего давнего кошмара.
Про татарина ему рассказала старая цыганка, которую он встретил по дороге на войну. Цыганка сидела на рельсах с мёртвым ребёнком на руках.
– Тебя убьёт татарин, – сказала цыганка Раевскому, когда он остановился перед ней на неизвестном полустанке с чайником в руке.
– Тебя убьёт татарин, – повторила цыганка. Один глаз у неё был закрыт бельмом величиной с куриное яйцо, а другой, размером с пуговицу, смотрел в сторону. Она сказала это и плюнула в мёртвый рот младенца. Младенец открыл глаза и улыбнулся.
После этого цыганка потеряла к Раевскому интерес.
Эшелон тронулся, но Раевский, слушая, как стучат колёса, ругался на глупую старуху до самого вечера. Он видел настоящего татарина только раз – когда в детстве оказался с отцом на Волге.
Детство не кончалось, и мальчику не было дела до службы отца. Отец, когда их пароход, шлёпая колёсами, подвалил к неизвестной пристани, сошёл, чтобы передать кому-то бумагу, важную и денежную.
Мальчик ёжился на весеннем ветру, вода стояла серым весенним зеркалом, и протяжно выл над городом муэдзин.
Едва отец отлучился, как из толпы на дебаркадере выпрыгнул татарчонок, сорвал с Раевского шапку, нахлобучил на него свою тюбетейку и побежал. Кто-то свистнул, дробно захохотал, а сердобольная баба сказала:
– У них праздник. Надо было бы побежать тебе, догнать, – это ведь игра, мальчик. А теперь с чужой шапкой, что с чужой судьбой, будешь жить.
Но догонять было уже некого и бежать некуда.
Раевский долго вспоминал потом детскую обиду. Помнил он и предсказание цыганки, гнал его от себя – правда, с тех пор не брал татар в свою группу.
Он никому не рассказывал об этой истории, потому что солдаты не должны знать о слабости своего командира, особенно если это командир Красной армии. В марте он столкнулся с татарами, что служили в эсэсовском полку. Он дрался с ними в лесах Западной Белоруссии – где мусульманский полк обложил партизан. Группу Раевского выбросили туда с парашютом, и уже через час она вела бой. Пули глухо били в сосны, и последний мартовский снег сыпался с ветвей на чёрные шинели. Раевский пробыл там три дня и все три дня был покрыт смертным потом, противным и липким, несмотря на холод мартовского леса. Когда на третий день пуля вошла в его плечо, он решил, что жизнь пресеклась. Смерть его была – татарин в той эсэсовской шинели.
Татарин без лица мерещился ему несколько раз, но всегда превращался в усталую фигуру медсестры или своих бойцов, которые тащили его на себе. Всё это прошло, а теперь жизнь кончалась по-настоящему, хотя ни одного татарина рядом и не было. Нет, он знал, что среди чёрных людей, что медленно сейчас сжимают кольцо, есть и Первый Восточно-мусульманский полк СС, но вероятность встречи с татарином без лица считал ничтожной.
Капитан полз по соединяющимся подвалам, шепча простые татарские слова, которых в русском языке то ли пять, то ли целая сотня.
Так он попал в соседнее помещение, где нашёл множество истлевшей одежды, горы мышиного помёта и гниль, вывалившуюся из трухлявых сундуков.
Разбитые сосуды были похожи на рассыпанные по полу морские раковины.
Раевский видел старинные книги, слипшиеся в плотные кирпичи. Бесполезная ржавая сабля звякнула у него под ногой. Но он нашёл главное – в опрокинувшемся шкафу Раевский обнаружил бутылку вина. Он тут же вскрыл её медным ключом, найденным на полке. Вино оказалось сладким, как варенье, и склеило гортань. Раевский забылся и не сразу услышал голос.
Голос был сырым – как старый горшок в подполе.
Этот голос был глух и пах глиной.
Голос уговаривал не спать, потому что мало осталось времени. Раевский понимал, что это бред, но на всякий случай подтянул к себе ствол, сделанный из водопроводной трубы.
Это был не бред, это был кошмар, в котором над ним снова склонился татарин без лица.
– Кто ты? Кто ты? – выдохнул лежащий на полу.
– Холем… – дохнул сыростью склонившийся над Раевским. – Меня зовут Холем или просто Хольм. Немцы часто экономят гласные, а Иегуди Бен-Равади долго жил среди немцев.
Это был хитрый и умный человек – ходили слухи, что он продал из календаря субботу, потому что она казалась ему ненужным днём. Часто он посылал своего кота воровать еду, и все видели, как чёрный кот Иегуди Бен-Равади бежит по улице с серебряным подносом.
Один глаз Бен-Равади был величиной с куриное яйцо и беспокойно смотрел по сторонам, а другой, размером с пуговицу от рубашки, – повёрнут внутрь. Говорили, что этим вторым глазом Бен-Равади может разглядывать оборотную сторону Луны, а на ночь он кладёт его в стакан с водой.
Именно он слепил моё тело из красной глины и призвал защищать жителей города, потому что во мне нет крови и мяса. Во мне нет жалости и сострадания, я равнодушен, как шторм, и безжалостен, как удар молнии. Но я ничто без пентаграммы, вложенной в мои уста книжником Бен-Равади.
Раз в двадцать лет я обходил дозором город.
Но однажды началось наводнение, и река залила весь нижний город до самой Торговой улицы. Ночные горшки плыли по улицам стаями, как утки, в бродячем цирке утонул слон, и вот тогда вода размочила мои губы. Пентаграмма выпала, и я стал засыпать. Теперь пентаграмма греется в твоей руке, я чувствую её силу, но уже не слышу шагов моего народа. Нет его на земле. Некому помочь мне, я потерял свой народ.
Раевский сжал в руке ключ с пятиугольной пластиной на конце.
– Да, это она. – Холем говорил бесстрастно и тихо. – Ключ ко мне есть, но мне некого больше охранять. Жители города превратились в глину и дым, а я не смог их спасти. А теперь скажи: чего ты хочешь? Скажи мне, чего ты хочешь?
Раевский дышал глиняной влагой и думал, что хочет жить. Он хотел пить, но знал, что это не главное. Нет, ещё он, конечно, хотел смерти всем чёрным людям в коротких сапогах, что приближаются сейчас к дому. Он хотел смерти врагу, но больше всего он хотел жить.
Капитан Раевский воевал всю свою осознанную жизнь и был равнодушен к жизни мирной. Много лет он выжигал из себя человеческие слабости, но до конца их выжечь невозможно. Хирургического напряжения войны хватало на многое, но не на всё. Жить для того, чтобы защищать, – вот это годилось, это вщёлкивалось в его сознание, как прямой магазин «стен-гана» в его корпус. Тогда он свинтил орден со своей груди.
Рубиновая звезда легла в глиняную руку, а человеческая рука сжала медную табличку.
Двое обнялись, и Раевский почувствовал, как холодеют его плечи и как нагревается тело Холема. Тепло плавно текло из одного тела в другое, пока глиняный человек читал заклинания.
И вот они, завершая ритуал, зажали в зубах каждый свой талисман.
Чёрные люди, стуча сапогами по ломаному камню, в это время миновали старое кладбище, где могилы росли, как белая плоская трава. Они обогнули горящую общину могильщиков и вошли во двор последнего уцелевшего дома на Торговой улице.
Последнее, что видел Раевский, застывая, был Холем, идущий по двору навстречу к людям в чёрных мундирах. Когда кончились патроны, Холем отшвырнул ненужный автомат и убил ещё нескольких руками, пока взрыв не разметал его в стороны.
Но Раевский уже не дышал и спал беспокойным глиняным сном.
В этих снах мешались ледоход на огромной реке и маленькая лаборатория, уставленная ретортами. Иегуди Бен-Равади поднимал его за плечи и вынимал из формы, словно песочный детский хлебец. Сон был упруг, как рыба, скользил меж пальцев, и вот уже глиняный человек видел, как его создатель пьёт спитой чай вместе со старухой в пёстрой шали. Нищие в этом сне проходили, стуча пустыми кружками, по улице, один конец которой упирался в русскую тайгу, а другой – в Судетские горы. Глиняный человек спал, надёжно укрытый подвальной пылью и гнилым тряпьём, спасённый своим двойником и превратившийся в одно целое с ним. Он спал, окружённый бутылями с селитрой и углём, не ставшими порохом, а вокруг лежали старинные книги, в которых все буквы от безделья перемешались и убежали на другие страницы.
Он проснулся через двадцать лет от смутного беспокойства. Он снова слышал лязг танковых гусениц и крики толпы.
Глиняный человек начал подниматься и упёрся головой в потолок. Он увидел, что оконце давно замуровано, но подвал ничуть не изменился. Ему пришлось сломать две стены, чтобы выбраться на свет. Миновав двор со странной скульптурой из шаров и палок, он выбрался на улицу. Глиняный человек не узнавал города, он не узнавал людей, сразу кинувшихся от него врассыпную. Но он узнал их гимнастёрки, погоны и звёзды на пилотках. Он узнал звёзды на боевых машинах, что разворачивались рядом, и, ещё не понимая ничего, протянул к ним руки.
Глиняный человек стоял в пустоте всего минуту, и летний ветер выдувал из него сон. Но в этот момент танк старшего сержанта Нигматуллина ударил его в бок гусеницей. Медный пятиугольный ключ выскочил изо рта, и глиняное время остановилось.
Голем медленно превращался в прах, осыпаясь сухим дождём на булыжник. Он обвёл взглядом людей и улицы, успев понять, что умирает среди своих, свой среди своих, защищая свой город от своих же… Всё спуталось наконец.
Глину подхватил порыв августовского ветра и понёс красной пыльной тучей над крышами.
Туча накрыла город пеленой, и всё замерло. Только старик на городских часах одобрительно кивал головой. Старик держал в руках косу и очень обижался, когда его, крестьянина, называли Смертью.
Какая тут смерть, думал старик, когда мы просто возвращаемся в глину, соединяясь с другими, меняясь с кем-то судьбами, как шапками на татарском празднике.
(станция)
Не помню, как меня везли первую станцию.
А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в МосквуЛейтенант (впрочем, сперва он был не лейтенантом, а младшим лейтенантом, да и в семье всегда стоял самым младшим) попал в училище в переходное время. Великая война давно кончилась, но теперь набухала снова, как чёрная туча. И это было после сокращения армии, о котором писала каждая газета.
«Мильон двести», – шептались курсанты.
«Мильон двести», – поджимали губы преподаватели.
«Мильон двести», – писали в газетах. На миллион двести тысяч человек сократили армию, и рядом с училищем в половину стены пятиэтажки нарисованный советский солдат спрашивал американского: «Я своё отслужил, а ты?»
Но больше всего он страдал от того, что опоздал на ту, окончившуюся и великую, войну – опоздал на целое поколение. После девятимесячных офицерских курсов он попал в инженерное училище.
Однако в его училище все преподаватели были с боевыми медалями, а кто – и с орденом. И они были в его глазах богами.
А вот у него не обнаруживалось на гимнастёрке ничего, кроме комсомольского значка.
Главное завершилось тогда, в сорок пятом, и оно прошло мимо. Из этого прошлого у него ничего не было – можно было только мечтать, как стоял бы у сложного прибора управления огнём ПУАЗО и крутил колёсики счётной машины. Зенитная батарея отразила бы налёт, и вот перед строем ему вручают Красную Звезду, хороший боевой орден. Но ничего этого не было и быть не могло – к тому же он много разного уже видел в жизни, и романтика из его души успела испариться. Но другие надежды в ней ещё жили – на великую силу человеческой техники, на тот разум, который заставляет ткать из электронов изображения на зелёном экране, на могущество науки, которое переворачивает землю.
Раньше был сталинский план преобразования природы – все эти лесозащитные полосы, водоёмы, каналы, рукотворные моря и плотины, – эти никогда не виданные им сооружения он должен был защищать от чужой враждебной силы.
Каждый день в коридоре училища он видел огромную карту с гидроэлектростанциями, красными нитками линий электропередачи, и над всем этим простирал руку человек в белом кителе. Но теперь этот человек только просвечивал сквозь наклеенный новый портрет. На портрете был изображён новый вождь и руководитель, и такой же, только поменьше, кусочек ватмана с новым названием был наклеен на город Сталинград.
Но это была – родина.
Над бело-золотой картой могли появиться чужие самолёты или хищные ракеты и капнуть чёрным в любое место. И тогда чёрная атомная клякса растечётся по крохотным кубикам, обозначающим Тахиа-Ташскую гидростанцию и Главный Туркменский канал, или по синей глади Сталинградского моря (Сталинградское море тоже было заклеено и превращено чёрной тушью в Волгоградское) или попадёт на Ереванский каскад, спрятавшийся среди коричневого цвета Кавказских гор.
Мир был прост и понятен, он подчинялся общим законам и воле вождя, прежнего или нынешнего, весь – от Каховки, где тоже шло электрическое строительство, до Молотовской (это тоже было закрашено) ГЭС, которая была где-то здесь, хоть и южнее той станции, куда ему предстояло ехать.
Пропасть в болоте армейской ненужности выпускник не боялся, специальность у него была радиотехническая, а значит, необходимая. По ночам ему снились генераторы импульсов, огромные лампы: одни – с водяным охлаждением, другие – с воздушным. И он научился разговаривать с лампой по имени ГИ–24Б, как с живым человеком. Материализму это не мешало.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

