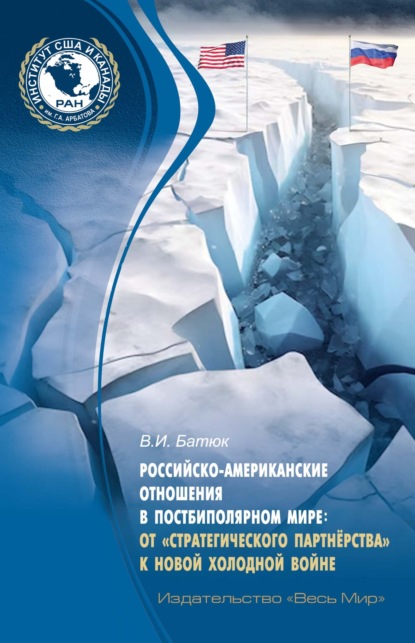
Полная версия:
Российско-американские отношения в постбиполярном мире: от «стратегического партнёрства» к новой холодной войне
И в дальнейшем сохранялось несовпадение взглядов Москвы и Вашингтона на российско-американские отношения. Так, например, в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой в 1997 году, сказано: «Российская Федерация будет продолжать развитие конструктивного партнёрства с Соединёнными Штатами Америки, Европейским Союзом, Китаем, Японией, Индией и другими государствами. <…> Непременным условием реализации внешнеполитических усилий России должно стать создание обращённой в XXI век модели обеспечения глобальной, региональной и субрегиональной безопасности, основанной на принципе равенства и неделимой безопасности для всех. Это предполагает создание принципиально новой системы европейско-атлантической безопасности, в которой координирующую роль играет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; наращивание усилий по созданию многосторонних структур, обеспечивающих сотрудничество в сфере международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Азии»[14].
В том же году президент США У. Клинтон утвердил Стратегию национальной безопасности, в которой говорилось не о равенстве и «неделимой безопасности для всех», а об американском лидерстве («Американское лидерство и участие в мировых делах жизненно важны для нашей безопасности, и в результате мир становится более безопасным местом»)[15]. Что касается европейской безопасности, то, по мнению составителей данного документа, ведущую роль в обеспечении общеевропейской безопасности должна играть не ОБСЕ (как полагали в Москве), а НАТО. «НАТО остаётся фундаментом американского участия в Европе и стержнем трансатлантической безопасности. Будучи гарантом европейской демократии и опорой европейской стабильности, НАТО должна играть ведущую роль в продвижении более интегрированной и безопасной Европы, готовой реагировать на новые вызовы»[16].
Правда, в клинтоновской Стратегии национальной безопасности (СНБ-1997) Россия упоминалась, но лишь в контексте западной помощи «развивающимся демократиям» на постсоветском пространстве: «Мы должны продолжать руководить усилиями по мобилизации международных экономических и политических ресурсов, как это было с Россией, Украиной и другими новыми независимыми государствами»[17].
Судя по СНБ-1997, американская сторона собиралась контролировать и внутриполитическое, и экономическое развитие этих стран, включая и РФ: «Мы должны предпринять решительные действия, чтобы помочь противостоять попыткам обратить демократию вспять. <…> Мы должны предоставить демократическим странам все преимущества международной экономической интеграции. <.> Мы должны помочь этим странам укрепить основы гражданского общества, поддерживая программы отправления правосудия и верховенства права, содействуя развитию демократических гражданско-военных отношений и обеспечивая подготовку в области прав человека для полицейских и сил безопасности»[18]. Очевидно, с получателями экономической помощи и учениками в западной школе демократии вряд ли кто-нибудь будет вести равноправный диалог.
Это несовпадение российских и американских ожиданий от развития российско-американских отношений в постбиполярном мире стало особенно заметным во второй половине 1990-х годов, когда чётко проявились различия в подходах Москвы и Вашингтона к таким международным проблемам, как расширение НАТО на восток и ситуация в бывшей Югославии. Хотя о возможности вступления РФ в НАТО Москва заявила ещё в октябре 1993 года, в Вашингтоне никогда не рассматривали это всерьёз. Так, например, президент У. Клинтон полагал, что идея членства России в Североатлантическом альянсе «витает в заоблачных высотах»: «Если и настанет день, когда Россия вступит в НАТО, очевидно, что это будет совершенно другая Россия, другая НАТО и другая Европа»[19].
Во время официального визита У. Клинтона в Россию в январе 1994 года президент Б. Н. Ельцин был вынужден согласиться с неизбежностью расширения НАТО (о чём президент США заявил в ходе пресс-конференции с членами Вышеградской группы 12 января 1994 года), но при этом поставил вопрос перед своим американским гостем о том, что «Россия должна быть первой страной, вступившей в НАТО», после чего, по мнению Б. Н. Ельцина, за ней последуют другие государства Центральной и Восточной Европы. В ответном слове У. Клинтон заявил о «величии России», но о членстве России в НАТО не сказал ничего[20].
Дав понять русским, что о членстве в Североатлантическом альянсе нечего и мечтать, американцы в то же время взяли курс на расширение НАТО за счёт бывших социалистических государств на востоке Европы и даже постсоветского пространства. Как говорилось в СНБ-1997, «новые демократии в Центральной и Восточной Европе также играют ключевую роль. Возможная интеграция в европейские организации безопасности и экономики, такие как НАТО и ЕС, поможет зафиксировать и сохранить впечатляющий прогресс, достигнутый этими странами в проведении демократических и рыночных экономических реформ»[21].
В данном конкретном случае слова Вашингтона не разошлись с делами. Два года спустя, в ходе юбилейного саммита Североатлантического альянса в 1999 году, было принято решение о приёме в НАТО трёх стран Центральной и Восточной Европы – Польши, Венгрии и Чехии.
Это решение было воспринято в Москве крайне негативно – как нарушение обязательств о нерасширении НАТО на восток, которые были предоставлены западными лидерами ещё М. С. Горбачёву[22].
На наш взгляд, лучше всего позицию тогдашнего вашингтонского истеблишмента по вопросу о необходимости расширения НАТО на восток выразил Зб. Бжезинский в своей книге «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» (The Choice: Global Domination or Global Leadership): «Расширение ЕС и НАТО является логическим и неизбежным результатом благоприятного исхода холодной войны. После исчезновения советской угрозы и освобождения Центральной Европы от советского господства сохранение НАТО в качестве оборонительного союза против уже несуществующей советской угрозы не имело бы никакого смысла. <…> У Европейского Союза и НАТО нет выбора: чтобы не утерять приобретённые в холодной войне лавры, они вынуждены расширяться». При этом, как пишет Зб. Бжезинский, «совершенно невероятно, чтобы в ближайшем будущем, например, в течение десяти лет, Россия стала членом НАТО»[23].
Следует отметить, что к концу 1990-х годов такого рода триумфалистские настроения возобладали в политических кругах США, а голоса тех американских экспертов-международников, которые предупреждали об опасностях расширения Североатлантического альянса на восток, становились всё глуше и глуше[24].
Другим серьёзнейшим вызовом российско-американским отношениям стали события в бывшей Югославии. Вмешательство Соединённых Штатов в югокризис с самого начала вызвало неоднозначную реакцию в Москве. Так, во время своего визита в Вашингтон в марте 1994 года делегация Государственной Думы РФ имела встречу и беседу с министром обороны США У. Перри. В ходе беседы российская сторона выразила неудовольствие по поводу американских бомбовых ударов по позициям боснийских сербов, а также относительно нежелания американской стороны вести диалог с Москвой по боснийской проблеме. Тем не менее стороны пришли к общему мнению о необходимости скорейшего прекращения конфликта в Боснии и к желательности российско-американского диалога по данному вопросу[25]. Как известно, вооружённый конфликт в Боснии и Герцеговине был урегулирован в результате Дейтонских соглашений, которые были заключены в Дейтоне (США) в ноябре 1995 года президентом Боснии и Герцеговины А. Изетбеговичем, президентом Сербии С. Милошевичем и президентом Хорватии Ф. Туджманом при участии стран-гарантов: США, России, Германии, Великобритании и Франции.
Но вот решение США и их союзников по НАТО применить силу в отношении Сербии в связи с событиями в Косово в 1999 году вызвало гораздо более жёсткую реакцию со стороны Москвы. Дело дошло до беспрецедентного «разворота над Атлантикой» самолёта с российской делегацией во главе с председателем Правительства России Е. М. Примаковым, летевшей в Вашингтон на сессию российско-американской Комиссии по торгово-экономическим вопросам, после того как стало известно о начале воздушного наступления США и их союзников по НАТО против Белграда[26].
Следует отметить в этой связи, что в региональной сфере российско-американских отношений на протяжении 1990-х годов был демонтирован даже тот маломощный механизм двусторонних регулярных консультаций глав региональных департаментов внешнеполитических ведомств двух стран, который был сформирован ещё в 1980-е годы. Созданные же на протяжении 1990-х годов многосторонние механизмы кризисного регулирования (такие как Совместный постоянный совет Россия – НАТО, Контактные группы по Боснии и Косово) оказались не совсем подходящими структурами для взаимодействия Москвы и Вашингтона по региональным проблемам. Вот почему любые разногласия между РФ и США по вопросам урегулирования региональных кризисов (а их на протяжении 1990-х годов было немало – бывшая Югославия, Ирак, постсоветское пространство) обрушивались на Россию и США как гром среди ясного неба, сразу становясь серьёзным вызовом российско-американским отношениям в целом: стороны были лишены возможности на ранней стадии регионального конфликта изложить друг другу взаимные претензии и выработать взаимоприемлемый компромисс ещё до того, как этот конфликт нанесёт серьёзный ущерб взаимоотношениям РФ и США.
И в Москве, и в Вашингтоне начало накапливаться разочарование и взаимное раздражение. Вот цитата из доклада экспертной группы по России Палаты представителей Конгресса США (где тогда доминировали республиканские неоконсерваторы), опубликованного в сентябре 2000 года: «Восемь лет спустя после того, как Россия заявила о стремлении создать формальный союз с США, её внешняя политика регрессировала до доперестроечного уровня холодной войны. <…> Российское правительство активизировало своё противодействие расширению НАТО и рьяно пытается ослабить связи между США и их партнёрами по НАТО в Европе. Политика России в последнее время возрождает предложения советской поры о замещении нынешней системы безопасности, в основе которой лежит Североатлантический альянс, на новую панъевропейскую систему безопасности»[27].
В свою очередь разочарование относительно итогов развития российско-американских отношений в 1990-е годы испытывали и в России. Вот что писал видный российский американист А. И. Уткин в 2000 году: «Ещё более резким, чем объективные процессы и субъективные изменения в США, явилось изменение видения, настроений и позиции Москвы, воспринимавшей Соединённые Штаты в 1991–1993 годах как модель, донора, друга. Обобщённо говоря, Россия почувствовала себя дискредитированной своими жертвами 1988–1991 годов, отвергнутой в качестве привилегированного партнёра. Её претензии на особые отношения с США оказались дезавуированными»[28].
Такой итог развития взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном на протяжении 1990-х годов представляется вполне закономерным. С самого начала у российской стороны были явно завышенные ожидания относительно характера и интенсивности российско-американских отношений. Москва рассчитывала на то, что она и после распада СССР сохранит свой статус «равноправного партнёра» Соединённых Штатов – но при этом станет полноправным членом НАТО и ЕС и получит вдобавок обширную экономическую помощь в рамках некоего «плана Маршалла номер два». При этом считалось само собой разумеющимся, что ни США, ни их союзники по НАТО не будут препятствовать российским интеграционным усилиям на постсоветском пространстве.
У Вашингтона, однако, были совершенно иные представления о месте и России, и российско-американских отношений среди приоритетов американской внешней политики в постбиполярном мире. Как отметил американский исследователь Р. Асмус, за риторикой равенства и дружбы скрывалась неоспоримая реальность огромного неравенства в силе и статусе. Россия больше не была той сверхдержавой, которая бросила вызов Соединённым Штатам в разгар холодной войны, и это был даже не приходящий в упадок, но демократизирующийся Советский Союз Михаила Горбачёва. Москва часто чувствовала, что её не уважают, и заявляла, что её интересы и приоритеты не учитываются должным образом. Со своей стороны Соединённые Штаты были готовы сотрудничать только (по словам С. Тэлботта) в том, что «считали законными проблемами безопасности [России], а не во всём, что русские считали важным»[29].
1.2. Военно-стратегическая сфера российско-американских отношений (1992–1999 годы)
Военно-политические проблемы занимали первое место в повестке дня советско-американских отношений на всём протяжении холодной войны, о чём можно сделать вывод хотя бы на основе того факта, что из 162 советско-американских межправительственных и межгосударственных соглашений и договорённостей, заключённых в 1951–1991 годах, 62, то есть свыше 1/3, были посвящены контролю над вооружениями.
Сформированный двумя сверхдержавами режим контроля над стратегическими вооружениями был по-своему уникален. Как указывал бывший начальник 4-го ЦНИИ МО РФ, генерал-майор В. З. Дворкин, «достигнутый уровень взаимной транспарентности, закреплённый в Договоре СНВ-1, не имеет аналогов во взаимоотношениях стран-союзниц, не говоря уже о других. <…> В области СНВ Россией и США за десятилетия накоплена и закреплена на практике огромная понятийно-юридическая база, содержащая все детали – от терминов, определений и согласованных заявлений до практически отлаженной системы инспекций»[30].
На рубеже 1980–1990-х годов в американских правящих кругах пришли к твёрдому убеждению, что имевшаяся в то время американская ядерная стратегия больше не соответствует ни международным реалиям, ни национальным интересам Соединённых Штатов. Окончание холодной войны, распад СССР, с одной стороны, открыли перед Соединёнными Штатами беспрецедентные возможности по снижению ядерной угрозы, а с другой – создали новые вызовы стратегической стабильности.
Ведь одним из последствий распада СССР на территории бывших союзных республик, внезапно ставших новыми независимыми государствами, оказалось огромное количество ядерных боезарядов и стратегических носителей. Так, на территории Украины на момент распада Советского Союза имелось 176 межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения (МБР с РГЧ ИН) и 40 тяжёлых бомбардировщиков, 1500 стратегических боезарядов, что было намного больше, чем у таких объявленных ядерных государств (ОЯГ), как Великобритания, Китай и Франция, вместе взятые. А на территории Казахстана в 1992 году оказалось 104 ракеты РС-20 (SS-18) с 1040 головными частями РГЧ ИН. Нужно было каким-то образом решать и эту проблему[31].
В начале 1990-х годов в Москве также решили, что российские ядерные арсеналы в условиях, сложившихся в мире после окончания холодной войны, невообразимо велики и должны быть сокращены. Что касается унаследованного Россией колоссального советского ядерного потенциала, то последний считался досадным пережитком периода биполярной конфронтации, подлежащим неуклонному сокращению – как по политическим, так и по чисто экономическим причинам. Как отметил в интервью российскому телевидению и газете «Известия» президент Б. Н. Ельцин, в годы холодной войны «сверхдержавность определялась количеством ядерного оружия». «Мы хотим изменить ситуацию так, чтобы всё-таки первичной была жизнь людей. <…> Надо идти не односторонне, а паритетно на глубокое сокращение ядерного оружия. Мы не можем позволить себе, чтобы бедствовали люди из-за ядерных боеголовок», – подчеркнул президент[32].
Руководствуясь этими соображениями, и Вашингтон, и Москва в начале 1990-х годов сохранили доставшиеся по наследству от периода разрядки режимы контроля над стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями и, кроме того, выступили на рубеже 1991–1992 годов с целым рядом разоруженческих инициатив. Так, 27 сентября 1991 года президент США Дж. Буш-старший объявил, что Соединённые Штаты готовы в одностороннем порядке ликвидировать или перевести на централизованное складирование на территории США тактические ядерные боезаряды, находящиеся на вооружении американских ВВС, армейской авиации и Корпуса морской пехоты (за исключением ограниченного количества авиационных бомб, размещённых на американских базах в Европе). В качестве ответного шага советское руководство (поддержанное российскими руководителями) приняло в октябре 1991 года аналогичные меры в отношении советского тактического ядерного оружия[33].
И в дальнейшем стороны активно пользовались инструментарием односторонних, но скоординированных и взаимно согласованных мер, направленных на сокращение ядерной угрозы. Так, в своём послании «О положении страны» от 28 января 1992 года Дж. Буш-старший заявил, что Соединённые Штаты предпримут ряд односторонних шагов (таких как прекращение производства и развёртывания ракеты «Миджитмен» и оснащение большого числа американских стратегических бомбардировщиков обычными боезарядами). В этом же выступлении президент США предложил заключить Соглашение СНВ-2 в целях снижения числа боеголовок до примерно 4700 единиц. Глава Белого дома вновь выдвинул свою инициативу о ликвидации наземных стратегических ракет с разделяющимися головными частями, которую государственный секретарь Дж. Бейкер в предварительном порядке обговаривал с министром иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе ещё весной 1990 года. В случае принятия предложения президента США все МБР с РГЧ ИН были бы уничтожены[34].
На следующий день в «Заявлении о политике России в области ограничения и сокращения вооружений» президент РФ Б. Н. Ельцин сообщил об ответных шагах Кремля. В частности, было сказано о прекращении производства тяжёлых бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Президент России объявил о прекращении производства крылатых ракет воздушного базирования большой дальности существующих типов и сказал о готовности российской стороны на взаимной с США основе отказаться от создания новых типов таких ракет. Россия прекращала производство существующих типов ядерных крылатых ракет морского базирования большой дальности, отказывалась от создания и новых типов таких ракет. Одновременно Россия выразила готовность – на взаимной основе – ликвидировать все имеющиеся ядерные крылатые ракеты морского базирования большой дальности. Была также подтверждена готовность Москвы и впредь осуществлять дальнейшее сокращение атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. «На взаимной основе мы готовы вообще отказаться от практики боевого патрулирования с помощью таких подводных лодок», – заявил Б. Н. Ельцин. Наконец, по словам президента Российской Федерации, Россия в течение трёхлетнего периода, вместо семи лет, как это предполагалось согласно Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, уменьшит количество таких вооружений, находящихся на боевом дежурстве. «Если будет взаимопонимание с США, могли бы пойти в этом направлении ещё быстрее», – обещал российский президент, добавив при этом, что он выступает за то, чтобы стратегические наступательные вооружения не были нацелены на соответственно российские и американские объекты. Б. Н. Ельцин объявил о намерении в ближайшее время в ходе переговоров с западными руководителями выдвинуть предложения о новых, глубоких сокращениях стратегических наступательных вооружений – до 2000–2500 стратегических боезарядов у каждой из сторон[35].
Символом нового качества отношений между двумя странами стали и меры доверия в стратегической сфере, предпринятые Москвой и Вашингтоном после окончания холодной войны. Так, в Московской декларации президентов двух стран (январь 1994 года) было сказано, что они «отдадут распоряжение о ненацеливании стратегических ядерных ракет, находящихся под их соответствующим командованием, с тем чтобы не позднее 30 мая 1994 года эти ракеты были ненацелены». «Таким образом, впервые за почти полвека, а фактически – с начала ядерной эры, повседневное управление ядерными силами обеих сторон будет осуществляться исходя из того, что наши страны не являются противника- ми»[36], – отмечалось в Декларации.
Большое значение, с точки зрения повышения предсказуемости ядерной политики двух великих держав, имело Совместное российско-американское заявление о транспарентности и необратимости процесса сокращения ядерного оружия, принятое 10 мая 1995 года в ходе российско-американской встречи в верхах. В соответствии с этим документом стороны брали на себя следующие обязательства:
– расщепляющиеся материалы, извлечённые из ликвидируемого ядерного оружия и являющиеся избыточными с точки зрения потребностей национальной безопасности, не будут использоваться для производства ядерного оружия;
– вновь произведённые расщепляющиеся материалы не будут использоваться в ядерном оружии;
– расщепляющиеся материалы из гражданских ядерных программ или образующиеся в рамках таких программ не будут использоваться для производства ядерного оружия[37].
Эти меры доверия, безусловно, способствовали укреплению двустороннего режима контроля над ядерными вооружениями. Тем не менее, хотя и Москва, и Вашингтон выступали за новые масштабные сокращения своих стратегических вооружений, полного совпадения позиций не наблюдалось. Российская сторона, руководствуясь вполне понятными экономическими соображениями, выступала за гораздо более радикальные сокращения, чем те, с которыми были готовы согласиться американцы. Кроме того, в американских правящих кругах решили, что пришло время не только сократить общее количество стратегических наступательных вооружений, но и коренным образом изменить структуру стратегической триады России, убрав оттуда самый главный её компонент, а именно МБР с РГЧ ИН.
Как видно из заявления президента Б. Н. Ельцина (от 29 января 1992 года), в начале 1992 года Россия не была готова пойти так далеко: в Москве всё ещё надеялись на то, что Содружество Независимых Государств станет чем-то вроде «обновлённого Советского Союза» с едиными вооружёнными силами, в том числе и стратегическими: ведь в ходе алма-атинского саммита СНГ 21 декабря 1991 года Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина заключили «Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия», подтвердившее намерение сторон совместно вырабатывать «политику по ядерным вопросам»[38]. Тогда же были созданы Объединённые вооружённые силы СНГ. Увы, очень скоро российскому руководству пришлось смириться с неизбежным: распад СССР (и, как следствие, и советского военно-промышленного комплекса) необратим. Между тем многие советские МБР с РГЧ ИН, или же важнейшие их компоненты, производились на территории Украины: так, ракеты РС-20 изначально, а ракеты РС-18 с 1985 года, производились в НПО «Южное» в Днепропетровске; что касается ракет РС-22, то их первые ступени также производились на Украине, на Павлоградском механическом за- воде[39].
Продлевать же до бесконечности ресурс уже развёрнутых на российской территории МБР с РГЧ ИН было невозможно: уже в начале XXI века нужно было решать вопрос о массовом снятии этих ракет с вооружения. Правда, Российская Федерация могла в принципе разработать новую мобильную МБР на базе РС-12М с тремя боеголовками или же создать унифицированную ракету с РГЧ ИН, которая могла бы выполнять функции МБР и БРПЛ – но в начале 1990-х годов не было ни сил, ни средств для быстрого решения этих сложнейших задач[40].
То, что РВСН России оказались вдруг отделены от тех производственных мощностей, где ковался советский ракетно-ядерный щит, государственной границей, было далеко не единственным вызовом стратегической стабильности, возникшим после распада СССР. Проблема советских стратегических ядерных вооружений, оказавшихся на территории Украины, Казахстана и Белоруссии после распада Советского Союза, не могла не тревожить не только американское, но и российское руководство.
На протяжении апреля – мая 1992 года шёл напряжённый диалог между Вашингтоном, Москвой, Минском, Киевом и Алма- Атой по вопросу о судьбах тех стратегических арсеналов, которые новые независимые государства унаследовали от исчезнувшего Советского Союза. При этом элиты новых независимых государств пытались выторговать у США и России и дополнительные гарантии в сфере безопасности, и экономические уступки. В данном вопросе, однако, Кремль и Белый дом были непоколебимы: только Российская Федерация должна, в качестве правопреемника Советского Союза, остаться единственной ядерной державой на постсоветском пространстве[41].
Объединённый американо-российский нажим на Белоруссию, Украину и Казахстан принёс свои плоды – 23 мая 1992 года США, РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина подписали Протокол к Договору СНВ-1, в соответствии с которым (ст. 5) Республика Беларусь, Республика Казахстан и Украина должны были присоединиться в возможно кратчайшие сроки к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государств- участников, не обладающих ядерным оружием. Тогда же лидеры Белоруссии, Казахстана и Украины взяли на себя обязательства ликвидировать все ядерные вооружения, находящиеся на территории их государств, в семилетний период. Это был большой успех: удалось избежать появления трёх новых ядерных государств, что само по себе имело бы труднопредсказуемые последствия для международной стабильности и безопасности[42].

