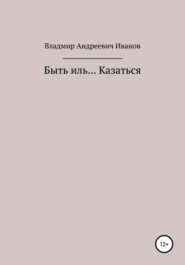 Полная версия
Полная версияБыть иль… Казаться
Для восполнения недостатка продовольствия, по приказу командира проводились экспроприации продуктов с баз и складов известных сторонников марионеточного правительства. Однако, это были единичные акции, львиная же доля снабжения осуществлялась за счёт добровольной помощи местных производителей.
Остро стоял вопрос с оружием. Значительную часть арсенала ополчения составляло стрелковое вооружение, изъятое в милиции, ВОХРе, у охраны мест лишения свободы и боевые трофеи. Автоматы, пулемёты, гранаты, миномёты, танки и другие бронемашины ополчение добывало в бою, захватывало во внезапных смелых акциях и получало от подразделений противника, не желавших применять оружие против своих соотечественников.
Причины и цели начавшейся войны лежали в сфере политики. Узурпаторы власти понимали собственную выгоду от продолжения развития конфликта, поэтому всячески способствовали его эскалации. Внимание одураченного населения отвлекали от чудовищной коррупции в высших эшелонах, произвола, предательства интересов народа и других реальных проблем внутри государства. Наиболее остро стоял вопрос о нелегитимности самочинно избранного правительства.
Иван понимал интерес марионеточной власти к дальнейшему развитию конфликта на Востоке, поэтому не был удивлен, узнав о продаже «президентом» страны оружия ополчению. Политические прохиндеи были заинтересованы в поддерживании боеготовности сил противника на должном уровне – война не должна была закончиться быстро.
Вскоре Дикарь отбыл на родную землю, временно передав свою должность Ивану. Никто не сомневался в его скором возвращении: здесь было его место, «русские своих не бросают» – это было про него.
В его отсутствии всё продолжало идти своим чередом. Основная работа подразделения заключалась в разведке на обширной площади условно ничейной земли и быстром реагировании при обнаружении противника. В нескольких подходящих местах были выставлены дозоры, мобильные группы разведчиков контролировали пространство радиусом не менее двадцати километров от базы. Вначале их деятельность сводилась большей частью к поддержанию контакта с гарнизонами небольших городков на этой территории, пока их не вынудили отойти наступающие войска противника.
Когда враг появлялся, – относительно недалеко двигалась колонна техники или воздвигался блокпост, – информация немедленно доводилась командованию, а после согласования противник уничтожался. Как правило, за огневым налётом, с использованием миномётов или «Градов», следовала зачистка объекта.
После отступления гарнизонов ополчения из северных городков, командованием в лице Егора было принято решение о создании укрепрайона на правом фланге северного направления; с запада укрепление прикрывалось соседним подразделением. В краткие сроки здесь были вырыты окопы и «лисьи норы», накрыты блиндажи, созданы огневые точки. На дежурстве в этом форпосте постоянно находилось до сорока человек.
С начала следующего месяца последовали странные события, заставившие многих бойцов городского ополчения почувствовать недоумение и тревогу. Республиканские СМИ опубликовали срочную информацию о «противостоянии» Егора новой власти республики: будто бы он отказался признавать новое правительство, занимается захватом правительственных зданий в столице и расправой с неугодными ему официальными лицами. Далее, пресса сообщала о боестолкновении отряда Егора с отрядом полевого командира, руководившего в своё время операцией в аэропорту. Позднее премьер-министр заявил на брифинге, что Егор и «его люди» никому не подчиняются и никем не контролируются, и объявил их «вне закона».
Эта новость быстро разошлась среди бойцов и командиров подразделений. Люди были встревожены, не понимая, что происходит: разве не одни общие цели у всего ополчения, разве не поддерживают они соседей и не выполняют общие задачи? Впрочем, на следующий день появилось опровержение этих громких заявлений.
Но многие, и Иван в том числе, запомнили неблагожелательное отношение политиков нового государства и сделали вывод, что не всё так просто «в датском королевстве». Их командир, действительно, был человеком с независимым характером и обнаруживал свой, иногда отличающийся от декларируемых некоторыми политиками взгляд на отдельные события. Однако, Егор зарекомендовал себя грамотным военачальником и человеком слова.
Через несколько дней после вышеозначенного «недоразумения» в город вошли отступающие из Славянска ополченцы, возглавляемые своим командиром – Стрелкой.
Самый дорогой сердцу Ивана город был оставлен. Он чувствовал досаду, разочарование, злость – до этого момента он всё ещё лелеял в душе надежду вернуться туда. Разумеется, Иван не мог дать оценку решению «главнокомандующего», как именовал себя Стрелка, не обладая должной компетентностью и не располагая всесторонним знанием положения дел в покинутом городе. Однако, оставив без внимания недобрые слухи, непременно сопровождающие все события, требующие от руководителя принятия на себя особой ответственности, ему было, что сказать.
В память Ивана, в самую его душу впечатались слова, не раз слышанные от людей, протягивающих им, сынам и защитникам народным, от скудости своей – сокровище своё.
– Вы только не оставьте нас! – будто предвидя будущее, просили женщины и старухи, до боли напоминавшие матерей.
– Да что ты, мать! Не оставим, – отвечали они и сами верили тому, что говорили.
И всё-таки оставили – это война, со своими законами и правилами, смириться с которыми невозможно. И эта боль никуда не денется и не развеется, она лишь притупится со временем и уйдёт глубже, чтобы терзать в бессонные ночи и отравлять радость от совершения добра далёким напоминанием: а вот тогда оставил, не помог, предал. Сколько ещё предстояло ему испытать таких мгновений, не хотелось и думать. На душе было мерзко. Иван ненавидел Стрелку в эту минуту…
А главнокомандующий заехал во двор ОБОПа. Он уже объяснил перед камерами журналистов, что вынужден (из-за предательства правительства, подлости человеческой и неудачных обстоятельств вообще) покинуть город, державший оборону почти три месяца, и проследовать туда, где ему и место – в облцентр.
Что случилось с этим человеком в здании штаба местного ополчения, Иван не знал, поскольку на тот момент отсутствовал. Подъехал он уже тогда, когда ожидавшие за забором бойцы начинали понемногу шуметь из-за долгого отсутствия своего командира. Разумеется, они его дождались-таки.
Немного помятый Стрелка проследовал по спланированному маршруту далее, кто-то продолжил сопровождать его, а кто-то остался и вступил в ряды местного ополчения.
Иван подозревал, что задержался на штабе Стрелка вовсе не случайно и наверняка не совсем по своей доброй воле, – он хорошо помнил о некоторых трениях между командирами, – но мелкое злорадство не облегчило его подавленного состояния.
Следующая боевая операция прошла неоднозначно, несмотря на впечатляющие (для краткосрочных действий малой группы) боевые итоги и опубликованные победные реляции.
Отряд под непосредственным командованием Егора выдвинулся в пункт назначения поздним вечером, он включал в себя танк Т-64, БРДМ и пару десятков бойцов в нескольких легковых автомобилях и микроавтобусе.
Глубокой ночью они прибыли на точку, рядом с Карловкой (примерно в шестидесяти километрах на юго-запад от Горловки), находившуюся непосредственно на передовой: здесь силами ополчения сдерживались периодические атаки противника.
По приезду состоялось совещание, на котором Егор предоставил право руководить операцией бывшему военному – Северянину. Тот озадачил присутствующих рисованием на листе бумаги условных обозначений техники, в которых, впрочем, сам запутался, но задачу, казалось, все уяснили.
По плану, в условленное время к вражескому блокпосту должна была выдвинуться колонна техники: во главе – танк, за ним – БРДМ, далее – пара «джихад-мобилей» союзного подразделения и легковые автомобили. На определенном рубеже пехота покидает транспорт и двигается в пешем порядке по обочинам дороги, при необходимости используя как укрытие лесонасаждения. Основную работу при атаке блокпоста должен был выполнить танк, остальные силы – прикрывать его от гранатометчиков и ПТУРистов, а также проводить зачистку местности.
На рассвете группа выдвинулась в направлении противника. С самого начала всё пошло не так.
Танк, взревев двигателем, рванул на скорости в сторону противника – следовавший за ним БРДМ остановился, создав затор (позже командир машины объяснит задержку временной поломкой). Пока бронемашина наконец сдвинулась с места, а следовавшие за ней автомобили объехали её, вдали уже зазвучали выстрелы танка. Послышался звук выстрелов стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов, снова громыхнуло танковое орудие, потом ещё и ещё. Вдалеке из-за деревьев поднялись к небу клубы чёрного дыма.
БРДМ и «джихад-мобили», уже двигавшиеся в заданном направлении, внезапно остановились, затем – начали разворачиваться и помчались обратно. Из люка бронеавтомобиля по пояс высунулся Шурик, с перекошенным, окровавленным снизу лицом он орал:
– Отходим! Танк подбили!
Паника всегда страшна, а на войне она, пожалуй, худшая изо всех возможных реакций солдата. Она выпускает джинна из бутылки, задействуя одну из сильнейших природных автопрограмм – инстинкт самосохранения, ничем не контролируемый и не сдерживаемый. Подобно смертельному вирусу, паника мгновенно заражает собой всё причастное к происходящему. Она распространяет страх без шанса противодействия ему воли и разума, оставляя возможность только для одного способа действия – бегства. Лишь единицы способны сопротивляться ей, но исключительную важность в условиях взрыва паники имеет поведение командира.
Мимо застывших возле своих машин бойцов подразделения Дикаря пронеслись БРДМ и «джихад-мобили», подбежал, почему-то с АПСом в руке, Северянин: его козлиная бородка нервно дёргалась, лицо было напряжено, прокричав: «Отступаем! Чего ждёте?! По машинам!», он убежал к своему пикапу.
Иван оглянулся и увидел Егора, напряжённо всматривавшегося вдаль и к чему-то прислушивавшегося. В этом бою он собирался испытать какое-то «чудо-оружие» – реактивный миномёт, крепившийся на плече, и теперь стоял немного растерянный, будто сожалея о неудавшемся опыте.
Иван подошёл к машине и заметил вмятину на передней пассажирской двери. На его вопросительный взгляд Костыль ответил: «Эти дебилы на бээрдээмке ударили – торопились сильно!», и тут Думка, большой добродушный парень, внимательно вслушивавшийся в раздававшийся вдалеке шум, вдруг сказал:
– Танчик наш, кажись, работает.
Все рядом затихли: действительно, вдалеке била танковая пушка. Но по кому там мог стрелять вражеский танк?
Иван повернулся к Егору:
– Командир, наш танк работает.
Тот вопросительно посмотрел на него, немного помолчал:
– Точно работает.
И они пошли.
Посреди дороги вразвалку шагал Думка с ПКМом на уровне пояса, в тельнике и бандане, по сторонам от него – гранатомётчик крымчанин Денис и темноволосый смуглый ветеран Костыль. Правее в посадке шли Витя Славянский и Плешнер. Иван сопровождал командира, от души веселившегося пальбой из новой «игрушки», оказавшейся довольно громкой.
Вдалеке по флангам полыхали огоньки, сообщая, что их заметили, они изредка коротко отвечали – дистанция была велика. Танк продолжал работать.
Через несколько минут Иван заметил появление своих разведчиков, а ещё минут через десять-пятнадцать явился и руководивший операцией Северянин. С озабоченным видом он подбежал к Егору:
– Командир, считаю необходимым доложить о необоснованной опасности, которой вы себя подвергаете…
(Любил он выражаться формальным языком, слабость такая у него была. Бывает, как загнёт: «Из стратегической необходимости создания тактического превосходства превентивности средств дислокации…» – и прямо на камуфляжных северянских штанах слушателю вдруг уже мерещились откуда-то появившиеся лампасы.)
Догадавшись наконец, что командир его попросту не слышит или создаёт такую видимость, Северянин вздохнул, едва заметно пожал плечами, будто сказал: «Эх, нельзя же так, устав для всех писан, да что мы-то, подчиненные-то можем?..» и удалился вперёд, возглавлять, пока не поздно, атаку.
Тут появились и «джихад-мобили», лихо разворачивающиеся и обрушивающие на противника ливень свинца калибра двенадцать и семь. Очень эффектно смотрится.
Однако, пройдя вперёд ещё метров сто-двести, Иван снова увидел теперь уже возвращающегося Северянина и поначалу даже немного испугался. Командовавший операцией дико орал, зажмурив глаза, и скакал на одной ноге, вторая была подогнута – издалека создавалось впечатление, что её оторвало, только вот крови почему-то не было. Сбоку его поддерживал Плешнер с озабоченным лицом. Иван подошёл поближе:
– Что тут у вас?
Северянин уже не орал – теперь он громко стонал, но глаз не открывал по-прежнему. Плешнер разорвал перевязочный пакет, разрезал раненому штанину и – удивлённо уставился на маленькую царапину ниже колена. Иван посмотрел на него, на Северянина, и молча поспешил догонять командира. (Позже выяснилось, что «рану» причинила сигнальная ракета, установленная на подступах к блокпосту. Впрочем, возможно, что Ивану и Плешнеру показалось, будто ранение Северянина было пустяковым, поскольку ещё около двух месяцев он передвигался на костылях.)
Обратно возвращались в триумфальном настроении: были уничтожены два блокпоста, один танк, несколько бронемашин и множество живой силы противника – крови было много. Однако практически полностью эту боевую задачу выполнил один танк. Кстати, наград экипаж так и не получил, а все лавры достались «руководителю операцией».
Обращение Егора к главнокомандующему осталось без ответа: блокпостов на месте разрушенных вражеских укреплений выставлено не было. Это сыграло свою роковую роль позднее при наступлении противника на этом направлении.
В условиях гражданской войны особое значение приобретает работа контрразведки: соседи, коллеги, знакомые, родственники – вчерашние соотечественники оказываются по разные стороны баррикад, и отличить сторонников от противников становится делом важным, но трудноосуществимым, а в масштабах региона – и вовсе безнадёжным. Сложность этой задачи усугубляется идеологической индифферентностью значительной части населения, предпочитающей журавлю синицу. В то же время многие агенты и добровольные пособники врага были неосторожны в своих публикациях в сети, обнаружив свои взгляды ещё в начальный период развития конфликта. Это была одна из причин успешности работы контрразведки ополчения.
В отряде под командованием Егора контрразведкой занимался Ролик, сообразительный, шустрый юноша. Иван ещё с периода «Крымской весны» был знаком с ним, но долгое время его отношения с этим хитреньким мальчиком оставались прохладными. Сближение произошло после гибели Серого, когда Ролик, вернувшись в составе группы Дикаря под командование Егора, стал часто контактировать с Иваном по роду своей деятельности.
Ролик не только выявлял агентов противника и вёл допросы «сочувствующих», обнаруживавших себя в социальных сетях. Ему не раз приходилось вести переговоры с представителями вооружённых сил противной стороны, иногда довольно успешные. Были случаи, когда военные, понимавшие, что это не их война, оставляли свои позиции под городом и даже передавали ополченцам свою технику и вооружение. Но чаще исход таких переговоров оказывался отнюдь не столь благоприятным.
Если о сообщении с противником узнавало командование ВСУ, которое не желало вмешивать во внутренние дела посторонних, как правило, осуществлялась ротация подразделений. В случае поступления информации о ведущихся переговорах сотрудникам Службы Безопасности Украины, лидерам террористических организаций и заинтересованным политикам, на зачистку подразделения могли быть отправлены «карманные» боевики из националистических организаций и отдельных подразделений. Бывало, военные просто отказывались сотрудничать, опасаясь вышеперечисленных последствий.
Между военнослужащими и курировавшимися спецслужбами нацистскими батальонами изначально существовала прочная связь, только крепнувшая с течением времени – ненависть. Призывники срочной службы, многие из которых тайно разделяли убеждения повстанцев, крайне неохотно вступали в разгоравшийся усилиями политиков конфликт. При любой возможности самоустраниться, создать видимость требуемой деятельности или дезертировать, многие срочники пользовались подвернувшимся случаем.
Напротив, носителей агрессивно выраженных националистических убеждений характеризовала живая вовлечённость в разраставшийся конфликт, заинтересованность в его разрешении силовым путём. Одной из функций нацбатов, нацгвардии и боевых подразделений экстремистских партий было подавление инакомыслия, искоренение «неблагонадёжных» элементов из структур государственных и общественных. Антагонизм между армией и «националистами» был неслучаен, он был закономерен и неизбежен.
Между подразделениями регулярной армией и нацбатами нередко вспыхивали ожесточённые перестрелки с применением артиллерии. Да и внутри батальонов случались разборки со стрельбой.
Требует серьёзного изучения вопрос о соотношении числа погибших солдат в боестолкновениях с ополченцами и ликвидированных боевиками ультраправых организаций. Официальной статистики по данному вопросу, конечно же, нет, как и правдивых данных по общему количеству погибших за время конфликта.
Ивану было известно о происходившем по ту сторону фронта непосредственно от пленных. Бывших военнослужащих содержали в здании штаба, обращались с ними лояльно: еда из общего котла, душ, книги, свидания с родственниками.
Иное отношение было к «нацикам»: приказ «в плен не брать!» соблюдался неукоснительно.
Так называемые «правосеки» и «нацики» попадают в добровольческие батальоны, разумеется, не случайно. На момент вступления в экстремистскую организацию они навряд ли хорошо знакомы с теоретическим обоснованием факта существования партии. Ещё менее вероятной представляется возможность последующего изучения ими предлагаемой идеологической программы и обнаружения в ней сущностных противоречий.
Изначальным мотивом этих большей частью молодых людей является поиск смысла, точки приложения своих сил, их подгоняет свойственный незрелому возрасту задор. Но в безыдейном обществе, не предлагающем чётких привлекательных социально-значимых ориентиров, не предоставляющем своей пассионарной (как вариант, псевдопассионарной или лжепассионарной) прослойке возможности реализации внутреннего потенциала, инициативу перехватывают маргинальные образования. Таким образом происходит дальнейший рост хаоса и преступности.
Основную массу в экстремистских организациях составляют лже-пассионарии, мимикрирующие под окраску любой идеологии ради корысти ощутить причастность к чему-то большому, сулящему душевные и материальные выгоды.
Издревле массы ищут идола для поклонения, и чем страшнее он и кровавей, тем кажется сильнее, внушением трепета завораживая и подчиняя себе. В толпе нет личности – она едина в своей безличности, нет выбора – есть раболепие и поклонение. Жертвуя свободой, они получают своё счастье: в массе они чувствуют себя силой, им кажется, что в их жизни появляется великий смысл, когда ощущают кругом подобных себе слепцов, совершающих зло ради «добра». О, какое же великое должно быть это добро, если даже явное зло может вести к нему, насколько оно высоко и таинственно! Коротко говоря, это поиски авторитета для подчинения ему, за их успешность ответственно воображение. Если сказать иначе, это поиски смысла в бессмыслице.
В опасной сектантской среде романтики и идеалисты превращаются в кровавых палачей, «нормальные ребята» – в садистов и негодяев. Процесс душевной трансформации подразумевает перековку не только психологическими методами воздействия (заражением идеологией, соучастием в преступлениях – «повязанностью кровью» и т.п.), он многократно усиливается применением наркотических и психотропных препаратов.
В идеологии экстремистских сообществ окраинной земли содержится небезопасная сама по себе и суицидальная в специфических местных условиях идея национализма, ввиду слабости здорового национального начала неизбежно принимающего шовинистическую степень.
Жизнь и развитие наций происходит по правилам и законам, подобным тем, что действуют в душевной жизни человека. Сформировавшаяся личность не нуждается в доказывании кому-либо (и себе в том числе) своей значимости и ценности, то есть того, что она самотождественна. Напротив, существо недоразвившееся, ощущающее свою неполноценность спинным мозгом и страдающее оттого, стремится доказать всем окружающим свою состоятельность ложными средствами, самообманываясь таким образом и получая частичное удовлетворение. Беда в том, что действительного развития в рассматриваемом случае не происходит, но развивается патология.
Аналогично обстоит дело и с процессом становления нации. Едва обособившаяся этническая группа может развиваться в особых условиях на протяжении долгого времени, закаляться и приобретать самобытность, преодолевая трудности. Нередко нация рождается смешением разных народностей – длительным и сложным взаимодействием. Однако существуют и такие примеры, когда под непрекращающимися сильными влияниями других народов и культур нация не может дозреть и, оставаясь на промежуточной ступени развития, испытывает все несчастья своего неопределённого положения. Так слабый от рождения ребёнок всё никак не повзрослеет, испытывая слишком сильное опекающее воздействие материнской любви или мощное подавление отцовским авторитетом.
Но недоразвившаяся нация содержит в себе опасность, прежде всего, для себя самой: при отсутствии крепкого центра, силы внутри неё приобретают известную самостоятельность и неподконтрольность. В этой общности закономерно множатся хаотичные попытки «самоспасения» сильными средствами, которые оказываются для неё смертельными: нацизм, шовинизм, радикализм опасны и для полноценных наций. Но всё же здесь преобладают прагматично-направленные симуляции всяческих ультра-направлений: стервятники спешат поживиться ещё тёплой плотью.
Для подобного образования крайности и эксцессы неизбежны, и возникает реальная угроза утверждения экстремизма как принципа государственной политики. Усилиями приходящих в этих реалиях к власти политических проходимцев, не чурающихся применения фальсификаций, подлогов, лжи и насилия, в псевдогосударстве формируется образ лже-нации на основе лже-истории, лже-идеологии, лже-религии и т.д. Внешние силы используют этого монстра как удобный служебный инструмент – противоречия внутри него растут, пока не достигают критического уровня. Недо-нация, обратившаяся в лже-нацию, обречена.
По понятным указанным выше причинам понять и принять этот факт члены экстремистских националистических организаций не могут. Тем, кто состоит в секте, подняться на высоту взгляда внешнего наблюдателя не просто сложно, это – невозможно.
Но невозможность осознания информации не означает того, что доступ субъекта закрыт к ней совершенно. Даже самое примитивное и ограниченное существо способно догадываться о важных для него вещах: вопреки вытеснению из ума, подавлению, блокированию эгозащитными механизмами, которым подвергается это знание, оно всё-таки остаётся внутри. Как известно психиатрам, наиболее сильное влияние на состояние и поведение человека оказывает то, что не допускается в сознание.
Подобно комплексу неполноценности, вынуждающему своего обладателя к действиям, якобы опровергающим наличие у него ощущаемой уязвимости, слабость и несамостоятельность «воинов света» выливаются в бессмысленной жестокости и садизме их поступков. Лёгкость, с которой они скатываются к использованию элементов чужеродных (нацистских, языческих) символики и идеологии, обличает пустотность их понятия нации, необоснованность любых претензий на самобытность, уникальность и значимость национального фактора.
И чем более им хочется верить в присутствие смысла в их деятельности, тем интенсивнее они переживают его нехватку, ощущая на уровне инстинктов бессмысленность и неадекватность своих дел. Как бы им ни хотелось обратного, нации, которую они «защищают», не существует, дела их преступны и только приближают конец бытия, в котором они находятся.
Совершение зла – негодное средство для избавления от страха.
На последний день петровского поста была назначена операция по уничтожению блокпоста, занятого военными и националистами из «Правого Сектора». Задача на выполнение была возложена на подразделение Дикаря. По разработанному плану в первую очередь проводилась разведка, затем по цели отрабатывала реактивная артиллерия и, наконец, местность зачищалась ожидающей неподалёку группой.

