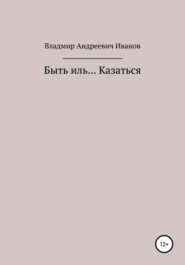 Полная версия
Полная версияБыть иль… Казаться
Иван скривился «братику»: «Сестрица объявилась, гляди-ка», но смолчал и обещал подъехать.
Через десять минут его машина остановилась возле ворот добротно сделанного, большого дома. Возле калитки прохаживался худощавый, похожий на суслика «братик». Увидел вылезавшего из машины Ивана, он широко заулыбался:
– Ты вовремя как раз, – и, заговорщицки прищурившись, зашептал: – Надо этого пингвина раскулачить: две машины во дворе стоит, прикинь! Опелёк-бусик нульцевый и джипец нехилый! А нам ездить не на чем, ты прикинь!
И, сделав нарочито возмущённую физиономию, Бегунша картинно развёл руками в стороны.
– А кто это такой, – нахмурился Иван, к «отжимам» он относился крайне неодобрительно.
– Да какой-то хитрожопый фуфломёт, – затараторил Бегунша, – я тут по заданию Бати. Нам срочно транспорт нужен, как раз бусики!
Войдя во двор он увидел пожилого смуглого мужичка, растерянно смотревшего на входивших ополченцев.
– Вы кто будете? – начал Иван с порога. – Чем занимаетесь? Автомобили ваши?
Мужичок зашёл в дом и тотчас вернулся – с документами и грамотами в руках. Выяснилось, что он пенсионер, заслуженный шахтёр; один из автомобилей принадлежал ему, второй – его родной сестре. Документы были в порядке. Иван извинился и направился к выходу. Бегунша засеменил за ним:
– Братик, ты куда? Мы что, так и оставим ему это всё?! Давай хоть бус заберём!
Иван остановился и зло посмотрел на него:
– У кого заберём, у заслуженного шахтёра, инвалида, здоровье своё под землёй оставившего?!
– Да не, – сориентировался Бегунша, – у сестры-то чё не забрать? Она, гляди, кобыла хитросделанная, нашла где тачку притырить! Где она деньги на неё взяла? Барыжничала стопудово!
– А я тебе зачем для такой «операции»? – Иван начинал терять и без того скудное терпение.
– Так я ж на машине, братик, думал, ты за руль сядешь, – округлил глаза Бегунша.
Иван посмотрел на него, сплюнул на землю и пошёл к машине. Открыв дверь, он остановился:
– Не тронь мужика.
… Спустя немного времени выяснилось, что Бегунша был замешан в распространении наркотиков и некоторых других неблаговидных делах, но успел своевременно скрыться из города.
С наступлением осени обстрелы города продолжались, хоть уже и не с такой интенсивностью. В центр теперь «прилетало» реже, враг больше утюжил окраины. По-прежнему гибли мирные граждане и по-прежнему среди жертв обстрела было немало детей. Попытки штурмовать город прекратились – враг использовал тактику изнурения.
Вскоре произошло знаменательное событие: в кафедральный собор Горловки прибыла главная святыня Одессы, образ чудотворной Касперовской иконы Божией Матери, не покидавший ранее места своего хранения.
По древней традиции начальство предложило, обратившись за помощью к Пресвятой Богородице, совершить объезд границ города с образом Пречистой Девы. Выполнение этой задачи поручили Ивану, который, получив в сопровождение отделение бойцов, и совершил эту почётную миссию.
Возможно, кто-то счёл бы это действием самовнушения, но, вернув чудотворный образ в храм, Иван твёрдо знал, что враг в город не войдёт.
Давно было замечено, что во времена значительных общественных потрясений резко ползёт вверх кривая заболеваний психическими расстройствами, происходят вспышки массовых психозов: стабильность душевной жизни многих людей жёстко обусловливается стабильностью окружающего мира, и когда вокруг царит хаос, нарушается порядок и в головах.
С этим явлением неоднократно сталкивался и Иван. Один из его знакомых страдал болезненным расстройством воображения, делавшим невозможным адекватное восприятие действительности: он приписывал себе способности и знания, которыми никогда не обладал, а своему болезненному бреду отдавал предпочтение перед реальностью. Удивительно было, что Генриховичу удалось произвести на всех должностных лиц такое впечатление, что ему, малознакомому на тот момент человеку, доверили высокую должность в отряде и лишь по прошествии нескольких недель заметили его странности. Сумасшедшие бывают очень убедительными.
Этот случай был не единичным, но более примечательными и значимыми всё же представляются проявления сумасшествия иного рода – нравственного, встречающегося куда чаще ментального и оставляющего при этом более тягостное впечатление.
Знакомый Ивану Ролик занимался не только контрразведкой, но попутно решал и многие другие немаловажные для осаждённого города вопросы: вёл переговоры с колеблющимися военнослужащими противной стороны, принимал участие в информационной войне, разоблачая ложь вражеских СМИ и освещая освободительный характер борьбы повстанцев, контролировал поступление гуманитарной помощи.
Когда заболела его супруга, она отправилась в центральную городскую больницу, не прекращавшую свою работу во время всего вооружённого противостояния. Её довольно быстро обследовали и выписали длинный список лекарств, необходимых для приобретения в первую очередь. Медикаменты продавались здесь же, в больничной аптеке. Сумма показалась девушке немалой, и она позвонила мужу.
Ролик на память не жаловался, поэтому, услышав название перечисленных женой медикаментов, немедленно приехал к лечащему врачу – получился небольшой скандал. Дело было в том, что большая партия именно этих препаратов накануне поступила в больницу в составе гуманитарной помощи.
Впрочем, для жителей образовавшейся республики новостью этот случай не показался бы: все привыкли к тому, что гуманитарка появляется на прилавках магазинов, аптек и рынка одновременно с началом выдачи помощи нуждающимся или поставкой продовольствия военнослужащим народной армии.
Проявления особого цинизма встречались среди всех категорий и прослоек населения, так же, как с другой стороны, имелись примеры самоотверженности и готовности к самопожертвованию.
Ивану были известны случаи, когда перевозчики на полпути вымогали у попавших в безвыходное положение беженцев – женщин с детьми – астрономические суммы, угрожая высадить их в лесу. Но слышал он и о том, как водитель автобуса рисковал собственной жизнью ради спасения пассажиров.
Наивно было бы ожидать, что в тяжёлые для народа времена во всех поголовно завопит во всё горло придушенная совесть – всегда ли есть чему кричать?
Сложная обстановка создаёт условия для проявления того, что само просится наружу: что сильнее в человеке, то и побеждает. Кого-то зрелище или осознание чужого горя делало сострадательней, подвигало к совершению геройского поступка, кто-то, напротив – «адаптировался», воспринимая обилие страданий вокруг как некую данность, новые условия изменившейся реальности, т.е. как норму.
Человек слишком слаб и зависим от своего окружения. Недаром история передаёт как примеры героизма и доблести описания противостояний личности неблагоприятной среде. В сущности личность и является таковой благодаря способности сохранять внутреннее постоянство – независимо от обстоятельств внешних. К сожалению, это не норма, а скорей исключительность.
Что же можно требовать от толп перепуганных людей, движимых инстинктом самосохранения?
Насколько велика вина тех, кто перенял образ действий преступных верхов и пытался воспользоваться хаосом, чтоб поживиться? Наверное, немало было тех, кто счёл, что вправе «грабить награбленное», и кое-кто из оказавшихся в ополчении тоже думал так.
«Отжатые» автомобили, грабежи, насилие, хищения и продажа оружия, распространение и употребление наркотиков, пьянство во время несения службы – все эти преступления не могли характеризовать ополчение в целом, но даже совершаемые отдельными его членами бросали тень на всё освободительное движение. Кроме того, необходимо заметить, что расцвет преступности среди бойцов народной армии пришёлся на то время, когда активные боевые действия были приостановлены, отряды ополчения преобразованы в бригады и корпуса, и основным занятием бойцов стало формирование массовки для фотоотчётов, несение нарядов и другие прелести перенятой из армии соседнего государства внутренней жизни подразделений.
В отрядах ополчения недоставало личного состава для решения боевых задач, и при этом своими действиями здесь обнаруживались люди случайные, компрометировавшие саму идею защиты Отечества. Но и в период активных боевых действий, прикрываясь маской народных защитников, в городах орудовали банды, занимавшиеся вымогательством, похищением людей, убийствами и разбоями. Ивану был известен случай, когда вышвырнутые из армии негодяи, припрятав миномёт, обстреливали жилые кварталы своего города – «куража ради».
Как эти подонки очутились в рядах повстанцев?
Свой ответ на этот вопрос предлагал замечательный русский историк С.М. Соловьёв, полагавший, что в образовании казачества значимую роль сыграла идея богатырства, или внутренняя жажда некоторых жителей Руси «силушкой поиграть», «удаль молодецкую» испытать вследствие ощущавшегося избытка сил и неумения найти им применение. Природа человека не меняется, и в наше время по-прежнему встречаются желающие показаковать.
Вместе с тем, в условиях безыдейного общества, раздробленного на атомы индивидуумов, у наиболее здоровых сил растёт спрос на объединяющую идею, которая оказывается тем привлекательнее, чем более справедливой и значимой она кажется и чем большую жертву может потребовать у своих приверженцев. Однако, немалую долю в любом крупном общественном течении составляют люди случайные, которые ищут не более и не менее как возможность примкнуть к сильному движению, чтобы ощутить силой себя: «кто был ничем, тот станет всем».
Человек может быть сильным, но только как существо одухотворённое, проникнувшись идеей и руководствуясь ей на своём жизненном пути. Но вокруг любой значимой идеи находится немало тех, кто предполагает выгоды от видимости своего соучастия в служении ей. Так было и будет всегда, грязь, липнущая на подошву обуви идущего, не может обесценивать его цель, хотя она также движется в том же направлении. Наверное, чистить обувь всё-таки периодически нужно, хотя новая грязь будет на пути неминуемо.
Преобразование ополчения в настоящую армию было неизбежным, все это понимали, но на этом этапе произошёл наиболее массовый и ощутимый отток сил из всех подразделений. Люди встали за свою землю – против врага, против чуждых им смыслов, как вставали когда-то их отцы и деды. Но когда неприятель был остановлен и достигнута относительная стабильность, ополчение утратило свой дух, выветрившийся в процессе проведения формализующих преобразований.
Летом того года в бойцах горение было: как свечки перед Господом стояли – некому было поддержать, некому помочь, только вера поддерживала и помогала. Вера простая: раз они за правду, то и Бог с ними, иначе никак нельзя было тогда думать. И обстановка была простая: впереди – враг, позади – народ. Всё.
Иван с грустью наблюдал, как уходят опытные, хорошо зарекомендовавшие себя бойцы; едва ли не каждый из них подходил к нему: «Командир, это всё не для меня. А если начнётся, я сразу вернусь».
Он кивал, жал руки и думал: «Если начнётся, никто никуда не придёт – некуда будет. Раскатают нас по полной, если попрут, сомнут и не почувствуют. Наступление не светит, мобилизации не объявляют – сидим для галочки».
Иван прекрасно понимал, почему уходят люди: их война закончилась. Когда за дело берутся политики, добра вольному люду ждать не приходится: игры у них грязные, люди – винтики для них в лучшем случае, даже не пешки. Да и по соотношению сил понятно было, что новая армия, создававшаяся из остатков ополчения, не сможет противостоять силам, которые подтягивал противник. Но наступления не было.
Он на себе прочувствовал «нехватку адреналина», ощущавшуюся организмом в условиях относительно спокойного существования – без острых ощущений, которых ещё недавно было в избытке. Ролик подбивал его: «Братан, давай съездим, блокпост укроповский размолотим!», но авантюры не привлекали Ивана:
– Что толку-то? Ну подохнет пару срочников, порыдают матери, похоронят – сюда новых пришлют.
Да и лезть под пули ради форсу перед самим собой стыдно было. Другое дело, была б необходимость тот блокпост уничтожить: нашим помочь в окружении или наступление подготовить, а так, желторотиков убивать – нет уж, увольте.
Может быть, из-за пресности нового образа жизни всё казалось ему серым и постылым, словно, как говорится, запал кончился. Состояние было безразличным, мысли разные тогда в голове мелькали: то уйти хотелось, то вдруг надежда появлялась, что всё-таки дождётся он ещё наступления, чтоб очистить от вражьего духа всю область, а там Бог даст, и всю страну. Долго ему так обманывать себя пришлось.
Он ощущал себя одиноким: ни друзей, ни близких. Друга Мишку после ранения комиссовали, брат уехал к семье. Возивший Ивана на стареньком «ниссане» Плешнер как-то заикнулся:
– Командир, посмотри вокруг: наживаются все, у кого возможность только есть, не упустим момент?
Иван тогда подметил это «упустим»: смотри-ка, какой заботливый братец у него нашёлся, и спокойно ответил:
– Не о том ты думаешь – война не закончилась! А те, кто «наживаются», своё найдут, не переживай о них.
Плешнер обиженно замолчал, потом забормотал какую-то ерунду, оправдываясь, но слова были сказаны.
«М-да, – думал Иван, – не все смогли остаться на том уровне высокой внутренней мобилизованности, что был достигнут. Расслабила Плешнера вольготная жизнь, о денежках задумываться начинает… Хотя не у всех и был этот подъём, по-видимому. Кто-то духом пламенел, а кто-то, как наркоман, на адреналин подсел, да истерил».
Иногда ему казалось, что всё ложь: и вокруг – в словах, в нарочитых поступках, в навязанных ложных идеях и в ложном понимании, и в нём самом, а правда лишь иногда угадывается, и только душа понимает и приемлет её. И в то же время разве не присутствует она везде, пусть затмеваемая ложью, разве нельзя различить её за иллюзорными призраками, увидеть лес за деревьями?..
Как он заметил, окружающие часто не понимали его мотивации, придавали значение тем его поступкам, которые казались самому Ивану простыми и естественными, и совсем не замечали плодов больших усилий и внутренней борьбы. «Что ж, мнение ограничено категорией мнимого», – усмехался он.
Самые значимые и важные поступки в своей жизни он совершал без тени сомнений, движимый твёрдой уверенностью в необходимости именно этих действий – иногда вопреки здравому смыслу и почти всегда противоположно тому, что могли подсказать соображения выгоды и полезности. Просто так было надо, а иначе – нельзя. Противиться этому мощному импульсу, заставлявшему делать порой безрассудные вещи, было невозможно – это означало бы отказаться от себя самого, поэтому приписывать себе на основании подобных действий какие-то особенные достоинства значило бы самообольщаться. Очевидно, в такие моменты реализовывалась глубокая внутренняя вера, важная составляющая его личности, выходившая даже за её пределы – другого объяснения для себя он не находил.
Формирование армии республики стало возможным благодаря установлению на свободной от врага территории единоначалия. Главой государства был избран неизвестный Ивану человек, да и народу он был незнаком, но зато, по-видимому, известный в некоторых узких кругах. (Позднее Ивану попалось на глаза видео, где будущий правитель в марте-месяце выходил к митингующему перед ОГА люду, сопровождая местного чинушу.)
Логичным следствием происходивших процессов стал отъезд Егора; в соседней республике полевых командиров, не торопившихся признавать полномочия назначенного главы, устранили «диверсионные группы противника».
Иван грядущих перемен не опасался, но было неприятно узнать, что новый правитель стучал по столу кулаком и орал о необходимости «зачистить Егоркиных прихвостней».
«Интересно, – размышлял Иван, – он реально собирается уничтожить пару тысяч бойцов или озабочен только командирами? И слово-то какое подобрал – «прихвостни»! Мы тут воевали, а не вокруг зада чьего-то крутились, в отличие от тебя горлопана безмозглого».
Никаких последствий для защитников города эмоциональные вспышки нового политика не повлекли, и больше до Ивана слухи о его неистовствах не доходили.
В новой армии нового государства военная служба показалась Ивану малопривлекательной – возможно, дело было в том, что он так и не смог вместиться в служебные рамки. Впрочем, это уже другая, довольно скучная история.
Заключение
Война – это зло, бесспорно. Столько горя, страдания невинных и столько злобы и ненависти, выползших из больных душ, столько сумасшедших, одержимых и беснующихся убийц – страшное зрелище.
В такое время всё обостряется и усугубляется, для этого имеются все предпосылки: обстановка неопределённости, множество угрожающих факторов в условиях отсутствия защиты государства, нарушение всего привычного образа жизни, когда становится невозможным плыть по течению и требуется принятие ответственных решений, само зрелище бессмысленной жестокости, убийств, крови, жертв обстрелов или разнузданного насилия – в подобных условиях человек испытывает сильный стресс, последствия которого для каждого оказываются разными.
Для Ивана воспоминания о событиях тех весенних и летних месяцев были очень неоднозначными и противоречивыми.
Радость чувства общенародного подъёма в начале освободительного движения отравлялась ощущением его неполноты и ограниченности: многие предпочитали отсиживаться в надежде на то, что страсти утихнут, и всё останется по-прежнему, а некоторые писали пасквили в блогах, шпионили в пользу противника и нанимались в батальоны нацистов. Позже он испытал разочарование, наблюдая бегство с родной земли тысяч здоровых мужчин в то время, когда в ополчении ощущалась нехватка бойцов.
Он тосковал по тем дням, когда вокруг были настоящие боевые товарищи, надёжные и самоотверженные, потерю которых, одного за другим, так сильно переживал.
В изменившихся условиях, связанному по рукам и ногам распоряжениями и директивами, ему не хватало возможности реализовать свои способности, знания и желание, которому и привело его сюда. Никогда не стремившийся к обременению себя ответственностью за что-то или, тем более, за кого-то, здесь он ощутил всю значимость и силу этого добровольного расширения и углубления своего осознанного долга.
«Окопная война» лишала его шанса заново прочувствовать близость жизни: распоряжаться своей свободой, принимать решения, исполнять их и нести за это ответственность.
С грустью Иван вспоминал, как когда-то докладывал по телефону Егору:
– Обнаружен противник в составе двух БТРов и около взвода личного состава. Егор, я расхреначу их?
И в ответ:
– Иван, ты что, дурак? Ты зачем такие вопросы глупые задаёшь?
– Понял, выполняю!
От долгого мира штыки ржавеют: трудно представить себе что-то настолько же пагубное для армии, как длительное перемирие. Затянувшаяся позиционная война нашего времени – это долгая пауза в процессе активного развития конфликта как политический ход в продолжающейся игре. Слово «договорняк» прочно вошло в лексикон не только военных, но и местного гражданского населения.
В полувоенное время был неизбежен процесс постепенной ротации в армии: на смену боевым офицерам приходили некомпетентные корыстные люди, карьеристы, опытных солдат заменяли те, кто отчаялся заработать «на гражданке». Недостаток опыта командования подразделением в боевых условиях первые компенсировали исполнением роли командира, так как они её себе представляли, и, разумеется, не могли заработать себе подобным образом авторитет у подчинённых – «где нет нутра, там не поможешь потом».
Ещё хуже обстояло дело с местной властью, сформировавшейся из разношерстой публики, которую объединяло умение пролезть, договориться «с кем надо» и желание встать «у кормушки». На фоне полного обнищания масс, выживавших на мизерные пенсии и зарплаты, крупные хищения народных денег и роскошный напоказ образ жизни верхушки обличал её изощрённый цинизм.
Все язвы и пороки общества эта маленькая война вскрыла резко и жёстко.
Заключение договорённостей с врагом в условиях продолжающейся оккупации значительных территорий региона, расцвет коррупции, развал промышленности, назначения врагов на важные государственные посты, формализм и бездушие, отстранённость власти от реальных нужд народа – было от чего приуныть людям, уставшим от войны, от упырей-правителей, от ухудшающихся условий жизни и тотальной лжи в СМИ.
Иван ждал эту войну: как условия пробуждения, отрезвления, мобилизации духовных сил – как урагана, который сметёт всю ложь, всё иллюзорное и условное, мещанское и потребительское, чем живёт и дышит современный человек.
Теперь он понял, что напрасно ожидал от неё так много: война явилась источником горя и боли для тысяч людей, кого-то разочаровала, кого-то обозлила, кого-то сломала и втоптала в грязь… кто же проснулся?!
Идеи кажутся мёртвыми идолами, толпа проходит мимо, кто-то плюёт в серые невразумительные статуи на ходу, никто не останавливается. Они идут туда, где теплее и сытнее. Так им представляется.
О пролившейся крови и разбросанных взрывами кусках дымящейся плоти никто не помнит: кажется, что это было давно и не у них на глазах, сейчас тусклых и пустых. Речи их фальшивы и всё о пошлости какой-то, всё о дрянце никчемной, мелочной и бессмысленной…
Совсем недавно люди умирали ни за что – просто так, потому что не вовремя вышли на улицу, погибали сами, на их глазах гибли и становились калеками их дети.
Едва прекратились обстрелы центральных районов городов республики, на улицах снова ожил «цивилизованный мир»: в выходные дни кафе и рестораны забиты посетителями, оставляющими за ужин немного больше средней месячной зарплаты; толпами снимаются малолетние проститутки, – впрочем, не всех интересуют деньги, есть среди них и девочки из вполне обеспеченных семей, – разжигание и ублажение похоти стало модным трендом, это «хайпово». Пьянство, наркомания, бездумность и безумство – признак стиля, безразличие к ближнему – норма.
А на окраинах темнеющие от бессильной злости и отчаяния люди считают гроши перед походом в магазин, смотрят в красочный экран и пытаются как-то суетиться, доказывая себе, что живы; но всё больше молчат.
Мир стал иллюзорен, как никогда. Даже вечный гамлетовский вопрос ныне уж не так актуален, и можно было бы перефразировать:
Быть иль казаться – вот в чём вопрос.
В любое время, всегда непросто было найти себя и ещё сложнее – оставаться собой.
Большая удача – встретить тех, кто может показать пример, как правильно жить – до самого конца: жить настоящим человеком, готовым к помощи ближнему и самопожертвованию в любую минуту, и умереть достойно, отдав последний долг своего земного служения.
Эти настоящие, не-кажущиеся, люди приходят из другого, уже минувшего времени, им не знакомы противоречия между «социальными ролями» и «субличностями», выдуманными больным цивилизованностью человеком, они остаются одними и теми же, без поз и кривляний, во всякой ситуации и при любом статусе. Они всегда человеки, доказывая, что можно и должно хранить верность себе – всегда и везде, никогда не падая духом и встречая с улыбкой каждый Божий день.
Примечания
1
Несколько лет спустя, увидев выступление популярного представителя «оппозиции» в Москве, относительно молодого долговязого любителя речёвок и популистских слоганов, Иван отметил их схожесть с Пшиком: «Ну прям два брата-акробата!»
2
Позже, анализируя своё поведение, он пришёл к выводу, что чувствовал себя уверенней, чем некоторые из бойцов, поскольку был наделён должностными полномочиями. Когда-то он читал, что попавшие в аварию люди в состоянии стресса могут не чувствовать боли до пяти минут, а лица, выполняющие при этом служебные обязанности, – до пятнадцати или даже двадцати минут.
3
На высоте бойцы дежурили посменно, по две недели.
4
Сильнодействующий анальгетик анти-шокового действия.

