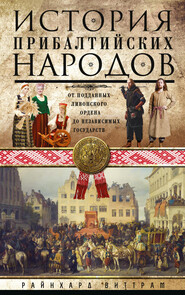скачать книгу бесплатно
Суверены и сущность немецких поселений
После покупки датской части Эстонии Германским орденом политический облик немецких прибалтийских территорий определяли пять германских духовных районов:
1. Рижское архиепископство.
То, в чем было отказано епископу Альберту, получил его второй преемник Альберт Зуэрбер из Кёльна, которого прочили на пост рижского епископа еще в 1229 году. Однако в Ригу он прибыл лишь в 1253 году после смерти епископа Николая, и в 1255 году его назначили архиепископом. Еще в 1251 году к рижскому монастырю были присоединены земли тогда же образованного Земгальского епископства, а в подчинение Рижского архиепископа переданы лифляндские (за исключением Ревальского) и прусские (Самбский, Помезанский и Кульмский) епископы.
Территория архиепископства, в которой архиепископ, как маркграф империи, представлял не только церковную, но и светскую власть, разделялась на две части – ливскую и латышскую, отделенные друг от друга полоской орденской земли.
2. Дорпатское епископство.
Дорпатский епископ (после наделения его леном 6 ноября 1225 года) тоже являлся имперским князем и сувереном. Это была единственная территория, в которую не вклинивались земли ордена.
3. Эзель-Викское епископство.
Для резиденции епископа, который с 1 октября 1228 года также являлся имперским князем и сувереном, первоначально предусматривался замок Леаль, затем ей стал Старый Пярну, чья церковь в 1251 году получила статус кафедрального собора, с 1270-х годов – Хапсаль[61 - Хапсаль или Гапсаль – ныне город Хаапсалу на северо-западе Эстонии.], а потом эпизодически и Аренсбург[62 - Аренсбург – прежнее название эстонского города Курессааре на южном берегу острова Сааремаа.] на острове Эзель, служивший опорным пунктом ордена.
4. Курляндское епископство.
Германский орден, завоевавший Курляндию в одиночку, в 1251 году добился, чтобы ему здесь принадлежала не треть земель, как в остальных территориях, относившихся к архиепископству, в том числе и на острове Эзель, а две трети. Поэтому епископство с резиденцией епископа в городе Пильтен[63 - Пильтен – старинное название города Пилтене на западе Латвии, расположенного на реке Вента.] было разделено на три области, отделенные друг от друга землями ордена. Епископ же, как и прусские епископы, целиком зависевший от ордена, с 1263 года обладал единоличной церковной властью, но с 1290 года вошел в состав соборного капитула[64 - Соборный капитул – коллегия священнослужителей, справляющих службу при архиепископской или епископской церкви. Сначала он выполнял только совещательные функции, но со временем стал оказывать влияние на управление епархией (епископством, архиепископством), а начиная с XII–XIII вв. обладал монопольным правом избирать епископа.]. А вот функции и титул имперского князя он получил лишь в 1520 году, поскольку до того времени Папская курия намеревалась присоединить Курляндию к Пруссии.
Ревальский епископ, будучи викарным епископом[65 - Викарный епископ или викарий – это епископ без епархии. В Римско-католической церкви он определятся как помощник епархиального архиерея. По предложению епархиального епископа он назначается папой.] лундского архиепископа, землями не обладал. Для его содержания были выделены удельные имения.
5. Территория Германского ордена.
Она являлась самой большой и, представляя собой отдельные взаимосвязанные территориальные единицы, простиралась от Финского залива до литовской границы. К ней относился также остров Моон[66 - Моон – шведское название острова Муху принадлежащего Эстонии Моонзундского архипелага.] и части островов Эзель и Даго[67 - Даго – шведское и немецкое название острова Хийумаа Моонзундского архипелага.]. Магистр ордена сначала имел резиденцию в Риге, а затем в Вендене – одном из самых крупных орденских замков. Таких крепостей насчитывалось около шестидесяти, и они защищали границы, а также основные дороги.
Властно-правовое положение ордена в отдельных принадлежавших ему землях было различным. В Харью и Вирланде, где с 1347 года от имени Великого магистра управлял лифляндский магистр, неограниченная власть ордена ограничивалась независимой позицией его вассалов. Всю ее полноту, как в Пруссии, орден имел только в Ервене и Курляндии, поскольку на всю его территорию распространялась епархиальная власть. В Рижском, Дорпатском и Эзель-Викском епископствах Германский орден, будучи наследником ордена меченосцев, находился в ленной зависимости от архиепископа и епископов.
Отношения же с империей определял тот факт, что орден в Лифляндии являлся ответвлением Германского ордена, действовавшего на всей имперской территории. Результаты выборов лифляндского магистра утверждались Великим магистром, а остальные должности занимались самостоятельно.
В свои ряды, первоначально состоявшие преимущественно из уроженцев Нижней Саксонии, орден принципиально не принимал тех, кто родился в Лифляндии, пополняя их рыцарями из старой Германии и Пруссии, а позднее почти только из Вестфалии. В Пруссии же правили уроженцы Средней и Южной Германии, а также выходцы из Рейнской области.
С конца XIV столетия Великий магистр пытался укрепить свое влияние в Лифляндии, расставляя на наиболее важные посты уроженцев Рейнской области, но этому всячески препятствовали вестфальцы. Осуществление же принципа занятия должности лифляндского магистра непосредственно имперскими представителями стало возможным только с 1526 года, после того как Пруссия утратила свое значение как духовная сила. Следует также отметить, что в XVI веке орден в Лифляндии, а также рижский ар хиепископ доказали свою принадлежность к империи, послав делегатов для участия в работе рейхстага и поддержав инвестициями деятельность имперского камерального суда[68 - Имперский камеральный суд – высший судебный орган Священной Римской империи, учрежденный в рамках имперской реформы 1495 г. Явился преемником Королевского камерального суда, находившегося при особе монарха и зависимого от него. С 1527 г. постоянно находился в Шпайере. После разрушения города французскими войсками в 1689 г. суд переехал в Вецлар, где и оставался до ликвидации Священной Римской империи в 1806 г.].
Порядок занятия официальных должностей Германского ордена в Лифляндии в своих деталях отличался от принятого в Пруссии. Это объяснялось тем, что некоторых ведомств здесь просто не было. Вся лифляндская территория делилась примерно на тридцать областей, которые управлялись подчинявшимися магистру комтурами[69 - Комтур, или командор, – должностное лицо из числа братьев-рыцарей, которое управляло определенной областью орденского государства. На него возлагались церковные, административно-хозяйственные и военные функции. Он, в свою очередь, подчинялся ландмейстеру (провинциальному магистру).] и фогтами. Пять из них, а именно из замков Феллин[70 - Феллин – город и крепость на территории Эстонии. Замок, строительство которого было начато в 1224 г. на месте бывшего городища, являлся одним из самых мощных в Ливонии. Полностью уничтожен во время польско-шведских войн в начале XVII в. В настоящее время его руины находятся в городе Вильянди.], Реваль, Ервен, Гольдинген[71 - Гольдинген – замок на реке Виндаве, основанный в 1244 г. и считающийся первым замком, построенным немцами в Курляндии, а также старое немецкое название города Кулдига на западе Латвии в исторической области Курземе.] и Мариенбург[72 - Имеется в виду Мариенбургский замок, развалины которого находятся на острове в южной части озера Алуксне в Алуксненском районе Латвии.], составляли так называемый «внутренний совет», к мнению которого магистр был вынужден прислушиваться.
Магистру непосредственно подчинялся ландмаршал (с резиденцией в замке Зегеволд[73 - Зегеволд – в настоящее время город Сигулда в центральной части Латвии, история которого начинается с момента основания орденом меченосцев замка в 1207 г.]), являвшийся командующим рыцарским войском и «военным министром» ордена. Должность главного финансиста называлась «шафер», и этот служащий располагался в резиденции магистра.
В целом орден в Лифляндии, как и в Пруссии, представлял собой строго централизованную систему должностных лиц, а его доходы складывались из поступлений от сильно развитых индивидуальных хозяйств.
Орден, по сути, до самого конца своего существования являлся вооруженными силами Лифляндии. Кроме братьев-рыцарей, численность которых не превышала несколько сотен (в годы наивысшего расцвета около 500), его войско составляли наймиты или «слуги» окружных начальников (гебитигеров), ленники и вспомогательные солдаты из числа эстонцев и латышей. Последние шли как в конном (свободные крестьяне), так и в пешем строю (простые крестьяне).
Длинные ряды старолифляндских суверенов, насколько можно судить из дошедших до нас источников, составляли практически исключительно немцы. В отношении магистров Германского ордена, большинство из которых происходило из Вестфалии, такое являлось само собой разумеющимся. Однако и прелаты, жизнеописание которых охватывало далекие уголки огромной интернациональной церковной империи, тоже были немцами. Они происходили не только из главных областей переселения германцев в Лифляндию, но и из всех районов, где говорили по-немецки – от Кёльна до Реваля.
Датское же влияние в Эстонии, которое пытались развить четыре датских ревальских епископа и штатгальтере[74 - Штатгальтер – должностное лицо, осуществлявшее государственную власть и управление на какой-либо территории.], в большинстве своем тоже являвшиеся представителями датской короны, со временем закончилось, и то обстоятельство, что рижским архиепископом в 1300–1302 годах был датчанин Изарнус, можно рассматривать как исключение. Управленческие должности на местах, естественно, тоже оказались в руках у немцев.
Уровня епископа Альберта никто из сменивших его церковных иерархов так и не достиг, хотя среди них, конечно, было немало сильных духом и одаренных людей. Среди магистров ордена заметный исторический след, и то в будущем, оставил тоже только один человек – Вальтер фон Плеттенберг.
Суверены и члены соборного капитула были духовными лицами, а братья-рыцари имели отношение к Лифляндии только благодаря своей службе, не являясь продолжателями местных старинных дворянских родов. Немецкий же дух в Лифляндию несли вассалы и жители городов.
Отправными точками расселения на равнинной местности служили замки. Их быстро практически везде стали возводить из камня – строительным материалом служили гранит, известняк и кирпич. Они строились по четырехугольной схеме, разработанной Германским орденом в Пруссии, частично на местах древних окруженных валами замков, исходя из стратегического значения выбираемой точки. И в этой связи поистине впечатляет оборонительная линия, выросшая на восточной границе и представлявшая собой цепь орденских замков и монастырских крепостей, простиравшихся от Дюнабурга[75 - Дюнабург – ныне латвийский город Даугавпилс, основанный рыцарями-меченосцами на берегу реки Западная Двина. В исторических источниках замок впервые упоминается в 1275 г.] и Розиттен[76 - Розиттен – город Резекне на востоке Латвии, называвшийся так до 1893 г., а в 1893–1917 и 1944–1945 гг. – Режица.] на юге через Мариенбург и Нейхаузен[77 - Нейхаузен – замок, расположенный в 7 км от Кёнигсберга, а также населенный пункт вокруг него. С 1946 г. – город Гурьевск Калининградской области Российской Федерации.] до Нейшлоса[78 - Нейшлос – ныне эстонский населенный пункт Васкнарва.] и Нарвы на севере. Нередко, как, например, Феллин и Венден, это были исполинские оборонительные сооружения, построенные по последнему слову техники и неприступные для покоренных племен, да и для русских в то время тоже. Они являлись подлинными оплотами новой власти.
Всего наряду с 60 орденскими замками, как уже отмечалось, было воздвигнуто около 40 монастырских крепостей и 40 замков вассалов. К оборонительным сооружениям следует отнести также три монастыря цистерцианцев, возникших на равнинной местности и получивших названия: Дюнамюнде, Фалькенау[79 - Фалькенау – немецкое название укрепленного цистерцианского монастыря Кяркна (Керкна), развалины которого находятся к северо-западу от Тарту.] и Падис[80 - Падис – немецкое название замка-монастыря Падизе, расположенного в Харьюском районе Эстонии.].
Из названий замков происходили наименования земель вассалов, которые расселялись для усмирения коренного населения. Особенно широко расселение феодального дворянства отмечалось в конце XIII – начале XIV столетия. Причем вначале условия его проживания были поистине спартанскими, и менялись они в лучшую сторону весьма медленно и не одновременно, а по мере укрепления полученных феодалами прав. Некоторые области целиком были переданы в ленное владение и обжиты лишь позже, например, Земгалия[81 - Земгалия (в исторической литературе также Семигалия, на латышском языке Земгале) – одна из пяти исторических областей Латвии, называющаяся так по древнему балтийскому племени земгалов.] – только в XV–XVI веках. В других же областях, таких как земли архиепископа и Эстония, крепкие вассально-ленные владения возникли еще в XIII веке. Однако латышские области земель архиепископа, в отличие от районов, принадлежавших ранее ливам, похоже, были включены в германскую систему ленных отношений значительно позже. Отдельные же крупные феодалы объединили под своей властью огромные территории уже в XIII столетии и явились значительной силой на пути завоевания новых земель.
Орден, являясь по своей сути военной организацией, в вопросах наделения своих членов землями и соответствующими правами был довольно скуп, чего не скажешь о епископах, которые не могли обойтись без вассалов.
В вассалах в Эстонии нуждались и датчане, которые находили их в той же прослойке министериальных родов, из которых происходили феодалы и в остальных областях. При этом определяющими являлись военные способности человека, на его же социальное происхождение внимания практически не обращалось. Поэтому вначале (а с XV столетия снова) ленниками становились и граждане городов. Однако наделение одинаковыми правами представителей различных слоев общества, связанных между собой в основном родственными отношениями, таило в себе опасность размывания граней между ними. Особенно это относилось к выходцам из Нижней Саксонии и Вестфалии. Поэтому нет ничего удивительного в возникновении кровных уз не только с представителями варяжско-русских княжеских семей из областей Западной Двины, но и совсем незнатных родов покоренных народов. То тут, то там отмечалось посвящение в рыцари людей, не имевших германских корней, – ливов, эстов и латышей, которые затем начинали причислять себя к немцам.
Наряду с феодалами-рыцарями в новых землях в помещичьих усадьбах, на пустых местах под защитой замков и монастырей селились и другие немцы, создавая прослойку работников поместий, ремесленников, земледельцев и мелкопоместных дворян, зависимых от феодала. В результате эта средняя прослойка, к которой принадлежало немало людей, не относящихся к немецкой национальности, к концу Средневековья стала играть весьма заметную роль.
Особую группу составляли служивые люди из числа немцев, работавших у сюзеренов в замках в качестве слуг, работников слесарных мастерских и канцелярии, мастеровых, фогтов, ратников и наемных пехотинцев-ландскнехтов. Это была в социальном отношении весьма пестрая публика, представители которой состояли в различных товариществах и назывались «конюшенными» или «чернью». Последнее название было связано с преданием о том, что их заступник святой Маврикий был чернокожим. Этот термин применялся и в отношении определенной прослойки жителей городов, церковных и военных кругов.
Наиболее густозаселенными немецкими поселениями были и остаются города. Из двенадцати возникших друг за другом укрепленных городов три, а именно Рига, Дорпат и Реваль, по средневековым меркам относились к городам средней величины. Наиболее важными морскими гаванями являлись основанные орденом Пернау[82 - Пернау – старое немецкое название портового города Пярну на юго-западе Эстонии.] и Виндау[83 - Виндау – старое немецкое название портового города Вентспилс в Латвии.]. Когда в 1263 году литовцы разрушили епископский город Старый Пернау, орден в 1265 году основал Новый Пернау. Тогда же был заложен Виндау, а немногим ранее Мемель. Позднее Старый и Новый Пернау слились в один город, превратившись в главный порт Дерптского епископства.
Кроме городов возникло почти в два раза больше похожих на них населенных пунктов без крепостных стен и так называемых местечек. Здесь, как и везде на европейском востоке, основание немецких городов несло с собой нечто новое, хотя в большинстве случаев это проходило не по колониальной схеме – поселения вырастали естественным путем из диких корней. Ведь места, где при самом деятельном участии немецких торговцев возводились такие большие торговые города, как Рига, Дорпат и Реваль, крупным купцам были знакомы давно. Но и в городах среднего масштаба, таких как Пернау и Нарва, так же как и в небольших местечках, кипела торговая жизнь. А это способствовало быстрому притоку в них ремесленников. Продолжавшееся переселение немцев из Германии привело к появлению плотной сети личных, родственных и деловых отношений, охватившей в скором времени все немецкие торговые площадки в районе Балтийского моря.
Вначале в этом по большей части принимали участие выходцы из Вестфалии, но и в дальнейшем их преобладание сохранялось. Причем часть из них использовала Любек непосредственно, а другая опосредованно, поскольку данный город тогда был единственным выездным портом. Но и в дальнейшем его роль в этом вопросе еще долго оставалась весьма заметной.
Вестфальским являлся и метод строительства жилых домов, которые сначала возводились из дерева, а позднее, как и магазины, стали сооружаться из камня. По вестфальскому образцу повсеместно строились и зальные храмы, самым крупным из которых являлся Рижский собор, фундамент которого заложил в 1211 году епископ Альберт.
Этот стиль в строительстве сохранялся повсюду вплоть до XIV столетия, когда за образец строительного дела стали брать церковь Девы Марии в Любеке и начали использовать кирпичную кладку. В таком северогерманском стиле был возведен целый ряд знаменитых башен, в том числе и в Ревале.
Германский дух, пронизывающий архитектуру старой Лифляндии, является ярким выражением настроя, царившего в новой немецкой колонии. Простые формы церковных строений, строгость и экономия, присущие всему средневековому архитектурному стилю старой Лифляндии, говорят о трезвом подходе в решении всех строительных вопросов. Однако жесткость не исключала монументальности, можно даже сказать, широты размаха при планировании застройки колонии, что привело к возведению величественных и исполинских строений, о чем хорошо сказал балтийский немецкий искусствовед Георг Готфрид Юлиус Дехио: «В этой архитектуре отчетливо просматривается, что она происходит от людей, повидавших белый свет и поступки которых определяла сила воли. Они бесстрашно проникли в аморфный мир и каждодневным упорным трудом в условиях постоянных жестоких сражений создали новые условия бытия». Растущее благосостояние населения в годы позднего Средневековья способствовало развитию искусства и позволило создать здесь богатые строительные и цветовые формы, которые, правда, подверглись разрушительному воздействию бурных событий последовавших столетий и оказались почти полностью утраченными.
Но и сохранившееся говорит о том, что созидательными силами при этом являлось уважение к закону и благовоспитанность, развитое художественное и строительное искусство, а также высокий уровень образования, что нашло отражение в различных науках, поэзии и исторических описаниях. Хотя от средневековых прибалтийских летописей, написанных на немецком и латинском языках германцами, преимущественно из числа духовных лиц, сохранилось не так и много. Наиболее же древние памятники письменного искусства на латышском и эстонском языках относятся только к временам Реформации[84 - Реформация – широкое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе в XVI – начале XVII в., направленное на реформирование католической церкви.].
При этом многие поэтические произведения средневековых лифляндских поэтов оказались утраченными. К числу же сохранившихся и наиболее значимых памятников литературного искусства относится стихотворная лифляндская хроника, написанная на рубеже XIII–XIV веков на средневерхненемецком языке неизвестным поэтом, которым предположительно являлся один из рыцарей ордена, описавший события 1280–1290 годов зачастую как их непосредственный участник. Его произведение пронизывает преклонение перед силой, мощью германского оружия и осознание важности рыцарских ценностей, к которым относилось и уважение к мужеству языческого противника. В нем описывается и знамя, под которым сражались латыши во время одной из битв на стороне рыцарей ордена против союзных литовцам земгалов. Это было полотнище с широкими бордово-красными полосками, располагавшимися по краям, и узкой белой полосой посередине, которое с 1918 года стало государственным флагом Латвии.
Наряду с автором стихотворной лифляндской хроники заслуживает упоминания и дорпатский учитель, монах из ордена кармелитов[85 - Кармелиты – монашеский орден, связанный традициями с духовностью монахов-отшельников с горы Кармель и признающий своими небесными покровителями пророков Илию и Елисея, а также святого Илариона Великого.] Степан, предположительно родом из Любека. Он являлся редактором написанной на нижненемецком диалекте поучительной «Книги по игре в шахматы» (середина XIV века). Ее тоже можно отнести к поэзии, которую, как и изобразительное искусство того времени, отличает то, что она относится к колониальному произведению, имеющему свое своеобразие с чертами особой судьбы – в Средние века в Лифляндии университета не было, но связи с университетами Германии, Франции и Италии отчетливо ощущались.
В монастырях, у прелатов и магистров ордена были свои библиотеки. Однако в XVI веке все они оказались разрушенными, а содержавшиеся в них книги разошлись по рукам. Это относится, прежде всего, к монастырским библиотекам в Риге, Ревале, Падисе и Дорпате, к архиепископским хранилищам книг в Кокенхузене[86 - Кокенхузен – старое немецкое название латвийского населенного пункта Кокнесе, расположенного примерно в 100 км к востоку от Риги.], Роннебурге[87 - Роннебург – историческое название населенного пункта Рауна в северной части Латвии.] и Риге, а также библиотеке ордена в Вендене.
Из средневековых учебных заведений после неоднократного запустения до наших дней дожили лишь соборные школы в Ревале и Риге, а вот монастырские школы, как и соборные школы в Дорпате и Пернау, с лица земли исчезли. Тем не менее к носителям духовного Просвещения, каковыми являлись священники, присоединялись, насколько можно судить по их происхождению, и представители коренных народов. С XIV столетия они стали преподавать в светских городских школах во всех немецких землях.
Немецкие поселения, представлявшие собой поселки с разбросанной застройкой, оказали глубокое влияние на судьбы народов Прибалтики, но они не служили целям полной колонизации. При этом орден, конечно, заботился о крестьянах из числа германских переселенцев, о чем однозначно можно судить по записям лифляндского вице-магистра Георга в Любеке от 27 апреля 1261 года. В них говорится, что в XIII веке после тяжелого поражения у озера Дурбе орден обещал желавшим переехать в Лифляндию немецким крестьянам освобождение от налогов сроком на шесть лет и всяческую помощь.
Однако немецкие крестьяне на этот призыв не откликнулись, и причины этого до сих пор не понятны. Ведь попытки объяснить это тем обстоятельством, что сухопутные пути следования оказались перекрыты литовцами, а ехать морем крестьяне опасались, действительности не соответствуют. Во-первых, один сухопутный путь из Пруссии в Лифляндию, пусть даже опасный и частично на небольшом отрезке пролегавший по чужой территории, существовал, и им пользовались довольно часто. Он шел по побережью через Мемель и Поланген[88 - Поланген – до 1917 г. официальное название города Паланга на западе Литвы.]. А во-вторых, на кораблях крестьяне передвигались охотно, о чем свидетельствуют те же записи от 1261 года. В них содержится прямое распоряжение о необходимости предоставить суда для желающих переехать и подготовить для этого Мемель.
Больше понимания в попытке получить ответ на поставленный вопрос дает рассмотрение природных условий в Лифляндии, а также особенностей ее политического положения и социальных отношений. На севере земля была тверже, а климат гораздо суровей, чем в Пруссии. В общем, это был неласковый и далекий край. Место на корабле стоило дорого, и в целом переселение в Лифляндию требовало больших усилий, которые вряд ли могла компенсировать притягательность новых мест. В результате для расширения крестьянских поселений, похоже, не хватало людей.
Помимо того, местных крестьян, которые были хорошо приспособлены к тамошним жизненным условиям и не столь притязательны, как колонисты, при существовавших условиях заменить оказалось не так-то легко. При этом важным обстоятельством выступало то, что прибывшие землевладельцы не могли свободно передвигаться по лесам, а при создании поселений на месте выкорчеванных деревьев поневоле брали себе компаньонов, что повышало затраты. К тому же дикие на первый взгляд местности оказывались отнюдь не безлюдными. В результате, поскольку землевладельцам приходилось тратиться на вооружение, что сильно их перегружало, а политические и материальные силы в крае были сильно раздроблены, финансовые возможности колонистов оказывались весьма ограниченными. И эта проблема, очевидно, оставалась нерешенной и во времена ранних завоеваний, и после 1261 года. Таким образом, предпосылки для колонизации здесь заметно отличались от тех, что были свойственны Пруссии.
К тому же в Лифляндии хватало и чужих поселений. На эстляндском побережье и на островах примерно с 1270 года, скорее всего пользуясь поддержкой различных заинтересованных лиц – Эзель-Викского епископа, отдельных феодалов и предпринимателей, а также, возможно, города Реваль, обосновались шведские рыбаки, охотники за тюленями, лоцманы и даже крестьяне. При этом постройка шведских поселений на побережье должна была обходиться гораздо дешевле, чем обоснование германских крестьян в глубине края. В тамошних условиях само собой получилось так, что, устремляясь в Финляндию, шведы стали расселяться и на побережье Финского залива. При этом, похоже, можно различить два периода такого расселения: первый начался с середины XIII столетия, а второй – с крупного восстания эстонцев в 1343 году, который продлился до конца Средних веков.
Борьба Германского ордена за господство в Лифляндии
Германский орден попытался установить в Лифляндии единую властную систему, намереваясь добиться там такого же положения, что и в Пруссии. Однако, несмотря на все успехи, эта «борьба за унитарное государство», определявшая внутреннее содержание развития этого края в Средние века, к намеченной цели не привела – слишком мощными оказались противодействовавшие силы. Но и архиепископ, в чьем лице воплощались в жизнь традиции, заложенные основателем государства Альбертом, и который был неутомимым соперником ордена на протяжении двух веков, также не обладал необходимой силой для объединения края под своим началом. Он не мог решить задачу, исторически предназначавшуюся ордену. В результате противоборство между орденом и архиепископом, принимавшее порой весьма ожесточенный характер, являлось в определенной степени выражением внутренней слабости германской колонии в Лифляндии, чему еще со времен Альберта способствовала и политика Папской курии, выражавшаяся в принципе: разделяй и властвуй.
Решающее значение, определявшее вес и роль в крае, имело обладание самым большим и наиболее важным лифляндским городом Ригой. Находившийся в ней чиновник, который первоначально был всего лишь епископским фогтом, в течение XIII столетия превратился в весомого городского служащего, а сам город, по документам как минимум с 1282 года, входил в систему опорных пунктов Ганзы. Поэтому утверждение о том, что кто владеет Ригой, тот и правит бал, не теряло своей актуальности до XVI века включительно.
В 1274 году орден добился от Рудольфа I[89 - Рудольф I (1218–1291) – король Германии с 29 сентября 1273 г., первый представитель династии Габсбургов на престоле Священной Римской империи и основатель Австрийской монархии Габсбургов.] переноса в Ригу гражданского суда, но в 1297 году в городе из-за пустячного повода произошли волнения, на самом деле вызванные ненавистью жителей к растущему гнету со стороны рыцарей. Эти волнения, выразившиеся, в частности, в том, что горожане взяли штурмом и разрушили орденский замок, а также казнили комтура и братьев-рыцарей, имели далекоидущие последствия. Орден затаил обиду, но с местью не спешил, отложив ее на несколько десятилетий. Постепенно ему удалось разрушить достигнутое архиепископом единство в стане своих врагов в Лифляндии и на время заключить архиепископа под стражу. Однако Рига в союзе с язычниками-литовцами добилась от парламента Любека перемирия.
Такой баланс сил орден, конечно, не устроил, и он стал поднимать край на борьбу. В 1304 году им был заключен союз с епископами и феодалами Дорпата и Эзеля, а также датскими рыцарями, а в 1305 году куплен цистерцианский монастырь Дюнамюнде, который рыцари превратили в комтурство[90 - Комтурство – минимальная административная единица в составе Германского рыцарского ордена.] и стали оттуда угрожать морскому сообщению Риги – основе основ жизнедеятельности города. Тогда архиепископ прибег к единственному оставшемуся у него средству – он отправился в Авиньон[91 - С 1309 г. по 1378 г. резиденция пап находилась не в Риме, а в Авинь оне во Франции. В 1309 г. Климент V, француз по национальности, ставший папой вскоре после поражения Бонифация VIII в конф ликте с королем Франции Филиппом IV Красивым, переехал в Авиньон. Этот город, принадлежавший графам Прованса, папа Климент VI выкупил в 1348 г. в свою собственность.] и возбудил против ордена судебный процесс, проходивший с переменным успехом – сначала орден был подвергнут опале, но затем это решение было пересмотрено.
Однако в крае орден был настоящим властителем. В 1316 году он заключил сепаратное соглашение, получившее название Зегевальдского союза, с вассалами рижского архиепископа и рижским Домским капитулом с тем, чтобы ослабить позиции архиепископа по всей Ливонии и оставить его без верных союзников, а в 1319 году добился победы в Папском суде, который признал правомерность покупки Дюнамюнде. Судя по всему, у ордена были длинные руки, но основной вопрос так и оставался нерешенным: удастся ли рыцарям изменить соотношение сил на северо-востоке края в свою пользу?
В Риге орден смог достичь своей цели лишь в течение следующего десятилетия. Если не считать спровоцированных рижанами и поощряемых ими нападений литовцев, представлявших собой большую опасность, и с которыми рыцари до конца справиться не могли, ордену удалось добиться многого – в марте 1330 года его магистр Эберхард фон Монхайм после шестимесячной осады поставил Ригу на колени. Город признал верховную власть орденского магистра, предоставил право участвовать в заседаниях городского совета комтуру рижского замка, отказался от половины судебных притязаний, разорвал связи с литовцами, обязался помогать ордену во всех его военных кампаниях, а кроме того, был вынужден выделить место для постройки нового укрепленного замка. В 1332 году император Людвиг Баварский закрепил достижения ордена, провозгласив его полное верховенство над Ригой.
Однако архиепископы не прекратили борьбу, продолжая подавать протесты в Папскую курию. Сначала они добились успеха, и в 1354 году орден несколько раз подвергался опале, а в 1359–1360 годах курия приняла решение в пользу архиепископа, признав за ним верховную власть над Ригой. Под угрозой строжайшего наказания орден был вынужден уступить.
В те годы орден под руководством величайшего Великого магистра Винриха фон Книпроде добился в сражениях с литовцами ощутимых успехов – в 1362 году им был взят город Кауэн[92 - Кауэн – ныне литовский город Каунас.]. В то же время, несмотря на имевшийся договор о нейтралитете, рыцари оказались втянутыми в противостояние между городами Ганзы и датским королем Вальдемаром IV Аттердагом, постоянно нарушавшим условия перемирия. Хорошо осознавая угрозу неизбежного столкновения с Данией, Великий магистр понимал, что ему необходимо укрепить свои позиции в Лифляндии, а для этого необходимо было чем-то пожертвовать.
Не без сильного давления со стороны соседних государств он согласился на переговоры, и 7 мая 1366 года в Данциге[93 - Данциг – немецкое название города Гданьск, сегодня относящегося к Польше, но прежде располагавшегося в Пруссии. Немцы стали селиться в городе с XII в., а 14 ноября 1308 г. он был захвачен рыцарями Тевтонского ордена и с 1361 г. входил в состав Ганзейского союза.] был подписан договор, согласно которому Рига возвращалась под юрисдикцию архиепископа, но взамен орден выходил из-под его ленной зависимости. Однако папа этот договор не одобрил, и поэтому он так и не вступил в силу. К тому же такая договоренность не устраивала и обе заключивших его стороны.
Вскоре после этого спор разгорелся с новой силой, перейдя в другую плоскость и представляя собой, по сути, борьбу между духовным и материальным началом. Для придания большего политического веса членам капитула и более тесной привязки интересов феодальных родов к архиепископству в 1373 году архиепископ заменил премонстрантские правила рижского соборного капитула на августинские[94 - Августинцы – один из римско-католических орденов, названный в честь святого Августина Гиппонского.]. Орден же старался распространить свое могущество, используя для этого все свои политические, финансовые и военные средства, а также умело играя на противоречиях между монастырями. В результате в 1373 году город Реваль написал папе, что без защиты рыцарей в Лифляндии все оказалось бы разрушенным, а «вся страна» вновь была бы занята неверными. В Эзеле же ордену удалось посадить в епископское кресло племянника Великого магистра Винриха фон Книпроде, на сторону которого перешла часть архиепископских вассалов.
Орден вновь доказал, что, кроме него, никто не обладал в Лифляндии всей полнотой власти и что он намерен ее укреплять. Когда же в 1388 году в его залоговое владение перешел стратегически важный замок Икскюль, находившийся в вассальной и ленной зависимости от архиепископа, то архиепископ выхлопотал у папы очередную буллу об отлучении ордена от церкви, а с 1391 года лично развил за границей кипучую деятельность, создавая враждебные ордену политические союзы.
Тем временем орден конфисковывал доходы архиепископства. Еще в июле, да и в октябре 1392 года тоже, отношение к нему в Риме было чрезвычайно плохим. Но затем внезапно произошел поворот на сто восемьдесят градусов, что явилось следствием возросших финансовых возможностей ордена и успехом в Риме орденской дипломатии, которая без всяких сомнений учла большие политические амбиции Папской курии. В результате в период начиная с осени 1393 года и кончая весной 1394 года на свет появилось несколько булл, провозгласивших присоединение архиепископства к ордену. Архиепископом же стал двоюродный брат Великого магистра Иоганн фон Валленроде. Отныне право занимать пост архиепископа, а также члена соборного капитула получал исключительно только брат-рыцарь, а само архиепископство становилось частью Германского ордена.
Тем не менее, несмотря на столь большой успех, ордену еще долго пришлось бороться за установление своего господства, ведь его победа не была окончательной – в Дорпате рыцарям сразу закрепиться не удалось, а сам дорпатский епископ Дитрих Дамеров стал душой сопротивления ордену в Лифляндии. Этому епископу, путем привлечения на свою сторону Литвы и знаменитых пиратов Балтийского моря братьев-витальеров, удалось создать антиорденскую иностранную коалицию.
Однако дипломаты Великого магистра Конрада фон Юнгингена смогли разрушить эту коалицию, а его магистр в Лифляндии одержал ряд военных побед. И все же урегулирование спорных вопросов произошло только в середине июля 1397 года в Данциге при определенном учете интересов Пруссии. Оно завершилось в пользу лифляндского подразделения Германского ордена, который находился в то время перед лицом новой внешней угрозы, возникшей в результате заключения в 1386 году брака между Великим князем Литовским Ягайло и польской королевой Ядвигой, а также объединения в 1397 году Скандинавских государств в Кальмарскую унию[95 - Кальмарская уния – союз между тремя северными государствами: Данией, Швецией и Норвегией, просуществовавший с 1397 по 1523 г. Власть была сконцентрирована в руках одного правителя – королевы Дании Марго, а впоследствии ее сына Эрика.].
Тем не менее результаты встречи в Данциге для лифляндского подразделения Германского ордена оказались достаточно плохими. Несмотря на то что инкорпорация Рижского епископства к ордену сохранялась, он не мог рассчитывать на призыв в свое войско монастырских вассалов и обязан был следовать тяжелому для него приказу Великого магистра Конрада фон Юнгингена в отношении порядка подчиненности сюзеренов, что очень отрицательно сказалось на ленном наследном праве феодалов в Харью и Вирланде.
Весь же XV век прошел под знаком заката власти Германского ордена, начало которому положил несчастливый для него 1410 год, хотя при частичном вмешательстве лифляндских рыцарей после битвы при Танненберге[96 - Битва при Танненберге, или Грюнвальдская битва, – решающее сражение, происшедшее 15 июля 1410 г., во время которого союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витовта одержал решающую победу над войском Германского (Тевтонского) ордена.] Великому магистру Германского ордена Генриху фон Плауэну и удалось отстоять замок Мариенбург. Поэтому при заключении мирного договора в городе Торунь в 1411 году присутствовал и лифляндский магистр.
Отношения Лифляндии с Пруссией не являлись однозначными и определялись то лифляндскими интересами, то прусским влиянием. При этом большое значение имела помощь, которую с 1454 года лифляндский магистр оказывал Пруссии в ее решающей войне с прусскими племенами и стоявшей за ними Польшей. Конечно, Торуньского мира 1466 года[97 - Имеется в виду второе соглашение, заключенное 19 октября 1466 г. Оно подтвердило принадлежность Польскому королевству всей Пруссии, а также закрепило переход к нему западной части владений Германского ордена – Померании в районе Данцига, Хелминской и Михаловской земель, земель по Висле с городами Мариенбург (Мальборк) и Эльбинг (Эльблонг), а также епископства Вармия в Пруссии. После этого территория ордена сократилась почти вдвое. По этому же договору Лифляндский (Ливонский) орден был объявлен независимым от Германского (Тевтонского) ордена.] избежать не удалось, но орденское государство как таковое было спасено.
Положение ордена в Лифляндии заметно осложняли распри между различными землячествами, в первую очередь между выходцами с Рейна и из Вестфалии, что в значительной степени мешало довести до победного конца борьбу с притязаниями епископов. Временами дело доходило даже до приостановления инкорпорации епископства. Так, в 1426 году Мартин V[98 - Мартин V (1369–1431) – папа римский с 11 ноября 1417 г. по 20 февраля 1431 г.] возвратил рижскому соборному капитулу августинские правила, а начиная с 1435 года орден был вынужден признавать их и в будущем. Однако в вопросах традиций он все равно вышел победителем – в 1451 году архиепископство было окончательно инкорпорировано. Тем не менее борьба за власть продолжалась.
Последним выразителем претензий архиепископов на власть явился дослужившийся до должности канцлера Великого магистра уроженец города Торунь Сильвестр Штодевешер, начавший свою карьеру как сторонник ордена, а затем, уже будучи архиепископом, превратившийся в его лютого врага. Антагонизм крылся в рижском вопросе. Несмотря на решение папы от 1360 года, подтвержденное в 1425 году, подлинным хозяином города оставался орден. В 1435 же году между магистром ордена и архиепископом было заключено перемирие на двенадцать лет.
Перед лицом опасности возникновения в Лифляндии союза городов по прусскому образцу[99 - Имеется в виду так называемый Прусский союз – организация немецких городов и духовенства, созданная в 1440 г. для противодействия в союзе с поляками Тевтонскому ордену.] архиепископ Сильвестр пошел с магистром на соглашение, поделив с ним власть над Ригой, что было закреплено в Кирхгольмском договоре от 30 ноября 1452 года. Это явилось временным компромиссом, поскольку как только одна из сторон чувствовала себя достаточно сильной, то старалась вытеснить другого участника договора из города. В частности, такая попытка была предпринята архиепископом весной 1454 года. Вначале она казалась успешной, но еще осенью того же года закончилась полным провалом, так как ордену удалось переманить на свою сторону архиепископских вассалов.
В свою очередь несколько позже, уже при магистре Бернхарде фон дер Борхе, орден тоже попытался взять верх, что привело к многолетней ожесточенной борьбе – архиепископ, который в 1474 году был вынужден на шестьдесят лет отказаться от суверенного права в отношении Риги, заключил союз со шведом Стеном Стуре[100 - Стуре Стен Старший (1440–1503) – регент Швеции с 16 мая 1470 г. по 18 октября 1497 г. и с ноября 1501 г., который своей деятельностью подготовил окончательное расторжение Кальмарской унии и восстановление шведской государственности.] и выступил с инициативой отлучения ордена от церкви с намерением вытеснить его из края. Однако высадка шведов, которым Сильвестр обещал отдать земли ордена, привела к объединению лифляндских племен под руководством магистра, и весной 1479 года он выступил против архиепископа с войском. Вассалы бросили своего архиепископа, и архиепископство было магистром оккупировано. Сам же архиепископ, закрывшийся от рыцарей в своем замке в Кокенгузене, попал в плен.
В Папской же курии орден успеха не добился, да и город Рига тоже не хотел признавать его главенство – в 1484 году горожане даже несколько раз разрушали рижский орденский замок. Тем не менее, несмотря на растущую русскую угрозу, в 1491 году ордену все же удалось победить жителей Риги, чему способствовало то обстоятельства, что с 1485 года на его сторону стал новый и более сговорчивый архиепископ. А 9 января 1492 года Кирхгольмский договор был возобновлен.
Под руководством же магистра Вальтера фон Плеттенберга (в 1494–1535 годах) орден пользовался в крае уже безоговорочной властью. Однако к тому времени мир сильно изменился. Не успели противодействующие ордену силы покориться, как политические устои духовной жизни старой Лифляндии были до основания потрясены Реформацией. Тем не менее даже в таких условиях у ордена хватило сил и возможностей придать краю новый государственный порядок.
Рыцарство. Крестьянство. Города
Настоящими победителями из междоусобной борьбы лифляндских сюзеренов вышли немецкие города. И это обстоятельство наложило самый серьезный отпечаток на все дальнейшее развитие края. Конечно, отдельные представители суверенной власти здесь тоже успешно продвигали абсолютистские тенденции, характерные для Западной и Центральной Европы. Среди таких феодалов выделяется магистр Вальтер фон Плеттенберг, а из числа епископов в первую очередь следует упомянуть Иоганна Кивеля, являвшегося в 1515–1527 годах епископом Эзеля, и Иоганна Бланкенфельда, мудрого рижского архиепископа в 1524–1527 годах, прославившегося еще и как дорпатский епископ в 1518-1527 годах.
Однако возникновение подобных тенденций было возможно только на землях, непосредственно подвластных ордену, а не во всей Лифляндии. В результате сильные германские фамилии смогли там утвердиться и еще в Средние века придать краю четко выраженные черты, духовную составляющую которых позже переняли пришедшие туда иноземные правители.
Сословие феодалов развивалось в Лифляндии на основе усовершенствованного саксонского ленного права. Наделение леном осуществлялось главным образом с правом передачи его по наследству по мужской линии, что хорошо просматривается в дошедших до нас частных лифляндских сборниках обычного права, работах аспирантов, а также в «Саксонском зерцале»[101 - «Саксонское зерцало» – старейший и для своего времени самый значительный свод немецких законов, своеобразный сборник германского права, составленный около 1230 г. немецким юристом Эйке фон Репковом.]. В Харью и Вирланде в 1315 году такое право ввел еще датский король Эрик VI.
Ленное право, или так называемое Вальдемар-Эрихское право, введенное датскими королями Вальдемаром и Эриком, сохраняло силу в отношении монастырей на протяжении всего XIV столетия, а старинное рыцарское право было переработано. К этому веку относится также и лифляндский свод законов относительно обычного и ленного права, явившегося переработкой «Саксонского зерцала». Однако так называемое «Среднее лифляндское рыцарское право» появилось еще до 1422 года, которое в XVI столетии было вновь переработано.
Представители рыцарства, возникшего первоначально как профессия, основанная на рыцарской боеспособности, постепенно превращались в родовых дворян, проживавших на одной территории и связанных между собой одной верой, а также кровными узами. Позднее, после создания орденской территории, к этому добавилась еще и общность интересов. Устремления феодалов основывались на тесном единении и сплочении их усилий в получении большего наследственного права за счет расширения своих ленных угодий и гарантированного учета их голоса в земельном правительстве.
При этом примером и образцом для них служило положение рыцарей в Харью и Вирланде, которые в условиях довольно слабого положения датских войск еще в середине XIII века, точнее, к 1259 году образовали корпоративное товарищество и очень скоро добились значительного самоуправления. Во всяком случае, именно к 1282 году относится первое упоминание о действовавшем там земельном правительстве, представлявшем собой назначенных королем советников из числа рыцарей, которые вместе с королевским наместником составляли верховный земельный суд и высший орган управления. Королевский совет, превратившийся в земельное правительство, дополняли самообновляемые местные советы рыцарей, собиравшиеся под руководством рыцарских капитанов на мантаги[102 - Мантаг – собрание всех вассалов архиепископства.]. Вальдемар-Эрихское ленное право закрепило передачу ленных угодий по наследству и наделяло вассалов правом вершить суд над проживавшими в них крестьянами.
Став в 1346 году полноправным хозяином в крае, орден не смог внести какие-либо изменения в положение рыцарей в Харью и Вирланде. Более того, в конце XIV века он даже был вынужден пойти на очень важную уступку – милостью Конрада Юнгингена от 1397 года обратный переход в собственность ленного имения вассала в случае его смерти стал невозможен. Все имущество и земельные наделы отныне доставались по наследству родственникам до пятого поколения включительно, в том числе и по женской линии. Таким образом, право сюзерена распоряжаться выделенным вассалу ленным владением было практически прекращено.
В епископствах участие вассалов в земельных правительствах просматривается уже в XIII столетии, что является само собой разумеющимся, ведь епископы как в военное, так и в мирное время не могли обойтись без своих ленников. В XIV же веке развитие союзов вассалов в земства было завершено, а в XV столетии их политический вес стал проявляться все сильнее.
Епископские вассалы, которые поддерживали орден в борьбе против их духовных сюзеренов, тоже одни за другими получили расширение своих прав на наследование. Сначала в 1452–1454 годах это коснулось Эзель-Викского и Дорпатского епископств, а затем и большей части вассалов архиепископа, когда в 1457 году архиепископ Сильвестр Штодевешер издал соответствующее послание. Эти вассалы уже в XIV веке тоже обладали правом вершить суд над крестьянами, проживавшими в их ленных угодьях.
В отличие от вновь прибывавших в Лифляндию господ, рыцари края по мере достижения все новых успехов в политической жизни все серьезнее ощущали себя истинными выразителями его интересов. Причем дуализм, свойственный старейшему германскому территориальному государству, в старой Лифляндии больше всего ощущался именно в землях, принадлежавших епископам. Ведь ленную присягу вассалов определял второй пункт старинного рыцарского права, который объясняет их отношение к епископам и в целом поведение балтийского рыцарства, как, впрочем, и всех прибалтийских немцев в более поздние времена. А вот вассалы ордена, проживавшие за пределами Харью и Вирланда, получили такие же наследные права и права вершить суд над крестьянами только после прекращения господства ордена в крае в 1561 году.
Что же касается крестьянства, то по мере укрепления в крае лифляндских феодалов его права постоянно ограничивались. Наделение вассалов ленами и сюзеренным правом вершить суд над крестьянами сначала не отразилось на социальном положении латышей, ливов и эстов. Наоборот, частные имущественные права покоренных народов, например на возделываемые поля и водоемы, были во многих случаях однозначно подтверждены. И только потом по мере укрепления и развития собственного хозяйства вассалов общественно-правовые нагрузки, возложенные на покоренные народы, постепенно стали превращаться в экономическую зависимость, что, в общем, было характерно для процесса возникновения средневековой сеньоральной власти во всей Европе. Можно сказать и так – в главных своих чертах этот процесс в Лифляндии соответствовал тому, что происходило в других восточногерманских колонизируемых областях.
Усиление экономического интереса феодалов, рост потребности в привлечении местных жителей для работ на своих полях, недостаток рабочей силы в слабозаселенных районах, а также постоянно растущая задолженность крестьян своему сюзерену способствовали закабалению крестьянства. Договоренности же с вождями лифляндских племен о выдаче беглых привели в XV столетии к закреплению крестьян на клочках земли и их крепостной зависимости. Когда к 1500 году право на владение землей сменилось феодальной властью сеньора, это привело к усилению крестьянского бремени и прежде всего увеличению оказываемых крестьянами услуг, ставших их главной обязанностью. Вместе с тем происходил и рост благосостояния, который не оставил в стороне и крестьянство. Поэтому его рабочее пространство в годы позднего Средневековья и в XVI веке нельзя рассматривать слишком прямолинейно. Ведь крестьян привлекали не только к труду на полях, но и к другим видам деятельности, в том числе и к торговле. Кроме того, они торговали также уже в своих интересах с соседями в России и на море.
Потерю крестьянством свободы передвижения не могла предотвратить даже потребность городов в притоке рабочей силы, что привело к ожесточенной и длительной напряженности в отношениях Реваля с аристократией. Справедливое изречение о том, что «городской воздух уже давно несет с собой свободу», превратилось в норму городского права балтийских городов лишь значительно позже – сначала в 1515 году в Ревале, а в 1543 году и в Риге. Но беглых крепостных большие города не выдавали и раньше.
До потери старой Лифляндией своей самостоятельности во всех ее областях сохранялось несколько категорий свободных крестьян, среди них и постепенно исчезающая прослойка зажиточных людей из числа покоренных народов. Кроме не попавших в крепостную зависимость или вновь освобожденных от нее крестьян-ростовщиков в рыцарские времена существовали также малые сюзеренные вассалы, которые в конном строю сопровождали на битву своего господина. Наиболее известными среди таких свободных крестьян являлись так называемые «куршские короли»[103 - «Куршские короли» – конфедерация шести родов потомков местных вассалов Ливонского ордена, существовавшая в XIV–XX вв. в окрестностях города Кулдига в Курляндии на территории сегодняшней Латвии. Они происходили из вождей древних куршей (древнелатышская народность), которые в XIII в. добровольно приняли крещение и помогали ордену в борьбе с язычниками, за что им была дана свободная от всяких податей и трудовых повинностей земля.]. Одного такого «короля», а именно Андреаса Пеннека, магистр ордена Вальтер фон Плеттенберг в 1504 году наградил даже небольшим участком земли за отличия в ратном деле против русских. В войнах с русскими куршский король обычно выступал в качестве знаменосца курляндского крестьянского отряда. В Ервене, судя по всему, свободные местные жители, обязанные нести воинскую повинность, тоже составляли многочисленные отряды, прибывая для участия в битвах с русскими с собственными лошадьми и вооружением.
В политической жизни, правда, эта прослойка большой роли не играла. Более того, находясь с другими не немецкими крестьянами в одной юрисдикции, она уже в XVI веке стала исчезать. Исключение составили только продолжавшие процветать свободные крестьяне, первоначально принадлежавшие вождю ливов и проживавшие в районе Кирхгольма[104 - Кирхгольм – ныне латвийский город Саласпилс.], а также «куршские короли» в семи деревнях недалеко от замка Гольдинген, численность которых, по официальным данным 1853 года, составляла около 400 человек обоего пола и существующих до сегодняшнего дня. Однако в целом судьба латышей, и в первую очередь ливов, растворившихся в результате глубоких социально-исторических преобразований в массе латвийского народа, как, впрочем, и эстов, на протяжении пяти веков тесно связана с историей развития в этом крае сельского хозяйства.
Наряду с феодальными владениями большую роль в политической жизни Лифляндии постепенно стали играть основанные орденом и епископами три больших города – Рига, Дорпат и Реваль. Численность их жителей к концу Средних веков соответственно оценивалась в 8000, 6000 и 4000 человек. А вот небольшие города, которых, в отличие от Пруссии, насчитывалось не так уж и много, большого влияния не имели. Причем развитие городского права происходило не одинаково.
В Риге, где первоначально было введено германское городское право[105 - Городское право – это система правовых норм, которые регламентировали социальные, политические и экономические отношения в городах Европы в Средние века.] готландского города Висбю, в конце XIII века оно оказалось замененным на гамбургское право, которое в дальнейшем развилось в рижское право и распространилось на большинство других лифляндских городов, в частности на Дорпат, Хапсаль, Вейсенштейн, Феллин, Венден, Гольдинген, Виндау, Пильтен, Газенпот и другие. В целом рижское право получило семнадцать городов. При этом юридические инструкции для всех них давал суд Риги.
В Ревале в 1248 году сначала было введено любекское право, которое перешло оттуда в Нарву и Везенберг[106 - Везенберг (в русских летописях Раковор) – немецкое название города Раквере, расположенного на севере Эстонии.]. Апелляции по вопросам морского права некоторое время из них шли в Висбю, а с XIV века – в Любек. О том, насколько тесными в XIII столетии являлись связи Реваля с Любеком, можно судить по заявлению ревальского городского совета от 1257 года, которое гласило: «Оба города принадлежат друг другу, как две руки на распятии».
В германских городских советах лифляндских городов всегда заправляли аристократы, но его состав дополняли представители купечества. Тем не менее в правовом отношении до патрициата[107 - Патрициат – в данном случае высший слой населения средневековых городов Западной Европы, закрепивший за собой особые права и привилегии в городской общине.] ни в одном из них дело не доходило – лифлянские города оставались колониальными городами, численность населения которых ввиду оттока и притока людей постоянно менялась.
Городской парламент в них организовывался по примеру метрополии артельным образом, правда, в Ревале в первое время ощущалось сильное влияние Дании. Гильдии же, обнаруживающиеся уже в XIII столетии, первоначально представляли собой чисто религиозно-благотворительные и компанейские братства без разделения по профессиональной принадлежности. В Риге из Гильдии Святого Креста и Святой Троицы, возникшей, как свидетельствуют находки, в 1252 году, в 1352 году развилась гильдия, получившая в дальнейшем название Малая гильдия Св. Иоанна, а затем Цех Зоэста, объединившая всех ремесленников, а в 1354 году – Общая компания торговых людей, называвшаяся Большой гильдией или Гильдией Св. Марии, превратившейся в Цех Мюнстера. В Ревале же среди всех прочих существовали Гильдия святых мощей (наиболее ранние находки указывают на XIII век), Гильдия Св. Канута (находки указывают непосредственно на XIV век) и объединившаяся с ней в XVII столетии Гильдия Св. Олафа (так называемая Малая гильдия). Особая же гильдия купцов (так называемая Детская гильдия или Большая гильдия) впервые упоминается в Ревале в 1363 году.
Иногородние немецкие купцы в лифляндских городах объединялись в особые братства, которые по имени их святого покровителя святого Маврикия, так же как и конюшенные в замках, назывались «чернью». В городах, в частности в Риге и Ревале, где их объединения сохранялись до 1939 года, это название продолжало жить дальше. При этом руководство гильдий, так же как и ремесленников-одиночек, составляли выбранные старосты и старейшины, которые в XVI веке создали специальный закрытый орган – банк старейшин.
Облик средневековых городов в Прибалтике, как и Любека, сохранялся в единстве их композиции до Второй мировой войны, хотя и в Ревале, и Риге, и Дорпате, и особенно в маленьких городках он сильно пострадал во время войн и разрушительного воздействия времени. В частности, в Риге, кроме старого собора с его многократно возведенными новыми башнями, сохранилась единственная оборонительная башня (Песчаная или Пороховая башня), зал с одним нефом бывшей Большой гильдии XIII века и до Второй мировой войны здание «черни», которое, так же как и в Данциге, раньше иногда называли домом бюргерских собраний, посвященных памяти короля Артура.
О средневековом Дорпате напоминают практически только руины величественного собора и церковь Святого Иоанна. В Ревале же, кроме костелов, сохранились оказавшиеся необычайно прочными большие части городских оборонительных сооружений – крепостные стены, ворота и 17 башен, а также множество впечатляющих общественных построек. К ним относится единственная сохранившаяся в Прибалтике ратуша XIV века, дом «черни», а также старинные здания обеих гильдий – дом Большой гильдии со сводчатым холлом и сводчатый зал Гильдии Св. Олафа – памятники архитектуры, находящиеся в родстве с зодчеством рыцарского ордена и являющиеся олицетворением того факта, что в этом колониальном крае даже простые граждане чувствовали себя аристократами.
В Ревале сохранились и бесценные произведения искусства – отдельные творения немецкого готического художника Гермена Роде (1465–1504), германского художника и скульптора Бернта Нотке (1435–1509), в частности фрагмент оригинала работы Нотке «Пляска смерти», созданной им в Любеке в 1463 году. В общем, здесь до сих пор живет дух времен Ганзы.
К городскому населению и гражданам в узком смысле этого слова еще в Средние века принадлежали и многочисленные эсты, а также латыши и ливы (последние во все сокращавшемся количестве), в большинстве своем представлявшие собой рабочий люд. Это были, прежде всего, носильщики, находившие в своих гильдиях опору и защиту, рыбаки и лоцманы, извозчики, кнехты и слуги, но встречались также и ремесленники, что свидетельствует о том, что эсты и латыши принимали самое активное участие в средневековой корпоративной жизни.
Привести цифры о количественном составе различных слоев населения балтийских средневековых городов, к сожалению, не представляется возможным. Однако в том, что немцы, владевшие высокими каменными городскими зданиями, по крайней мере в Риге, составляли большинство, сомневаться не приходится. В частности, старший пастор Рижского собора Дитрих Нагель оценивал в 1450 году численность латышей и прочих людей не немецкой национальности как треть от проживавших в Риге горожан. В Ревале же проживало много шведов. В частности, в начале XVI века как минимум десятая часть владевших домами ремесленников были шведами, а по данным ратуши, тогда же шведы и датчане составляли третью часть из числа всех рабочих людей.