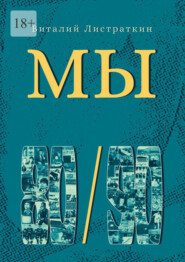
Полная версия:
Мы
Шурик же отправился служить. Лейтенантом, куда-то в Карелию. Его поступок удивил всех, поскольку были уверены, что этот проныра легко отмажется от исполнения «гражданского долга». Но он даже не попытался это сделать. В сущности, именно с тех пор я его и не видел. А дальнейшую историю рассказал муж его родной сестры. После демобилизации Шурик вёл себя тихо. В меру попил водки, «отдохнул», так сказать. Присматривался, куда бы ему пойти работать, но вот устроиться не успел.
Однажды вечером ему вдруг приспичило пойти в баню. В самую обычную городскую баню. Попариться, похлестать себя берёзовым веничком. Собрал банные причиндалы и пошёл. С тех пор, собственно, Шурика никто и не видел. Когда он не вернулся домой, мать особенно не встревожилась. Подумала, может, к девушке какой завернул, дело-то молодое… Но когда он не появился на следующий день, забила тревогу.
Искали всюду. В баню он входил однозначно: свидетели подтверждали. Выходил, вроде, тоже. Что же произошло потом, никто не знал. Пропал с концами. Уже столько лет прошло, а его до сих пор не нашли – ни живого, ни мёртвого…
Одно время я пытался найти Белова, но каждый раз неудачно. Ходили слухи, что он тоже отслужил в армии. Потом куда-то уезжал, где-то работал… Пару раз я приезжал на квартиру его родителей. Мне никто не открыл дверь, хотя соседи и говорили, что видели там кого-то.
Но я всё ещё жив. Может, я не такой уж пропащий на самом деле?
Степаныч и пустота
Когда я учился на третьем курсе, в институте вдруг отменили предмет «история КПСС», вроде как за ненадобностью. Преподаватели кафедры истории поначалу загрустили, но когда вместо привычных дисциплин ввели «современную Россию» и «культуру Востока», и вовсе растерялись. Предмет, который и прежде не был особенно интересным, теперь превратился в бубнёж из научно-популярных журналов.
Многие преподаватели воспользовались случаем, чтобы уйти на пенсию. И чтобы хоть как-то восполнить ряды, в институт прислали сорокалетнего доцента с болгарской фамилией Затойчев. Имя-отчество, впрочем, у него было вполне отечественное: Виктор Степанович, прямо как Черномырдин. В отличие от своего именитого тёзки доцент был худощав и шустр. Импозантный брюнет, он тщательно следил за своей внешностью: всегда идеально выбрит, подстрижен, виски чуть подёрнуты благородной сединой. Между собой студенты его сразу прозвали Степанычем.
Разумеется, в такого молодца влюбились практически все студентки, включая повидавших телевизор барышень с кафедры теплотехники. Занятия он вёл интересно, но была у него одна особенность: он ужасно не любил, когда кто-то опаздывал на лекции. «Пустота, – говорил он, – это самое страшное, что может произойти в образовательном процессе». В остальном же он был совершенно лоялен: на экзаменах не скупился на пятёрки, а зачётам предпочитал «автоматы».
Его лекции были по четвергам, первой парой. И я, как нарочно, на них опаздывал. Ей-Богу, даже не понимаю, как это происходило: то ломался будильник, то опаздывал автобус, то ещё что-то случалось досадное. Затойчев злился, но я ничего не мог поделать: по четвергам будто просыпалась неведомая сила, категорически не согласная изучать культуру Востока.
В тот день я опять проспал и теперь едва успевал к середине пары. Вихрем промчался по лестнице, на четвёртом этаже отдышался, осторожно приоткрыл дверь в аудиторию. Сегодня читалась лекция о средневековых традициях Японии. Очевидно, именно поэтому на столе у преподавателя стояла небольшая деревянная этажерка, что-то вроде подставки, на полочках которой располагались два немного изогнутых меча.
Затойчев размеренно рассказывал:
– В то время эта страна жила в непрерывных раздорах между удельными князьями и авантюристами, воюющими за земли и власть. Войны мешали торговле и опустошали страну. В 1573 году человек по имени Ода Нобунага подчинил себе Японию. На протяжении девяти лет ему удавалось сохранять контроль над всей страной. И когда пал жертвой покушения, властью завладел Тотоми Хидэеси. Он ввёл ограничение на ношение мечей. Отныне только самураям разрешалось носить два меча, а остальным был разрешен только один – для защиты от разбойников на дорогах. Воин держал короткий меч у изголовья постели, а для длинного в доме имелась специальная подставка. В старые времена их называли «длинный меч» и «меч», сейчас они известны как «катана» и «вакидзаси». Оба эти клинка вы можете видеть у меня на столе.
Воспользовавшись паузой, я протиснулся в проём:
– Виктор Степанович, можно?
Доцент повернул голову:
– Так, так… Опять, значит… Скажите, вы действительно полагаете, что крепкий здоровый сон гораздо важнее моих лекций?
– Извините… Больше не повторится!
– С вашей пустотой определённо нужно что-то делать… – он немного смягчился. – Ладно, садитесь… Только не на галёрку, как обычно, а вон, к Белову на передний край.
Студенты хихикнули. Я занял место рядом с Юркой. На самом деле он не был отличником и зубрилой, а просто обладал уникальным талантом спать с открытыми глазами. Поверьте, это действительно искусство: всего с пары метров казалось, что он вдумчиво слушает лектора, но только при очень внимательном рассмотрении становилось понятно, что его взгляд совершенно не сфокусирован.
– Духом битвы была пронизана вся повседневная жизнь самурая, и возможность близкой смерти не казалась чем-то необычным. Настоящим мастером меча мог считаться лишь тот, кто был готов без колебаний шагнуть навстречу собственной гибели.
Я вполуха слушал преподавателя, а сам рассматривал комплект самурайских мечей у него на столе. Клинки покоились на подставке из чёрного дерева: тот, что поменьше, – внизу, а большой – сверху. Ножны были украшены затейливой резьбой.
– При Хидэеси огромные армии самураев постепенно были распущены. Безработные воины бесцельно слонялись по стране. Формально они считались элитой, но на деле не имели ни гроша. Их звали «ронинами». Многие отложили свои мечи и стали художниками, артистами, но некоторые устремились к идеалу воина, пытаясь достичь совершенства. Это вполне в японском стиле, поскольку на Востоке принято верить, что существуют всего четыре Пути, которым мужчина следует в жизни: Путь Земледельца – используя сельскохозяйственные инструменты, человек выращивает злаки и овощи, сообразуясь со сменой времен года; второй путь – Путь Торговца; третьим путём идет благородный воин, несущий свое вооружение, его Путь – овладение достоинствами своего оружия; четвертый путь – Путь Художника, или Путь Плотника. Здесь следует отметить, что все строения в Японии были деревянными, поэтому слово «плотник» по сути означает «зодчий», «строитель». Плотник должен стать искусным в обращении со своими инструментами, он намечает план строения, а затем исполняет работу, сообразуясь с замыслом. Считалось естественным, когда каждый с детства изучал то, к чему имел природную склонность. Особенно это касалось самого трудного пути – Пути Воина.
Шею вдруг обожгло, будто комар укусил. На парту упала маленькая резинка, которой школьное хулиганьё стреляет, натягивая на кончик шариковой ручки. Я обернулся: у всех студентов был такой серьёзный вид, будто они следуют Путём невозмутимости. Или просто нахальства?
– Почему трудный? Потому что Путь Воина есть обоюдное слияние Путей кисти и меча, где человеку нужно достичь высот на обоих поприщах. Неважно, если он не имеет талантов в этих областях – неустанно упражняясь, он сможет приобрести необходимые навыки, чтобы в дальнейшем принять главную идею Пути. На Западе считают, что «перо сильнее меча» («что написано пером, не вырубишь топором»), а на Востоке: «бунбу ичи» – «перо и меч в гармонии». Самосовершенствование не предполагает изменения поведения, но ведет к осознанию природы обычной жизни. Наибольшая добродетель – простота. Удар должен быть всего один, но исключительно точным. Воин обязан изучить прочие боевые искусства, ни на йоту не отклоняясь от истинного Пути. С установившимся духом накапливать опыт день за днем, час за часом. Полировать обоюдоострые сердце и ум, оттачивать обоюдоострые восприятие и зрение.
Белов едва заметно зевнул: я услышал, как хрустнули суставы челюсти.
– Что в итоге? Когда дух не будет омрачен ни в малейшей степени, когда последние тени заблуждений исчезнут навсегда, откроется высшее откровение мастерства – Пустота, когда начинающий и мастер ведут себя одинаково, когда меч и намерение противника становятся спонтанным пониманием ситуации, но мастер по-прежнему продолжает шлифовать простейшие упражнения, подобно ежедневной молитве. Явление Пустоты означает только одно – Мастеру пришло время опять становиться учеником. В сущности, в этом нет ничего плохого, мир цикличен. Но может случиться страшное: когда пустота воцарится у воина в сердце. Тогда он не сможет быть ни мастером, ни учеником, ни просто достойным человеком… Никогда. И существует лишь один способ избежать этого…
Закончить он не успел: в коридоре заливисто зазвенел звонок. Преподаватель поднял ладони вверх, слегка поклонился. В аудитории сразу же завозились, зашумели студенты.
Я тогда много курил, поэтому сразу полез за сигаретами. Пачка кислых болгарских «Ту-123» вдруг выскочила из пальцев, закатилась далеко под парту. Шёпотом выругался, полез искать. Когда нашёл, выглянул из-под парты. Аудитория уже опустела, и лишь Виктор Степанович возле стола изучал самурайские мечи на подставке. Преподаватель с таким неподдельным уважением рассматривал клинки, с каким разглядывают фотографию любимой, но далёкой женщины.
Мне стало немного совестно, вроде как подглядываю. Убрал макушку обратно, решив, что лучшим выходом из щекотливой ситуации будет, если Затойчев сам покинет аудиторию. Я взглянул на штору, удивился, как натянута ткань: будто кто-то её держит, пытаясь скрыть своё присутствие.
Я нагнулся ещё ниже – из такой позиции было видно, как Виктор Степанович взял длинный меч и медленно обнажил лезвие. Затойчев взмахнул клинком, эффектно прокрутил его в ладони. И по тому, как он это сделал, я понял, что институтский «Степаныч» сам владеет искусством самурайского меча.
Затойчев сделал шаг в направлении окна, замер. Медленно поднял меч, отвёл далеко за голову. А я, затаив дыхание, наблюдал.
Выпад произошёл внезапно: тело преподавателя вытянулось, он весь вложился в этот удар. Он так виртуозно рассек штору, что нижняя часть полностью упала на пол. И в этот момент (я готов был поклясться!) будто кто-то вздохнул, протяжно и грустно…
Виктор Степанович ещё несколько секунд находился в том же положении. Потом выпрямился, одновременно красиво прокрутив мечом назад. Его лицо было предельно серьёзное, как будто сделал важную и необходимую работу. Доцент вытащил из нагрудного кармана белоснежный платочек, тщательно протёр лезвие меча. Подобрал с пола чёрные ножны, сунул в них меч. Затем оружие с подставкой бережно упаковал в объемистый чехол, который вскинул на плечо.
Как только Затойчев покинул аудиторию, наваждение исчезло. Я даже рассмеялся: как же это выглядит глупо со стороны! Мечи эти, самураи, путь воина, пустота… Ерунда! Заглянул в расписание, чтобы узнать, где будет следующая пара. А потом, беспечно посвистывая, направился к выходу.
По пути вытащил последнюю сигарету, пустую пачку, смял и бросил в урну возле дверей. Уже шагнул за дверь, но вдруг остановился. В урне лежал квадратный кусочек ткани, которым преподаватель протирал меч. И на этом платке имелось то, чего быть не должно – кровь. Кровь той самой Пустоты, которую убил Степаныч.
Путч
Летом девяносто первого, между вторым и третьим курсом, в ректорате возникла идея отправить нас на производственную практику в город Горький, который только-только сменил официальное название на Нижний Новгород, попросту говоря – Нижний. Поговаривали, что ректору нашего института за сотню бесплатных работяг руководство Горьковского автозавода посулило несколько новеньких «Волг» – по тем временам вполне нормальная сделка. Поскольку рабов из Таджикистана придумали несколько позже, можно понять, что особых вариантов у ректора не было. Тем более что наш факультет был единственно мужским.
В Нижний нас доставили шикарно: авиарейсом. Этот внесло некоторую сумятицу в умы: если гастарбайтеры, то вроде как элитные. По прибытии к месту жительства ощущение элитарности мгновенно испарилось: трехэтажная общага, сильно похожая на казарму. Комендант, грустная пожилая лимитчица, сочувственно вздохнула:
– Откуда вы, соколики?
– С Урала, мать!
Ещё нам выдали синие робы, чёрные тяжелые ботинки и заводские пропуска, сделав, таким образом, одним целым с сотнями тысяч нижегородских работяг. Наша работа была бесхитростная: берешь пару рычагов, внешне похожих на австралийские бумеранги, закрепляешь их в станке, нажимаешь кнопку. Бешено вращающиеся сверла делают где надо отверстие. Убираешь, ставишь следующую пару деталей. И так восемь часов подряд. Если бы на рабочем месте нельзя было бы курить, можно было бы застрелиться.
В комнате жили вчетвером: я, маленький крепыш Вадим, долговязый Вовка и спокойный здоровяк Сергей. Все очень разные: Вадим отслужил в армии и вёл себя совершенным сержантом, которому лучше всех на планете известно, как «правильно жить». Вовка имел репутацию отъявленного уралмашевского хулигана, всегда грыз семечки и крутил в пальцах чётки. А Серёге было вообще всё по фигу, настолько он был силён физически.
Первую неделю мы провели по-человечески: работали, ужинали макаронами, перед сном пялились в телевизор, что был прикручен под потолком в красном уголке. В выходные выбрались в город, осмотрели достопримечательности: Нижегородский Кремль, живописно расположенный на склонах Часовой горы, Михайло-Архангельский собор там же, зашли даже в художественный музей и, разумеется, погуляли по набережной.
Но в следующий понедельник мы жестоко набухались всем общежитием. От безнадёжности, наверное. Или так подействовал станок с погаными рычагами, похожими на бумеранги. Я до сих пор не могу понять, как люди работают на конвейере: ежеминутно, изо дня в день, всю жизнь выполняя одинаковые операции. Наверное, для этого нужно иметь какое-то особенное строение головы, но, честное слово, на этом заводе можно было сойти с ума. Очевидно, мои товарищи разделяли моё мнение, поскольку до конца «командировки» мы в буквальном смысле не просыхали.
Сержанта неудержимо тянуло на баб. Как магнит, он залипал на любую юбку, под которой имелись более или менее стройные ноги. Ухлёстывать в одиночку Вадик почему-то не мог – ему непременно требовался напарник, наверное, чтобы ловчее было заговаривать зубы своей пассии и отвлекать внимание подруг.
Впрочем, девчонок он клеил исключительно симпатичных, и мы с Вовкой с удовольствием участвовали в подобных мероприятиях. Что касается Сереги, он предпочитал коротать вечера лежа на койке, уткнувшись в книжку. Он всегда очень хорошо учился, был почти отличником и особенно гордился тем, что никому никогда не давал списывать. За это кое-кто из институтского хулиганья даже пробовал его бить в раскладе «три на одного». Попытка окончилась провалом: здоровяк за минуту раскидал оппонентов по углам. Усвоив жестокий урок увальня-силача, с тех пор старались его не задевать.
Зато Вадим задевал всех остальных. Подвыпив, он становился невыносимым: начинал задирать нос и всячески поучать.
– Вы салаги, – презрительно утверждал он. – В армии не служили, жизни не знаете. Какая баба вам даст?
Я пожимал плечами, здоровяк играл бицепсами, а уралмашевский Вовка заводился: нервно крутил в пальцах чётки, начинал орать:
– Заткнись, гад! Думаешь, в сапогах два года топтался, так самый крутой, да? А хочешь я тебе рожу намылю? Хочешь?
Вадик ржал: ему нравилось доводить Вовку до белого каления. Впрочем, до мордобоя дело никогда не доходило. Бывший сержант знал границу, которую лучше не переходить.
В таком темпе прошли три недели. Но девятнадцатого августа девяносто первого года что-то произошло. В воздухе будто повисло какое-то напряжение, которое ни с чем не спутать. Нам, пережившим трёх генсеков, сразу стало понятно: в стране что-то случилось. Вместо привычных утренних новостей из красного уголка доносилось торжественное, как похоронный марш, «Лебединое озеро».
– Прямо как перед войной… – пробормотал Вовка.
– Может, помер кто? – предположил я. – В школе, помню, когда Брежнев копыта откинул, перед учительской на втором этаже организовали самый натуральный почётный караул, со знаменем и двумя торжественно-грустными пионерами…
По цеху ползли слухи: объявлено чрезвычайное положение, Горбачёв отстранён от руководства, а страной рулит странная организация ГКЧП. Как бы «временно ограничен» выпуск любых газет: центральных, московских, городских и областных изданий.
Неслыханное дело: задолго до обеденного перерыва нас собрал авторитет из профкома: призвал не поддаваться на провокации и вообще вести себя в рамках.
– А всяких там любителей пошуметь, – предупредил он, – будем безжалостно искоренять. Правильно наше правительство с комитетом придумало. А то распустил Горбачёв страну, никакой дисциплины!
В курилке подошёл Вовка, стрельнул сигарету.
– Может, забьем на работу? – предложил он. – Сгоняем в город, посмотрим…
– А что скажем на заводе?
– Что демократию защищали, – ухмыльнулся он.
– А серьёзно?
– Наврём что-нибудь… Например, в столовой отравились…
Удивительно, но на эту идею повелись все, даже отличник Серёга, настолько надоели эти распроклятые рычаги-бумеранги. Ещё до полудня мы ушли с завода.
Город бурлил. Там и сям кучковались группы людей, ближе к центру сливались в многолюдный митинг, где сразу в мегафон зачитывали альтернативный указ Бориса Ельцина: все решения ГКЧП признать не имеющими силу.
То и дело подбегали какие-то люди, попеременно агитировали то за «чрезвычайщину», то за демократов, совали рукописные листовки. Впрочем, «демократов» было значительно больше, чем «комитетчиков». А когда митинг возглавили народные депутаты, бунт принял более или менее управляемый характер. Колонна демонстрантов с наскоро нарисованными плакатами направилась по центральной улице к зданию телецентра, скандируя:
– До-лой хун-ту! Ель-цин! Ель-цин!
Какой-то мужичок с доверчивыми щенячьими глазами дёрнул меня за рукав:
– Слышь, а за кого все кричат?
– За наших!
– А-ааа…
Смотрю, тоже сжал кулак, взмахнул в ритм:
– До-лой! Хун-ту!
Несколько часов подряд ораторы на импровизированной трибуне поочерёдно требовали у представителей комитета по ТВ и радио передать по Нижегородскому ТВ обращение законного президента России к избирателям, а группа депутатов организовала стачечный комитет и сбор подписей, где мы отметились одними из первых, оставив размашистые подписи, город и даже факультет, где учились.
В тот вечер мы впервые не пошли «по бабам». Сидели в «красном уголке», смотрели телевизор. Показывали трясущиеся руки горе-путчиста Янаева, дряблые лица заговорщиков, в глазах которых не было железной воли Спасителей Отечества. Путчисты были так растеряны и запуганы, что их было даже жалко. Эти несчастные казались олицетворением умирающего Советского Союза. Жалко, потому что защищать Великую Империю на деле никто не хотел, даже спецслужбы…
Наутро опять отправились в город. В толпе раздавали газету «Ленинская смена». Ничего примечательного там не было, кроме вызывающе пустой полосы, где по идее должно быть напечатано постановление ГКЧП – это было вызывающе круто. Всё это время нас не оставляло чувство восторга от сопричастности таким событиям, которые важнее института, завода, рычагов-бумерангов, ректора с его «Волгами» и тому подобной бытовухи… Торжественно, под музыку Чайковского, умирала страна, а мы, её глупые дети, с ребяческим простодушием наблюдали предсмертные судороги, даже толком не понимая, что происходит…
На третий день, устав от митинговой суеты, зашли в пивную неподалёку. Взяли по сто водки, пива, чебуреков. Хорошенько заправились, но перед тем как вернуться на митинг, всей компанией пошли отлить. Завернули в какой-то двор, встали шеренгой вдоль кирпичной стены. А когда зажурчали четыре струи, позади раздался характерный оружейный клац.
Медленно повернув голову, я увидел, как белеют лица моих товарищей. Думаю, у каждого сработала та самая генетическая память, которую нам вложили в сердца вместе с первым «октябрятским» значком: страх расстрела, когда оказываешься между кирпичной кладкой и направленным на тебя оружейным стволом – синдром «тридцать седьмого».
Дрожащими пальцами застегнули штаны, повернулись. И увидели притаившийся в глубине двора грузовой «Урал» с омоновцами в кузове. В полном вооружении: шлемы, бронежилеты, автоматы. Они просто смотрели на нас, как псы, ждущие команды «фас». И хоть стволы «Калашниковых» направлены в сторону, пальцы – на спусковых крючках.
Хмель выветрился мгновенно. Осторожно, бочком, под пристальным милицейским оком покинули двор. Однако после «бронепоезда в кустах» народное вече воспринималось совсем по-другому…
Вдруг на трибуну выскочил черноволосый мужчина, выхватил мегафон и заорал:
– Товарищи! Только что сообщили по радио: ГКЧП пало! Демократия победила! Ура!
Началось всеобщее ликование. Он так весело орал и кривлялся, что я спросил у какого-то дяди в кепке:
– А кто это?
Дядя так смерил меня взглядом, будто я спросил очевидную вещь, которую обязан знать ещё с детского сада.
– Как кто? Это же сам Олег Маслов!
Наше возвращение на завод восприняли не очень-то дружелюбно. И сразу повели «на ковёр» к начальнику цеха, где уже ждали чин из профкома и остальные из цехового триумвирата. Кроме нас ещё оказались прогульщики – человек десять-пятнадцать. У профкомовца была своя метода: наугад выхватить кого-нибудь и покрепче наехать – если сломается, с другими пойдет легче.
Однако, на свою беду, он начал с Вовки.
– Ерёмин, почему три дня на работе не был?
– Демократию защищал, – нагло ответил тот. – На баррикадах, можно сказать, на самом что ни на есть переднем крае. Потому что хунта не пройдёт, а Ельцин с нами. Мы даже подписи за это дело оставили там, на митинге. А вот вы за кого были эти три дня, гражданин? За наших или за путчистов?
Это подчёркнутое «гражданин» и «наших» сразу дезориентировало цеховика. Он поплыл, стал городить пространную ерунду и вообще как бы оправдываться. А потом неожиданно густо покраснел и замолк. Вовка так вызывающе ухмылялся, что слово взял сам начальник цеха.
– Пусть идут к станкам, – решил он. – Тем более, всего пара дней осталась. А в институт мы сопроводительное письмо отправим, пусть отмываются…
На том и порешили. Спустя рукава мы добили эти последние два дня у станков, получили какие-то очень маленькие деньги и решили их потратить на грандиозную пьянку – по-взрослому, до рассвета. Накупили нехитрой провизии, два литра спирта «Рояль», развели из сухого концентрата «Юпи» приторное пойло и позвали знакомых девчонок. Начался пир.
На шесть утра мы были абсолютно никакие, но на Вовку смотреть было особенно больно – совершенно безумные глаза. Не отрываясь, он выдул целый стакан водки. Несколько секунд стоял, закатив зрачки, затем неожиданно смахнул посуду со стола на пол – она только чудом не разбилась. Но этого Вовке показалось мало: ударом ноги высадил оконную раму – стёкла со звоном полетели вниз, на асфальт. Туда же отправилась тумбочка и ещё что-то из мебели. Мы с Серёгой пробовали унять его, но Вовка так оттолкнул, что даже силач Серёга отлетел в угол, будто резиновый мячик. Испуганные девчонки разбежались, а обрадованный сержант вместе с Вовкой принялся крушить остальную мебель на этаже. Воистину это был классический русский бунт – бессмысленный и беспощадный.
В одиннадцать часов вылетал наш самолёт. Общежитие мы покинули за два часа до этого. Здание напоминало руины Сталинграда, вокруг которых валялись останки обстановки. Добрая тётенька комендант, у которой я как-то даже занимал деньги, ошеломлённо смотрела на дела «уральских соколиков». Проходя мимо, я старался не смотреть в её сторону: даже с дикого похмелья было стыдно.
Было бы наивным полагать, что нам всё это сойдёт с рук. Вскоре состоялось заседание в деканате на котором предполагалось вышвырнуть всех четверых из института – по крайней мере, сам декан был точно настроен на такой исход. Лишних не звали: только деканатские, кое-кто из преподавателей и мы, с повинными головами. Секретарь траурным голосом Левитана зачитала донесения из Нижнего Новгорода, где фронтовой сводкой излагались подробности учинённого дебоша и прочих возмутительных нарушений трудовой дисциплины. Как и полагается в таких случаях, выступил комсомольский деятель, чёткими рублеными фразами («дезорганизация работы учебного сектора…») заклеймил нас позором. Собрание шло к закономерному финалу, как вдруг слово взял преподаватель с кафедры теплотехники.



