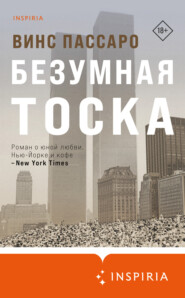
Полная версия:
Безумная тоска
Она снова была на улице. Снова этот ветер. Словно руки, одетые в шелк. Она остановилась на длинной террасе перед библиотекой, опершись на стену, чувствуя, как ветер пробегает по ее телу, чувствуя, как он замедляется, останавливается, поднимается вновь и дует порывами так сильно, что она задрожала.
– Ого, кто, если не ты, самая сексуальная штучка из всех, что я видела. – Не открывая глаз, она услышала голос.
Сьюзен. Роскошная Сьюзен. Ее голос.
– Ты Сьюзен, – сказала Анна. Ее глаза все еще были закрыты.
– Ага.
Анна открыла один глаз. Как и ожидалось, с ней был Кит, ее долговязый бойфренд.
– Это выглядит неплохо, – протянул Кит.
Он говорил о ней в среднем роде. Это. И лицо у него было такое… как его описать? Тупое? Она закрыла глаз.
– Тебе стоит это попробовать, – сказала она очень тихо.
Кит оказался слева, Сьюзен – справа. «Чувствуете, да?» – сказала она, и они ответили: «Да», – тепло камней, прохлада ветра. Каким-то образом ее занесло, в самом глубоком смысле этого слова, в комнату Сьюзен в Барнарде. Она опять курила косяк и почти сразу же – она даже не могла вспомнить, сколько прошло времени, да и могло ли все кончиться иначе, – оказалась в постели, раскинув ноги, мокрая, как никогда, Кит лежал слева, Сьюзен – справа, они целовали и трогали ее, и Сьюзен говорила: «Просто закрой глаза». Закрой глаза, как там, на террасе.
Просто закрой глаза. Синий и оранжевый, пламя внизу и вверху. Потом она заснула, все заснули, но возбуждение не покидало ее, и она просыпалась, чувствуя влагу во рту – струйка слюны стекала из уголка, но терпимо, ее лицо было рядом с грудной клеткой Сьюзен, и Кит лежал с другой стороны. Она опять уснула и, когда проснулась вновь, почувствовала, как чьи-то губы целуют ее тело, несколько жадно, неприятно, ощутила касание рук, и ей снился Марк, ее брат, каким-то образом они вновь были вместе. О боже, так это Марк ее лапал и целовал, но она была счастлива, что они наконец вместе, и это совершенно естественно, она хотела этого, это было неприятно, но ей было хорошо… затем она стряхнула остатки сна, и все было таким реальным – это правда? Да, все было так, но – бог мой, Марк ли это? Она вскрикнула. Закричала во весь голос. Момент очищения.
Это обескуражило тощего Кита, хотя она и говорила, что он ни в чем не виноват.
– Я видела плохой сон. Просто ужасный.
– Что тебе снилось? – спросила Сьюзен. Она сидела с открытой грудью, спутанными волосами, закутавшись в простыню до талии. Анна слегка качнула головой, отмахнулась. Сьюзен плюхнулась обратно в кровать, потянулась к бойфренду. Анна встала и оделась.
Джордж в редакции, работает над материалом, главред Ричард склонился над ним – полчетвертого, они задерживали выпуск, печать, все просрали, и это обойдется в целую кучу денег, – наконец Ричард сказал:
– Напечатаем личные проблемы и преисполненный домыслов. Не будем вдаваться в подробности.
– Почему всегда преисполненный домыслов, а не кишащий домыслами? Почему не изобилующий домыслами? Насыщенный домыслами. Испещренный, усеянный лихорадочными домыслами?
– Бля, да мне похуй, – сказал Ричард. Он трудился над своим сливочным рожком, облизывая его тающие бока, чтобы сдержать неумолимое падение зеленых капель, подчинявшихся гравитации. Мята с шоколадной крошкой. Нью-Йорк: мороженое круглосуточно.
– Давай пиши быстрее, раз уж пишешь, – добавил он. – Печать задерживается, mucho dinero[44]. Эту часть пиши как хочешь. Потом заменю на преисполненный домыслов, и тогда, как сказал один мужик, все будет хорошо, и все, что бы то ни было, будет хорошо[45].
– Это был не мужи-и-ик, – не поднимая глаз, пропел Луис из-за своего стола. – Это была женщинааа, Юлиана Норвичская-а-а…
Но на него никто не обратил внимания.
Утром, когда Анна вернулась, дверь Джорджа была незаперта, было около половины девятого. Скоро ей нужно было отправляться на работу, а чувство было такое, будто она вот-вот сорвется со скалы. Джордж сидел за столом, его стул был повернут к двери. На коленях лежало испачканное подводкой полотенце. Он выглядел совершенно разбитым.
– Где ты была?
– Шла в редакцию, встретила Сьюзен по дороге.
Она уже ступила на скользкую дорожку: камни под ногами были покрыты грязью. Эта картина, как обычно, напомнила ей рассказ отца об отступлении в Корее, зимой грузовики с пехотой срываются с горной дороги, падают вниз с высоты двух или трех тысяч футов, никто не знает, насколько далеко в горах это случается. Ни одной семье не сообщали, что их мальчик умер во время панического отступления, когда грузовик, в котором он ехал, соскользнул в пропасть. Сейчас чувство было примерно таким же: она видела, как скользит все ближе к краю.
Джордж смотрел на нее, ждал продолжения.
– Мы пошли к ней в комнату, накурились, и я уснула.
Пауза.
Он смотрел в стену, теребил полотенце.
– Извини за полотенце.
– Да, что это? – спросил он. Теперь он смотрел на полотенце.
Ее губы уже готовы были сказать, что это подводка для глаз. Что она плакала. Она смотрела на него. Она рассказала бы ему о своем брате, хотела рассказать. Но у него было такой требовательный вид – блядь, блядь, блядь. Значит, не сможет рассказать. Обычно она восхищалась его лицом. А это что? Он выглядел раненым. Озлобленным. Это ее раздражало. Она не была готова к подобным любовным перипетиям. Она даже не подозревала, что не готова, пока не увидела это на его лице. Ей не нужны были эти сентиментальные условности.
– А, отходняк был хреновый.
– Ясно. – Он держал полотенце так, словно в нем были вши. Вообще-то да, были.
– Слушай. Там была не только Сьюзен. Еще был Кит. И у нас был секс. Втроем.
Его лицо. Боже, он выглядел так, будто ему выстрелили в пах. Если у души был пах, она попала именно туда.
Он отвернулся. Повернулся к ней спиной. Она хотела сказать, что он ведет себя по-девчачьи, но тогда откуда в ней это нетерпение? Удивительно, но его реакция привела ее в бешенство. Тестостерон ударил ей в голову в ответ на его женственный поступок – ей хотелось ударить его. Конечно, это было глупо, глупо, глупо. Неужели она думала, что он отреагирует иначе? Она специально хотела уязвить его, так как он дулся, злил ее, и вот она его ранила.
– Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не поступай так. Со мной или с тобой. Я так накурилась, что ничего не соображала. Это был секс. Я же не применяла, скажем, ядерное оружие и не травила детей. Это не отношения. Просто секс.
Он встал со стула:
– Господи Иисусе.
– Я, конечно, знатно обдолбалась, но уверена, что его там не было.
Он не засмеялся, как она и ожидала, это разозлило его еще сильнее. Он собрался уйти, бесцеремонно двинулся к двери, почти задев ее плечом в узкой комнате, в его комнате, о чем он, видимо, вспомнил, так как остановился. Наконец он взглянул на нее:
– Как это случилось?
Полотенце все еще было у него в руках, так что она решила поговорить об этом.
– Это подводка для глаз. Я плакала.
– Подожди, почему ты плакала?
Вот оно. Какое-то мгновение она горячо желала сказать, что плакала из-за своего брата. Она никому о нем не рассказывала. Здесь – никому. Даже Джорджу. Дома об этом знали несколько друзей. Может, еще кто-то, но точно те, с кем она считалась. Так или иначе, дом остался в прошлом.
– Мне было грустно.
– Я имел в виду не это: как между вами случился секс?
Как быстро он перескочил с одного на другое. Да ведь ему просто насрать.
– Я же сказала, что все было по накурке.
– Да, но как именно это случилось? Что произошло?
– Как вообще у людей бывает секс, Джордж? Мы вместе в комнате Сьюзен, накуриваемся, падаем на кровать, кто-то кого-то целует, кто-то кого-то трогает, делов-то!
– Хуёв-то. Кто-то кого-то целует, и ты говоришь: «Эй, ну ты чего? Смотри, уже так поздно. Мне пора».
– Джордж, ну правда. Ты что, не можешь взглянуть на случившееся глазами человека, который живет, дышит и накурился?
– Ты хотела секса с другой женщиной?
– Джордж, суть в том, что я хотела тебя, но тебя там не было. Это нормально, я знаю, ты был занят чем-то важным. Но я была на взводе. Я шла в редакцию, посмотреть, как у вас там дела, позависать с вами или еще что, но меня пришпилило ветром к библиотечной стене, и я, закрыв глаза, ловила маленькие оргазмы, а потом они меня нашли. Я уже дозрела – бери да срывай. Господи, Джордж. Мне жаль, но я не вижу, что в этом такого ужасного. Тебе что, никогда трахаться не хотелось?
– Хотелось.
Опять это лицо. О, сколько же в ней гнева. Хочется ему врезать. Нет. Хочется кричать. Но она не станет. Так что, блядь, делать-то? Вот что она скажет, и это будет правдой:
– Я терпеть не могу чувствовать себя чьей-то собственностью. И не выношу, когда ты смотришь на меня, как на мамочку, которая тебя бросила.
Он ничего не ответил, только смотрел на нее.
– О господи, прости.
Он молчал.
– Прости, что так сказала. Я совсем не хотела.
Он сел на кровать.
– Да ну на хуй. Я прилягу. Долгая была ночь. Странная, прекрасная и, наконец, ужасная. Вечность перемен этой ночи.
Он откинулся назад, не забираясь на кровать с ногами.
– Вообще я устал. Завтра поговорим. То есть уже сегодня. Я хочу трахнуть Сьюзен. Может она прийти и трахнуться с нами?
Было что-то ребяческое в этих непристойностях. Как шутки четвероклассников о сексе.
– Джордж, мне жаль, что я это сказала.
– Знаю. Тебе пора идти.
Он закинул ноги на кровать. Дезерты на простынях. Он даже не взглянул на нее. Ей хотелось снять с него ботинки: это было неудобно, неправильно. С ней бы он так никогда не лег. Если бы она осталась.
– Уходи, – его голос звучал глухо, лицо было закрыто рукой.
И она ушла.
8
Был почти что полдень, Джордж проспал два с половиной часа. Когда он думал об Анне, в груди появлялась дыра, а о чем-то другом он думать не мог. Еще эта статья, которую нужно дописывать.
– Тебе раньше не приходилось звонить убитому горем члену семьи? – спросил Ричард.
– Нет.
– Страшно?
Джордж не сводил глаз с машинки.
– Это пугает меня. Терзает. Не хочу ни видеть, ни слышать того, что придется увидеть и услышать.
– Тебя ведь могут просто на хуй послать, – сказал Ричард. – Я бы так и сделал.
Почему-то эти слова заставили его набрать номер. Стальной диск старого аппарата пришлось крутить с усилием: Грэмерси 7–5128. В его ухе клацали цифры, бежавшие по проводам. Джордж махнул Ричарду трубкой, делая знак, чтобы тот ушел.
– Конфиденциально, – сказал он.
Гудки. Гудки. Еще гудки. Наконец кто-то снял трубку, повозился с ней, послышался женский голос, далекий, слабый.
– Алло?
– Здравствуйте. Извините за беспокойство. Меня зовут Джордж Лэнгленд, я представляю еженедельную газету Колумбийского университета «Очевидец». Я говорю с миссис Голдстайн?
– Вам нужно поговорить с моим мужем, – сказала женщина. Она с громким стуком положила трубку. Звук был такой, будто она швырнула ее на стол. Джордж представил квартиру в Грэмерси-парк: в холле стол из красного дерева, свежий блокнот, дорогая ручка. Может, лампа. Темный деревянный стул с мягкой обивкой в каштановую и серебристую полоску. Все убранство застыло в 1948 году. В самом деле, он думает о поколении бабушки с дедушкой. Может, у них там сплошь датский модерн.
Трубку подняли со стола. Мужской голос, глухой, твердый:
– Я Бернард Голдстайн. Представьтесь, пожалуйста.
– Мистер Голдстайн, здравствуйте. Я Джордж Лэнгленд, студент Колумбии и репортер университетской газеты «Очевидец». Я хотел бы поговорить о Джеффри.
– Вы выбрали не самое лучшее время, мистер Лэнгленд.
– Знаю, сэр. Я соболезную вам и вашей супруге и сожалею о вашей утрате. У Джеффри были братья или сестры?
– Нет. Он был единственным ребенком в семье.
– Это ужасно, сэр. Мне правда очень жаль.
Джордж чувствовал… ужасающее спокойствие. Мужество. Что, в конце концов, они могут с ним сделать? И Голдстайн, и Ричард? В любом случае для любой из сторон он просто посредник.
Недавно умерла его собственная мать. Отец давно исчез. Ни братьев, ни сестер у него тоже не было. Все было неважно.
– Сэр, быть может, вы знаете, что в сегодняшний номер мы собирались поместить статью о смерти Джеффри, но на момент написания его личность еще не была установлена. Теперь, когда это официально известно, мы хотели бы дать наиболее точные сведения и не допустить ошибок. Для подобной статьи это особенно важно. Я надеюсь, что вы поможете мне и подтвердите несколько фактов о Джеффри.
– Вот что я вам скажу. Мы с вами пообщаемся, ребята. И только с вами. Джеффри очень любил эту газету. Обожал редактора.
– Луиса Пеннибейкера?
– Да, точно.
– Приятно слышать.
– Приезжайте, мистер Лэнгленд. И захватите с собой Пеннибейкера. Расскажу вам кое-что о Джеффри. Жене будет тяжело, но я способен с вами поговорить.
– Когда мы можем приехать, сэр?
– Прямо сейчас, – сказал Голдстайн.
Полдень еще не наступил. Джордж уже пропустил одно занятие и был на грани еще одного пропуска. Первым был Китс. Вторым шло «Американское общество после 1945 года», нескончаемая лекция, на которую никто не ходил, так как все сведения можно было почерпнуть из серии книг «Время и жизнь». Ему было жаль пропущенного Китса, на лекции он тоже не успевал. Он чувствовал, что занятия ускользали от него, как рыба, в последний миг срывающаяся с крючка и уходящая в черную воду.
– Хорошо, сэр. А сейчас, на случай чего-нибудь непредвиденного, позвольте мне уточнить основное: вы опознали сына, как утверждает полиция?
– Да.
– Полное имя Джеффри, сэр?
– Джеффри Бенджамин Голдстайн.
Джордж сверился с возрастом, местом проживания, университетом. Затем спросил:
– Вас не уведомили о какой-либо записке, которую мог оставить Джеффри?
Тишина.
– Сэр?
– Поговорим об этом, как приедете. Адрес у вас есть?
– Да.
– Хорошо, – сказал Голдстайн и повесил трубку.
Ричард скользнул на стул напротив стола Джорджа – технически новостного стола, состоявшего из двух алюминиевых столов и старого деревянного – и сел, ссутулившись до смешного низко, выставив зад за край сиденья и расставив ноги в конверсах. Стул под ним немилосердно визжал, он раскачивался на нем влево-вправо, влево-вправо. Какие-то походные носки из узелковой пряжи под кедами. Джордж, баскетбольный сноб, не одобрял ношения таких носков с кедами.
– Я считаю, что есть предсмертная записка, – объявил он, изучая носки.
– Правда? – Ричард выпрямился, осмотрелся. – Дэйв, есть записка.
– Я так думаю.
У стола собралась кучка людей: четыре редактора и еще один репортер.
– Что он сказал? – спросил Ричард.
– Мы уже заканчивали разговор. Я спросил: «Вас не уведомили о какой-нибудь записке?» – и он долго молчал. Я переспросил: «Сэр? Алло? Записка?» То есть нет, не так, я просто сказал: «Сэр». А он ответил, что об этом мы поговорим, когда приедем.
– Набери Снеттса, – посоветовал Ричард. – Или убойный отдел, они, должно быть, этим уже занялись. Кто там ведет дело, как его… детектив Бейкер? Пусть запротоколируют, что есть записка. Найди ее.
Позже Джордж понял, что это было отправной точкой, первым шагом обутой в сандалию ступни адепта журналистики. Либо ты полностью отдавался делу, с волнением ожидая, когда найдется потенциальная записка, либо поддавался увещеваниям голоса на задворках сознания, твердившего: «Пацан мертв, какая теперь разница, отъебись ты уже». Бреслин[46] говорил, что каждая история лежит пятью этажами выше. Хочешь статью, лезь наверх. Джорджу нужна была статья, ЭТА статья, и он бы полез, но у него появилось предчувствие того, что этот интерес не продлится долго, и, когда дни сменятся неделями, а статьи будут выходить одна за другой, ему будет все равно, и он не сможет вести оживленные дискуссии, толкающие его вперед на поиски все новых и новых историй, а именно таким следовало быть настоящему репортеру. Луис, конечно, тоже им не был, да и не притворялся. Его заботило лишь то, что было для него небезразличным. Либо все истории о нем, либо их вообще нет.
– Придется вам, ребята, этим заняться. Голдстайн хочет, чтобы я его навестил. Их навестил. Хочет, цитата: «рассказать мне кое-что о Джеффри», конец цитаты.
Ричард почесал бороду.
– Реально? Вау, – чешет бороду. – Круто. Как тебе удалось?
– Вежливость. Все время повторял «Коламбия» и «кампус». Больше ничего.
– Есть у тебя подход.
– Это не подход.
– Личность.
– Презентация.
– Ты репортер-второкурсник, а я – старший редактор, так что ебало завали.
– Ладно.
– Шучу.
– Не шутишь.
– Ты прав.
– Он упомянул Луиса.
– Кто, отец?
– Ага. Сказал, Джеффри обожал редактора. Он знает фамилию Луиса. Хочет, чтобы тот со мной поехал.
– ЛУИС! Где Луис? Луис, ты здесь? – позвал Ричард.
Все уставились на дверь кабинета редактора, откуда, чуть помедлив для пущего эффекта, явился Луис.
– Люблю, когда ты так говоришь, – сказал он.
Большие глаза Голдстайна скрывались за круглыми очками в черепаховой оправе а-ля Джон Дин. Последний писк юридической моды. Толстые линзы. Гибкий стальной виток слухового аппарата. Луис и Джордж надели слаксы и мокасины, бедная копия Голдстайна. Миссис Голдстайн была настоящей модницей, напоминая пережиток эпохи Кеннеди в своем серо-коричневом платье с белым кантом на подоле, воротничке и чересчур больших карманах на бедрах. Туфли-лодочки чуть светлее, чем платье, кремовые, с прямоугольным носом и квадратным каблуком. «Феррагамо», – позже сказал ему Луис. Джордж не знал, чем его так зацепили туфли. Потом понял: мать носила такие же. Мистер Голдстайн представил свою супругу, та слабо пожала руку Джорджа и немедленно объявила бесцветным голосом, что удаляется, так как не станет принимать участия в интервью.
– Я оставлю вас, – еле слышно проговорила она. – Пожалуйста, выпейте кофе и съешьте чего-нибудь. Все на столе.
Джордж поблагодарил ее, и она удалилась в коридор по ковровой дорожке, исчезнув в комнате, которая, как заключил Джордж по расположению, являлась спальней. Дверь за ней закрылась со слабым щелчком.
Вот в чем штука: насколько богатым нужно быть здесь, в Нью-Йорке, чтобы купить квартиру, где двери закрывались, как надо, так как им не мешал тридцатилетний слой краски, нанесенной домовладельцем? Голдстайн провел их из фойе в большую гостиную. Кофе на серебряном подносе. Сахарное печенье и четвертинки апельсина. Неужели люди и правда могут так жить?
Статью поместили сразу за авторской колонкой с двойной строкой в подзаголовке: статья Джорджа Лэнгленда и Луиса Пеннибейкера. Фотография А. А. Таунза.
ИНТЕРВЬЮ С УБИТЫМ ГОРЕМ ОТЦОМ
НЬЮ-ЙОРК, 23 октября 1976-го. Этому мужчине сорок восемь лет, и он необычный отец. Его сын был гомосексуалистом, и он любил его и поддерживал. И вот его сын мертв.
Отчасти он мертв из-за того, что полюбил мужчину, и по неким причинам любовь эта оказалась безответной. Можно сказать, что Джеффри Голдстайн умер из-за разбитого сердца.
Но это вряд ли будет правдой, кроме того, это клише. «Жизнь Джеффри превратилась в борьбу из-за его сексуальной ориентации», – сказал Бернард Голдстайн, отец двадцатилетнего Джеффри, умершего в прошлую пятницу, ранним утром, выпрыгнув из окна тринадцатого этажа Джон Джей Холла, все еще неизвестно как и, более того, зачем.
«Перед тем как поступить в Колумбию, он провел прекрасный год, решил немного отдохнуть перед учебой, жил с молодым человеком, их зачислили вместе, и кажется, они любили друг друга. Но расстались. Молодость. Ничего необычного».
Высокий, хорошо одетый адвокат Голдстайн сидел на обитом дамастом кресле в солнечной гостиной просторной квартиры в Грэмерси-Парк, где жил со своей супругой, Шейлой Голдстайн. Миссис Голдстайн воздержалась от участия в интервью.
По правде говоря, у нас есть некоторые соображения, касающиеся суицида. В блокноте Джеффри есть запись:
Я на самом деле ЛЮБЛЮ его.
Ей-богу, чтоб мне сдохнуть!
Раскрытый блокнот он оставил на столе, возможно, сделав заметку в дневнике, которым оказался этот блокнот, а может быть, записку для того, кто ее увидит. Вряд ли она что-то объясняет, вряд ли она прощальная. Но теперь она неизбежно воспринимается именно так; ирония слов «ей-богу, чтоб мне сдохнуть» режет, словно нож. Ранит не мертвых, но живых, и чета Голдстайн – тихие, вежливые, преуспевающие люди, всего два дня назад имевшие множество причин наслаждаться жизнью, – истекает кровью.
В статье говорилось еще о многом: о детстве Джеффри, его юношестве, о чувствах Голдстайна, узнавшего о сексуальных предпочтениях сына – «И нам, и ему пришлось нелегко», – сказал отец. «Вы ссорились?» – спросил Джордж. «Конечно, – сказал Голдстайн. – Конечно. Но мы все уладили».
В статье, где они с Луисом внимательно перепроверяли каждую строчку, гомосексуальность впервые открыто и прямо представала как некое новое понятие, как образ жизни, а не болезнь или уродство. Основную роль сыграл Луис, чья поддержка и юмор оказались незаменимыми: он работал беззастенчиво, уверенно, часто отпуская шуточки. Еще одной причиной успеха стал отец Джеффри Голдстайна. Все вышло так, словно университетские выпускники, а он был одним из них, официально одобрили подобный новаторский подход. В последующие дни Джордж, Ричард и остальные поняли, что все было наоборот: те звонили не только в отдел по работе с выпускниками, но и вообще в любой, заканчивая администрацией университета, с совершенно противоположной целью.
Другой молодой человек, предполагаемый любовник Джеффри, так и не был найден; на следующей неделе следствие пришло к выводу, что имело место самоубийство, и тело выдали родителям для погребения по еврейскому обычаю. Вскоре после этого состоялась прощальная церемония, куда пригласили Джорджа и Луиса. Она прошла в маленькой реформаторской синагоге на 17-й улице, скромно ютившейся в старинном особняке. Чуть дальше по улице был квакерский молитвенный дом – близость к квакерам всегда обнадеживала. Когда все закончилось, Луис пожал руки Голдстайнам, отцу и матери: мать попрощалась с ним холодно, отец на лишний миг задержал его руку в своей, благодаря его. Вот – Джордж уловил ее взгляд в момент рукопожатия с Луисом, – так вот в чем было дело. Она не смогла смириться с тем, что ее сын был геем. Это по-прежнему печалило и злило ее, так же, как и раньше.
История семьи Голдстайн была пиком журналистской карьеры Джорджа. Ничто больше так не трогало его сердце. Работа требовала страстного поиска источников новостей, материала для статей. Для – излюбленные словечки журналистов – великой статьи. Каждая последующая питалась предыдущей или уничтожалась ею. Разум повествователя превращался в палимпсест, где все прежнее стиралось и было видно лишь происходящее здесь и сейчас. Через месяц после смерти Джеффри Голдстайна о нем никто не вспоминал и не думал, но каждый раз, когда Джордж проходил мимо пустующего клочка земли, где стояло вырванное с корнем деревце, он видел тело на бетоне и вспышки красно-белых огней, мелькающие в завесе осенней тьмы той горькой ветреной ночью. В газете об этом не напишешь.
9
Удивительный мартовский день. Тепло, но свет солнца все еще бледен и падает под углом, словно поздней зимой. Прошло уже почти пять месяцев с тех пор, как расстались Джордж и Анна. Меж ними царила неловкость: они старались избегать друг друга по всей округе, сворачивать с дороги, едва завидев друг друга издали, не смотреть друг на друга, поглощая сэндвичи в «Мама Джойз». Как-то вечером в библиотеке она остановилась у его стола, сказав:
– Знаешь, мы ведь можем с тобой здороваться. Нас это не убьет.
– Привет, – сказал он тогда.
Сказал и в следующий раз, встретив ее, и еще через день, пока это не превратилось в шутку: «Привет». Приветы становились все громче: «Привет! ПРИВЕТ!» Итак, в этот весенний день, еще не расставшийся с зимой, они впервые с октября обретались по разным сторонам все той же большой группы студентов, собравшихся на ступенях лестницы, что шла вдоль северной части Колледж-уок. Анна наблюдала за ним, он – за ней. Меж ними было еще четверо, все более-менее могли считаться друзьями, и он, и она были в джинсах, но ее были слегка подогнуты, и опять эти кеды. Интересно, как ей удавалось выглядеть в них сексуальной? Ее лодыжки. Он хотел взяться за них, развести руки в стороны, разводя ее ноги… Он отвернулся. Затянулся косяком, что передавали по кругу. Ее удивили его дезерты. Дезерты, а когда было холодно и сыро, резиновые сапоги; скоро придет лето, и вновь явятся поношенные топсайдеры. Мужчины просто невыносимы: каждый оденется как-нибудь, а потом ходит так пятьдесят лет или того дольше, пока не умрет. Она видела его, семидесятилетнего, все в той же застиранной хлопчатобумажной рубашке. Сверху все тот же темно-красный свитер с круглым вырезом. Он седой. Не лысый, нет. Просто волосы чуть короче, нечесаные. Он словно прочел ее мысли, снял свитер и бросил в кучу вещей рядом. Она снова увидела его грудь. Его плечи.



