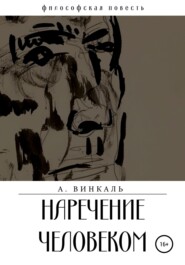 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Наречение человеком
Человек всё ещё сжимал в кулаке полумёртвое насекомое, бившееся из последних сил в надежде улететь из цепких рук неволителя.
– Да, я – при себе! – завопил в одолевшем его отчаянии человек. – Как больно, как одиноко, всё молчит; внутри, везде молчит. А я слушаю, слушаю с терпением, со вниманием. Тоска! – крепко стиснув зубы, он запрокинул голову к небу. – В то же время что-то кричит во мне, а я не слышу. Хоть убей, не слышу! Оно чрез меня кричит, оттого и не слышу, но слушаю: не могу не слушать! Оттого и человек я, оттого и наречён. Не слышно того никому, одному мне суждено слушать, принуждён я навечно. И, видно, жизнь человеческая в том. Больше скажу: моя жизнь в этом!
Вокруг непринуждённо крутилась мошкара, то садясь, то поднимаясь с нагих плеч, шеи, конечностей человека. Высокий особняк, могуче возвышаясь подле, бросал свою тень в сторону от сада, немного не достигая его, словно давал возможность всем присутствовавшим в саду насладиться ласковым теплом клонящегося к закату солнца.
Смеркалось. За последние часы человек так и не тронулся с места. Пока светило солнце, голова его прояснела; тревога улеглась и более не смела беспокоить. С наступлением ночи к горлу вдруг подступили слёзы. Человеку вспомнились стены пропасти и даже показалось, что он вновь среди них, в замкнутом кольце, где заместо каменной ограды – ограда неощутимая, небесная. Человек окинул беглым взглядом темнеющий небосвод, прикрыл веки и уткнулся лицом в землю, пытаясь скрыть слёзы. Никого, кто мог бы увидеть его, поблизости не было, но несчастному всё же хотелось укрыть свою печаль как можно надёжнее: во тьме своих глаз, в немоте языка, в глухоте ушей – он заткнул пальцами уши, больно царапая раковины отросшими по концам мизинцев ногтями. Отныне кругом ничего будто и нет, однако он всё же есть. Хоть убей, есть он! И не скрыться никуда, не спрятаться – вот ты, и всё при тебе, налицо. Твой долг – вынашивать в себе мир: подносят его на блюдце, не спросив и позволения, потому тоска. Сущее проклятие!
Ветер щекотал оголённую кожу человека, отчего по спине расходились колкие мурашки, будоражащие начинавшее дремать сознание. Он не давал себе спать, потому как знал, что отрады в сновидениях ему не найти – тусклые и мерклые, они не принесут облегчения, а поглотят его ещё большей тоской воспоминаний, ещё большей тоской одиночества. Он растёр влажные от солёных ручьёв щёки и бездумно замер до утренней зари неподвижным изваянием, бесчувственный к ласкам последних лучей солнца.
Глава 11. Со дна
Никто не ожидал его возвращения. Повылезший из лачуг народ с изумлением наблюдал за перемещением человека по поселению; тот кидал равнодушные взгляды на людей, неспешно продвигаясь по одному ему известному направлению. Кто-то из толпы, начинавшей потихоньку окружать путника, наклонился к земле за камнем и, метясь в затылок человеку, метнул его. Со свистом камень пролетел мимо человеческих голов и, не достигнув цели, угодил случайному прохожему в спину. Человек бросил безучастный взгляд на своего недоброжелателя: глаза сверкнули минутной ненавистью, на что поселенец ответил тем же. Он хотел было ещё что-то крикнуть путнику, но чья-то рука крепко ухватила его за шиворот балахона, схожего с тем, что прежде по милости старика носил человек, – это был покалеченный камнем прохожий. Он с силой приложил недоброжелателя об землю, да так, что на лице того не осталось живого, не запятнанного кровью места. Люди, заинтересованные потасовкой, поотстали от человека. Тем временем путник скрылся из глаз. Последний, кто видел его, сумел проследить, как человек свернул за двумя молодыми деревцами и, минув иссохшие заросли кустарника, не оглядываясь, юркнул в дверной проём жилища, где обитал хромой старик.
– Истиной, оказывается, я жил и нынче живу. Вот тебе ответ, – громко продекларировал человек и развернул перед оторопевшим стариком помятый лист пергамента, оборванный и запачканный по краям, но целый в основе. Старик как-то весь сконфузился, затрясся телом и настороженно отполз от человека в дальний угол лачуги. Человек сделал вопросительный жест.
– Чего ты боишься?
Тут только он заметил в углу небольших размеров свёрток. Под узлами туго замотанной тряпки сопело и шевелилось нечто живое, хрипело, кашляло. Человек сделал несколько шагов – старик в страхе кинулся к свёртку, прикрывая его своим дряхлым немощным телом. Надменный смех огласил жилище. Человек смеялся, обхватив руками впалый живот; юродивый испуганно косился на него, теребя пальцами тряпку. Насупив брови, он старался не выказывать страха, но весь его вид говорил об обратном. Капли испарины выступили на морщинистом лбу.
– Беспокоишься о ребёнке? Или всё же о себе? Ну да не стоит об этом, хоть я и разочарован в тебе, твоей стойкости: да, я не ошибся, её попросту нет. Видимо, каждый из нас жалок по-своему. Не так ли? О, в каждом из нас трагедия; это трагедия жизни, трагедия одинокого, покинутого существования, кое мы стремимся заполнить сущей несуразицей, тогда как стоит обратиться… – человек замешкался. – Я думаю, это станет яснее из моего сочинения.
Сквозь щели в стенах, сколоченных из трухлявой, кое-где подгнивающей древесины, пробивались еле ощутимые лучики света; большая часть лачуги тонула в полумраке. Нащупав в темноте листок, старик потянул его к себе, подслеповато щурясь единственным здоровым глазом. В нос ударил кислый запах чернил. Он потянул ноздрями воздух, дрожащими пальцами зажёг свечу, поставил её около листа: бумага заблестела, обнажая заглавие сочинения: «Трактат человека».
Над пергаментом склонились две головы. Ниже всех пригибалась плешивая седенькая головка, из-под которой торчал конец горбатого носа. Темя её было изъедено временем, в центре макушки значилась плеяда тёмных старческих пятен. Нос касался практически самого пергамента: владелец головы был слеп, ему приходилось приклоняться чересчур низко, чтобы разглядеть мелко выведенные на листе буквы.
– Признаюсь, это нелегко, – говорил человек. – Отчаяние не раз погребало меня под обломками моих собственных надежд. Иной раз казалось, что вечность истекла, – он указал на рубцеватый затянувшийся шрам в боку, зло осклабился, – вздор! Её у меня с избытком.
Настал час расплаты за содеянное[7]: у горла старика блеснуло лезвие; острый стальной клинок концом упёрся беспомощному в кадык, сдавил, не позволяя вздохнуть. Любое движение повлекло бы печальные последствия. Каждый вздох мог стоить ему жизни.
Из угла донеслись звуки возни: свёрток зашевелился. Там, не отвлекаясь на суету в лачуге, сладко посапывал малютка. Он перебирал маленькими ножками и тяжело, прерывисто дышал, изредка сбиваясь на болезненный хрип. Из-под тряпки выбивались его детские кудрявые волосы, отливающие чернотой. Сердце человека невольно переполнилось чувством жалости – нет, не к ребёнку! – к немощи старика. Коль скоро он живёт этим дитём, конец его близок; так к чему отнимать остаток жизни, хотя бы и не ценимой стариком, глухим к её призывам, но всё-таки данной в обладание непосредственно ему?
«Не мне судить его», – решил человек и убрал от шеи несчастного лезвие – тот облегчённо выдохнул, содрогнувшись всем телом.
– Я достиг вершины. Теперь, – обессиленный путник прилёг у стенки лачуги, прижавшись к ней спиной, – мне следует забыться. Хотя бы на короткий срок….
Вскоре он заснул крепким беспробудным сном, в то время как взбалмошные глаза старика бегали по пергаменту в попытке проникнуться чужой мыслью, пережить, обрести веру того, кто взвалил на себя бремя неизбывного одиночества.
***
День, на удивление, выдался промозглым. Не было прежней невыносимой духоты, одолевавшей людей, забиравшей их последние силы; среди горных масс, вдоль песчаных троп гулял освежающий ветерок, пришедший с дальних морей. Он разгуливал меж иссушенных дряхлых дерев, убаюканных нежным теплом солнца – так зачастую ненастье, прежде играющее супротив нас, проявляет снисхождение, даруя на мгновение покой. Уходят все невзгоды – листва зеленеет, пропитанная живительной влагой; вздыхает и человек, полной грудью вздыхает, выходя из полумрака лачуги, поднимается со дна, где прозябал всю жизнь. Всё ясно для него, отчётливо и разборчиво предстаёт перед ним; всё покорно, и всё возможно. Не раз ему ещё придётся оступиться, пасть и ползти – мгновение покоя кратко и обманчиво – прежде чем возвратятся былые силы.
Трактат человека
П. 1 (Пункт 1). Что есть Я?
Я чувствую холод. В первую очередь, Я есть чувство.
Я облекаю чувство в форму. Я не просто чувствую – Я [со]знаю своё чувство. Я мыслю своё чувство (осознанно переживаю), а значит, Я есть мысль.
П. 2. Я есть?
Долго и внимательно я наблюдаю за своей мыслью. Наблюдение также есть мысль. Обнаруживая свою мысль мыслящейся, я становлюсь сторонним наблюдателем, взирающим на самого себя. С позиции наблюдателя я могу доказать наличие мысли. Значит, мысль есть. Если есть мысль, есть Я[8].
П. 3. Есть ли что-либо, кроме Меня?
Моё чувство, облечённое мыслью, вызвано чем-то извне, иначе бы моя мысль была причиной самой себя и исходила бы также от себя, что, по моей логике, ложно, поскольку она является обликом чувства, которое отражает объект внешней действительности, как, например, земля даёт мне чувство холода.
Но вполне возможно, что я заблуждаюсь, и разум обманывает меня, подтасовывая карты и подсовывая мне внушение, т. е. самовнушение, заменяя им истинное чувство объекта. В таком случае стоит склониться к выводу, что чувство холода земли может быть ложно, но сама сущность, иначе идея чувства[9], истинна, как истинна моя мысль, действительность которой я разъяснил в п. 2. Отсюда следует, что существует извне Что-то, наделяющее меня идеей чувства как такового, т. е. моей же собственной мыслью, к которой я пришёл через [со]знание идеи чувства холода земли.
П. 4. Что есть Что-то?
Если из Чего-то проистекает идея чего-либо, становящаяся моей мыслью, которая, в свою очередь, является выражением Меня самого, т. е. Мной самим, значит, через это Что-то Всё, в его абсолютном значении, начинает быть. Что-либо в этом случае есть частный случай Всего, как чувство холода является частным случаем чувства как такового вообще, а чувство, в свою очередь, – частным случаем чего-либо большего, и т. д. вплоть до Всего.
П. 5. Что Меня отличает от Чего-то, и что Меня отличает от Всего?
Следуя п. 2 и п. 3, с точки зрения стороннего наблюдателя, Я есть такая же идея, как и Что-либо прочее. В таком случае Я являюсь частицей Всего, его частным случаем, как следует из п. 4. Но в то же время этим наблюдателем являюсь Я сам, т. е. постигаю себя как идею в самом себе же. Значит, идею самого себя я, в первую очередь, даю сам себе и вместе с тем являюсь частицей Всего (т. е. идея Меня как части проистекает из Всего, т. о. выражая Что-то – как мы увидим далее), которое, как я объяснил в п. 4, начинает быть через Что-то. Вследствие этого можно сделать вывод, что Я есть некое Что-то в качестве частицы Всего (т. е. в качестве Чего-либо). Но Я не абсолютное Что-то, поскольку единственно через идеи (точнее ту или иную идею) Чего-то начинаю быть.
Значит, Я есть непосредственное проявление, или же выражение Чего-то во Всём (т. е. в качестве части Всего).
П. 6. Есть ли Кто-либо, кроме Меня?
Поскольку я не абсолютное Что-то, через которое начало быть Всё, а лишь непосредственное выражение Чего-то и идея во Всём, значит, могут быть[10] и прочие (сторонние для Меня) Кто-либо, выражающие Что-то в качестве частицы Всего.
П. 7. С какой целью Кто-либо выражает Что-то во Всём?
Кто-либо непосредственно выражает Что-то в качестве идеи этого Чего-то посредством идеи Чего-либо[11] Всего. Кто-либо есть следствие Всего (п. 4), фиксирующий идеи Чего-то через самого себя[12] (п. 2), значит, через выражение Чего-то (п. 5). Таким образом, идея Чего-то фиксируется и познаётся через выражение Чего-то, т. е. в своём выражении – в Ком-либо.
Примечания
В наше время весьма мала вероятность встретить серьёзную научную работу без опоры на тексты уже имеющихся трудов мыслителей, философов и пр. Потому (в равной мере и для того, чтобы читатель лучше усвоил материал) было принято решение поместить в конец повести примечания, поясняющие некоторые аспекты мышления и поведения представленных в произведении героев.
[1] Рассматриваемый с точки зрения единичного экзистирующего индивида (см.: Экзистенциализм).
«Выделив в качестве изначального и подлинного бытия само переживание, экзистенциализм понимает его как переживание субъектом своего «бытия-в-мире». Бытие толкуется как непосредственно данное человеческое существование, как экзистенция…» (Философский энциклопедический словарь. – Москва, 1983. С. 788)
[2] «И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым…» (Быт. 2:20).
[3] Подразумевается то, что открылось человеку в пору его вторичного пребывания на дне пропасти (см. главу 4). Подробное описание откровения содержалось в первоначальном варианте произведения. Спустя время было принято решение убрать этот фрагмент из текста.
[4] «…Противоположное отчаянию – это вера… обращаясь к себе самому, стремясь быть собой самим, моё Я погружается через собственную прозрачность в ту силу, которая его полагает» (Кьеркегор С. Болезнь к смерти / пер. с дат. Н. В. Исаевой, С. А. Исаева).
[5] См. главу 7.
[6] Для Кого-либо в его единственно возможном субъективном восприятии (см.: глава 11, п. 7).
[7] См. главу 3.
[8] «…Следует признать, что утверждение «аз есмь», «я существую», с необходимостью будет верным всякий раз, когда оно высказывается мной или занимает мой ум» (Декарт Р. Размышления о первой философии / пер. М. Позднева).
[9] Разъяснению этого термина стоило бы посвятить отдельное эссе, однако, в целях сохранения целостности произведения и опасаясь излишней многословности по отношению к настоящему трактату (чего он совершенно не требует, исчерпывая свою мысль в семи коротких, но ёмких пунктах рассуждения), автор поместил его в раздел примечаний.
С античных времён понятие идеи употреблялось философами в значении первосущности, умопостигаемого прообраза вещей и их отношений: так называемые "подлинники" предметов спекулятивных знаний, этики и пр. противоположны чувственности, препятствующей их познанию и осмыслению. Мы видим, что идея (в классическом понимании) – идеальна и представляет исключительно мысленный образ. "Под идеей я разумею такое необходимое понятие разума, для которого в чувствах не может быть дан никакой адекватный предмет" – пишет Кант в своей фундаментальной работе (см.: Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. О. Лосского), таким образом определяя понятие идеи не только для своей, во многом отличной от прочих системы, но и для всей мировой философский мысли вообще. Идея – в предмете мышления, мыслимая вещь, подчинённая априорному, т. е. внеопытному знанию; она отражает идеал созерцательного объекта.
Надеюсь, после данного выше объяснения меня не осудят за неверную трактовку понятия, видоизменённого в моём рассуждении, и мы сможем, наконец, приступить к его актуальному толкованию.
Действительно, я не мог отказаться от столь ценного термина, как "идея", поскольку в "Трактате человека" она есть также мыслимая сущность. Разница заключается в следующем: это мыслимая сущность моего внутреннего чувственного опытного состояния, отражающего в то же время и исконный, мало познаваемый первоисточник состояния. Осознанно переживая то или иное собственное состояние, я имею и осмысляю и его идею: идею не предмета, а переживания, чувства. Я мыслю свою суть, а не внешний источник (предмет), который может мне быть дан в искажении из-за моего образа мышления (а не из-за чувственности, что немаловажно отметить здесь). В каждое новое мгновение я переживаю и помышляю переживаемое. Таким образом, я мыслю и имманентный источник – в том смысле слова, в котором употреблял его Спиноза, т. к. источник проявляет себя как умопостигаемая внутренняя причина, – выражающий его во мне; тут уже есть смысл сослаться на дальнейшие пункты трактата, в которых это вполне подробно описано.
[10] «То, что всё познаёт и никем не познаётся, это – субъект. Он, следовательно, носитель мира, общее и всегда предполагаемое условие всех явлений, всякого объекта: ибо только для субъекта существует все, что существует. Таким субъектом каждый находит самого себя…» (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда).
[11] Тут стоит отметить важное различие, которое может быть не столь ясным из текста: идея (чья?) Чего-то, но идея (чего?) Чего-либо. Первое обозначает принадлежность и происхождение идеи, второе – то, что идея воплощает.
[12] «Оно чрез меня кричит…» (см. главу 10).



