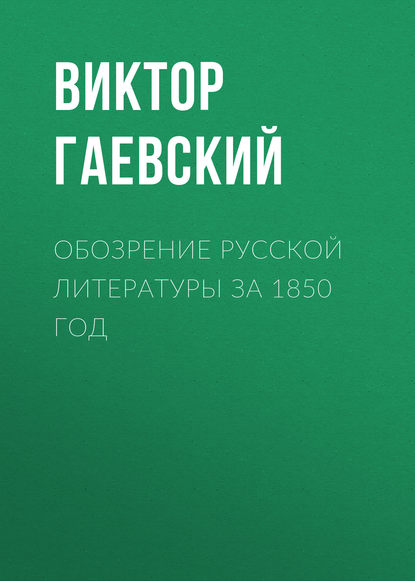 Полная версия
Полная версияОбозрение русской литературы за 1850 год
Следовательно, г. Писемский, выводя такое лицо на сцену, как Павел Васильич, знал, что действовать начнут и выкажутся все те лица, которые придут с Бешметевым в соприкосновение, что лица эти займут первое место в жизни Павла и поразят читателя своею характерностью. Так и вышло: действуют, развиваются, живут и процветают Владимир Андреич, Бахтияров, Юлия Владимировна, Перепетуя и Феоктиста, а сердце Бешметева, ум его говорят читателю только, что это за люди, которые усиленными действиями подвигают колесо той жизни, в которую его втерла судьба. От этого при чтении повести г. Писемского так скоро и хорошо рисуются второстепенные лица, в среду которых попал Бешметов…. Вы спокойно следите за мастерским рассказом автора и видите в г. Писемском человека очень хорошо понимающего тот круг, который он взялся обрисовать, и обладающего искусством изображать его двумя-тремя чертами. Перед вами развертывается ряд событий, но виною их не Бешметев: около него могут твориться на яву повести и романы, но не он будет их причиною; около него движутся страсти, бегают без умолку Перепетуя Петровна с Феоктистой Савишной и чуть не сбивают друг друга с ног, ни дать ни взять, как Добчинский и Бобчинский в «Ревизоре»; хлопочет Масуров, а пуще – прекрасный Владимир Андреич; действует Юлия Владимиронна, рисуется Бахтиаров…. Наконец все эти лица все запутывают, сами себя запутывают и туда же кстати запутывают Бешметева, производят кутерьму, плачут, чуть не дерутся, обманывают друг друга…. и выходят наконец все прекрасными людьми, и только Павел остается виноват один в том…. что он ничего не делал. Таков смысл «Тюфяка», и автор нигде не погрешил против этой основной мысли…. Бешметев остался Бешметевым до конца жизни. Только Бешметев не герой повести, а фон, грунт той картины, которую рисует на нем автор; в «Тюфяке» – все герои, за исключением самого героя, который есть как бы обстановка для них всех; в «Тюфяке» все действуют, как мы сказали, за исключением самого Тюфяка. И потому Бешметев никак не мог бы быть героем никакой повести, потому что в нем самом нет движения; он лицо по преимуществу лирическое, или, лучше, пассивное, т. е. в настоящем смысле страдательное и страдающее; и потому автор, положив такую идею в основание своего, рассказа, хотел обрисовать только окружающие лица, и должен был рисовать их. Поэтому повесть «Тюфяк» не есть в строгом смысле повесть, в которой все двигалось бы от одной причины, одним характером, в которой идея, а с нею и повесть получила бы окончательное развитие, когда вполне выскажется и проявится герои повести: нет! Тюфяк, т. е. Бешметов с первой до последней страницы один и тот же, и продли автор его жизнь еще на несколько лет, с ним случилось бы еще несколько историй, но он не высказался бы более того, как высказался уже однажды, при собственной своей женитьбе, в конце первой части; и поэтому вся вторая часть повести служит только к уяснению характеров второстепенных лиц, но для характера Бешметева она не нужна. На этом же самом основании в повести «Тюфяк» стоят на первом плане с Бешметевым и второстепенные лица, потому что они живут и развиваются; каждое из них представляет собою, так сказать, отдельную повесть, нисколько не уступающую повести о главном лице, Бешметеве. В то время, когда женитьба Бешметева, противу собственной его воли, служит лучшим выражением личности Тюфяка, в то же время сватовство Феоктисты Савишны, о котором никто ее не просил, но которое она так мастерски уладила, вполне обличает услужливый характер этой примадонны того города, в который приехал Бешметев; в тоже самое время и личность Владимира Андреича Кураева достигает полной определенности. Он так мило уговаривал Юлию Владимировну выйти замуж за Бешметева, он так отчетливо разузнавал о всем, что есть движимого и недвижимого у жениха, он так аккуратно, на чужой счет, устроил жизнь новобрачных, что ему оставалось только уехать в Петербург и занять приисканное ему частное место: для повести он не был больше нужен. Он сделал все, что мог, а что могло впредь произойти, о том ему и знать не было нужно. Все эти лица стоят на первом плане; после женитьбы выступают на сцену Юлия Владимировна, Бахтиаров и Лизавета Васильевна. И эти лица не уступят своих первых мест – Бешметеву.
С другой стороны, перенесите Бешметева в иной круг – повесть вышла бы иная, а Тюфяк остался бы «Тюфяком».
Итак, в повести г. Писемского на первом плане характеры. И посмотрите, что это за живые лица! Каждое из них мы видели, кажется, где-то; о каждом из них слышали что-то, с большею частию из них был знаком каждый читатель в своей жизни. Скажите, разве вы не знаете Перепетуи Петровны и её истинного друга Феоктисты Савишны? они друзья потому, что похожи, как две капли воды, одна на другую; но оттого, что они так похожи друг на друга, они в тоже время и взаимные враги. Врагами они делаются всякий раз, когда одна перебивает у другой какой-нибудь предлог к деятельности: или сватовство, или выгодное знакомство, или случай поплакать и выказаться в горестном виде. они сходятся и дружатся, когда и ту и другую обойдут за столом, когда ни у той, ни у другой нет приличной деятельности, или когда одна имеет сообщить другой что-нибудь новенькое. Перепетуя Петровна взбесилась на Феоктисту Савишну, когда та сосватала Бешметева, не спросясь её; Перепетуя Петровна помирилась с Феоктистой Савишной, когда тесть почтил ее, Перепетую Петровну, сделал ей визит и позволил ей быть посаженой матерью. Перепетуя Петровна опять рассорилась с Феоктистой Савишной, когда, на свадьбе, за обедом, она, Перепетуя Петровна, ничего не могла есть, сотому что стол был скоромный, а день постный – Феоктиста же Савишна все ела; Перепетуя Петровна и Феоктиста Савишна помирились опять, когда на свадебном бале им обеим не было оказано должного почета. – Их отличительные признаки в том что они беспрестанно бегают одна к другой, и горюют друг о друге, утешают друг друга, и в тоже время скрытничают одна от другой. Перепетуя Петровна спит без просыпа, в то время, когда к ней приходит Феоктиста Савишна; однако ж, она не может сказать, что ей спится в то время, когда с родной сестрой сделался паралич. Поэтому она говорит, выходя из спальной: «Я, в моем горестном положении, сижу больше там у себя, даже с закрытыми ставнями: как-то при свете-то еще грустнее.» Феоктиста Савишна соглашается с таким мнением, потому что и сама готова спать во всяком случае, однако ж, понимаем, что в спальной не горюют, а спят, но как деликатная дама не замечает этого. Обе начинают плакать, и Феоктиста Савишна находит нужным привести успокоительный пример:
– У меня покойник два раза был в параличе, все лицо было сворочено на сторону, да прошло.
– Да у сестры гиппохондрия, отвечает Перепетуя Петровна.
Феоктиста Савишна и об этом не задумается:
– Чтожь такое гиппохондрия! ничего. Да вот недалеко пример. Басунов, племянницы моей муж, целый год был в гиппохондрии, однако прошла; теперь здоров совершенно. Что же после открылось? Его беспокоило, что имение было в залоге; жена глядела, глядела, видит, делать нечего, заложила свою деревню, а его-то выкупила – и прошло.
И Перепетуя Петровна и Феоктиста Савишна заражены одною страстью – женить и родных и неродных, знакомых и незнакомых. Перепетуя Петровна выдала замуж Лизавету Васильевну; зато Феоктиста Савишна женила Бешметева. В этих случаях они действуют решительно, как бы чувствуя свое призвание: сестра Бешметева, из сострадания к брату, который любил Кураеву и, по трусости и отсутствию характера, сам не мог сделать ни шагу, просила Феоктисту Савишну разузнать только о мнении Кураевых насчет брата её, Павла. Чтожь делает Феоктиста Савишна? Она говорит, что пришла от Бешметева с формальным предложением, что он сказал ей: «я бы и сам сделал предложение, да сами посудите, я ведь решительно не знаю, как обо мне разумеют.» Получив уже согласие Кураевых и возвращаясь домой, она спохватилась, что ей не давали права сватать, а просили разузнать стороной мнение Кураевых о Бешметевом! Да что ей за дело? Если бы это дело касалось не Тюфяка, она, может быть, и побоялась бы действовать так опрометчиво, а с ним что церемониться! Написала записочку к Лизавете Васильевне, что дело-мол устроилось, – да и концы в воду, принимайся за пирование! Ей лишь бы была свадьба, а согласна невеста на брак, или нет, ей все равно; она, впрочем, и видела, что невеста несогласна, да чтожь из этого! Лизавета Васильевна, правда, просила выведать мнение Кураевых; но если ей сказать то, что думает невеста о женихе, так ведь и свадьбы не будет! Ей известно также, что за невестой в приданое дадут «старую перину, новый веник, да полтину денег», как она сама говорит; да что ей и до этого за дело! Таким же образом, вероятно, сосватала Перепетуя Петровна и Лизавету Васильевну. Это ей дело обыкновенное!
Феоктиста Савишна и Перепетуя Петровна имеют самую нежную слабость к родственникам; но это не мешает им из любви делать больше вреда, чем добра. Так Перепетуя Петровна бранит племянника Павла за то, что он не имеет нежности к матери, и в тоже время она плачется об этом больной старухе, которая чуть не обмерла от такого известия! Перепетуя Петровна любит племянницу Лизаньку, которую выдала замуж; но это не мешает ей сказать, что у Лизаньки интрига с Бахтиаровым, потому что Бахтиаров ездит в дом Лизаветы Васильевны. Перепетуя Петровна рассказала об этом и Феоктисте Савишне; а это значит, что она рассказала целому городу.
Точно также определителен характер Владимира Андреича Кураева. Что это за решительный, бойкий и осмотрительный в свою пользу человек! Как он умеет говорить и держать себя в приличном отдалении от жены, детей и знакомых, чтобы знали, с кем имеют дело. Как он хорошо рассуждает с Юлией Владимировной о браке! Но когда Бешметев приходит к нему, Владимир Андреич держит такую речь: «Я, признаться, не решался…. мало даже советовал…. но заметил её собственное желание…. счел себя ее вправе противоречить; голос её сердца, в этом случае, старше всех»…. Говорит Владимир Андреич таким внушительным тоном, что Бешметев, со свойственным ему знанием света, сейчас разгадывает в нем доброго человека! Да и как не разгадать Владимира Андреича: жил он открыто и был человек в обществе видный, резкий немного на язык, любил порезонёрствовать и владел даром слова; наружность имел он очень внушительную, солидную и даже несколько строгую!
Точно также хорошо выдержан и весь характер Бешметева. Эта несчастная натура, наделенная и чувством нумом, имела один недостаток, но такой важный, что он парализировал все достоинства. Недостаток этот, как мы сказали – отсутствие воли, подвижности, решительности на столько, сколько нужно для приведения в исполнение однажды задуманного и обдуманного плана. Случись Бешметеву жить в другом кругу общества, где нашлись бы люди, которые с участием пополнили то, чего ему недоставало, жизнь Бешметева могла бы быть счастливейшею. С одной стороны, отсутствие мелкого самолюбия, отсутствие желания рисоваться перед другими, с другой – потребность работать умом, сделали бы из него если не человека блестящего, по крайней мере очень почетного в той сфере деятельности, к которой он чувствовал призвание, сделали бы его счастливым семьянином, кротким, добрым и терпеливымь в тех случаях, когда другие характеры, более резкие, иногда высказываются с невыгодной стороны. – Но этот характер достался на долю Владимриа Андреича и Юлии Владимировны, этим характером завладели Перепетуя Петровна и Феоктиста Савишна, и участь его решилась совсем иным образом, нежели можно было ожидать. Родился он на свет Божий худеньким и очень слабым, с детства был невероятно добр и послушен; никогда он не резвился и не бегал, а сидел больше на лежанке, поджав ноги; собой был он очень нехорош, и поэтому он не любил, когда приезжали гости, которые привозили с собою хорошеньких детей и говорили с ними по французски; ему было очень совестно сидеть при них в гостиной, он прятал свои руки и ноги, или, лучше сказать, весь прятался в угол, в котором обыкновенно усаживался. Ему казалось, что все смотрят на него с пренебрежением и сожалением; его (никто, кроме матери, никогда не ласкал; молодые барыни никогда не подзывали его для поцалуя и для разговоров, как это бывает с хорошенькими детьми. Из некрасивого и робкого ребенка сделался он мешковатым юношею. В гимназии Павел решительно не шалил и, хорошо учился; товарищи подтрунивали над смирным юношей; он был рад, когда избавлялся от их присутствия, когда уходил домой, оставался один, ложился на кровать и начинал мечтать. Таким же робким остался Павел и в университете, не имел он решительно знакомых; с лекции возвращался домой, читал, писал, «заслужил название старичка» от титулярной советницы у которой проживал. Мечты и Шиллер дали ему почувствовать вскоре, что у него бьется в груди такое чувство, которое он и назвать не умеет, но которому бывает очень привольно, когда он видит соседку Юлию Владимировну. Вытребованный из Москвы, по случаю болезни матери, он приезжает к ней, полуумирающей; он также не знает света и его приличий, как не знал их на ученической скамье; он также робок, также не понимает своего достоинства, как и прежде не понимал его. Этакого человека может окрылить одна любовь к такой женщине, которая бы поняла его и с любовию внушила ему чувство собственного достоинства. Самое это чувство уже сильно развило бы его. Чтожь он находит? И без того робкий и неуверенный в себе, он слышит такие отзывы из уст своей тетки: «что это за молодой человек, скажите на милость? не хочет показаться в общество; право в нем нет ничего дворянского-то, совершенный семинарист. Вон посмотришь на другую молодежь-то: что это за ловкость, что это за вежливость, в тоже время, к дамам, – вчуже, можно сказать, сердце радуется; а в нем решительно ничего этого нет: с нами-то насилу слово окажет, а с посторонними так и совсем не говорит. Чего у него недостает? платье бесподобное, фрак отличнейший самого тонкого сукна; выезд хороший…. нет, сударь ты мой, сидит сиднем, в Рождество даже не съездил никого поздравить.» Такие отзывы и того более конфузили Бешметева. Кто мог бы поставить его на ноги и вывесть на прямую дорогу? Сестра его? но ее занимал в это время Бахтиаров. Полный боязни и незнания света, он вдруг слышит из уст Перепетуи Петровны, что его любит Юлия Владимировна? Кто не поверил бы такому приятному известию, не говорим уже о неопытном, бесхарактерном и влюбленном Бешметеве? – И вот его женят на той, о которой он мечтал по кодексу Шиллера, которой готов посвятить всю жизнь. Его женили без его собственной воли, хотя он и любил Юлию Владимировну. Но вся жизнь его должна была состоять из таких поступков. Еще в Москве он мог уйти из сетей титулярной советницы, выбравшись из дому до рассвета и перебравшись на другую квартиру; когда он собрался было ехать от больной матери в Москву – продолжать там учение, нескольких слов Перепетуи Петровны было достаточно, чтобы он сжег свои тетради; когда он, настроенный Перепетуею Петровною, собрался сделать выговор Масуровой, за то, что у неё часто бывает Бахтиаров, он отправился – и не сказал ни слова. Такое отсутствие уверенности в самом себе! Но в ком есть этот недостаток, тот не в состоянии будет сказать даже нескольких слов Масурову, который проигрывал в карты состояние жены Точно таже нерешительность проявилась в Бешметеве и в обращении с Юлией Владимировной, когда она воротилась вечером от Бахтиарова…. Одним словом, Бешметев один и тот же всегда. Ему не дали приглянуться к свету, опомниться, ободриться, и уже им овладели Перепетуя Петровна, Феоктиста Савишна, Владимир Андреич и Юлия Владимировна. Из этого заколдованного круга ему нельзя было вырваться никогда, и он остался в нем.
О Масурове и жене его, об Юлии Владимировне и семействе Кураевых, о котором в городе говорили, что оно сидит на овчинах, а бьет с соболей, не будем распространяться: и эти лица очень хорошо очерчены, хотя не так подробно.
В заключение скажем о повести г. Писемского, что у прочтя первую часть её, мы никак не ожидали такой быстрой развязки, какая последовала за второй. Автор так много страстей вывел на сцену, что мы ожидали более продолжительную борьбу. От Бешметева нечего было ожидать какой либо борьбы: он лицо страдательное. Борьба сосредоточилась на трех лицах: Лизавете Васильевне, Юлии Владимировне и Бахтиярове. Положение Лизаветы Васильевны делалось с часу на час затруднительнее: ей предстояла борьба и с собственным сердцем, и с своими обязанностями в отношении к Масурову, и с своею любовью к брату, Павлу; наконец ей предстояла борьба с Юлией Владимировной. Сама Лизавета Васильевна лицо очень интересное, и предстоявшая ей борьба требовала от автора целого романа; выведенная же на сцену как эпизод, она осталась как-то неполною. В том виде, как она осталась у автора, она обрисовала больше Бахтиярова и Юлию Владимировну, чем Лизавету Васильевну. На Бешметева эта борьба содействовала только отрицательным образом: именно, что Мансурова не могла ничем помочь своему брату в его тяжелом положении, потому что сама в это время боролась с своей страстью.
Но замечание это второстепенное; вообще же о повести г. Писемского должны мы сказать, что прочли ее с тем удовольствием, которое редко бывает результатом чтения повестей «Москвитянина». Написана она языком бойким и живым, полна наблюдательности и отличается светлым взглядом автора на предметы. Во взгляде этом столько ума, столько неподдельного, практического здравого смысла, что автору безусловно во всем веришь, и желаешь только одного – чтобы он писал больше и больше.
В 1850 году в «Современнике» были помещены произведенья трех новых авторов: «Соседи», повесть Надежды….. (№ XII), «Дачный рассказ» Д. Чернышева (№ V), «Пари», рассказ П. М-ра (№ X).
Повесть «Соседи» обнаруживает признаки таланта самобытного и весьма замечательного. Кто прочел ее, тот не может не признать в авторе меткой наблюдательности и фактического знания описываемого быта. Самый язык автора отличается оригинальностью; но мы боимся, чтоб, гоняясь за нею, автор не впал в вычурность, признаки которой замечаются уже и в первой повести. К недостаткам «Соседей» принадлежит еще, местами, многословие и вследствие того некоторая растянутость в целом, – недостаток, которого редко избегают начинающие таланты.
«Дачный рассказ» г. Чернышова отличается наблюдательностию в необширной, но, по видимому, вполне доступной автору сфере, и в особенности живым, верным разговорным языком.
Заметим еще повесть «Одарка-Квочка», соч. г. Дрианского (Москв. 1850). Впрочем, упоминаем о ней потому только, что она принадлежит новому автору. В авторе местами заметен талант, хотя и подражательный; но совершенное неуменье вести рассказ и страшная растянутость делают повесть до того скучною, что едва ли она найдет много читателей….
К 1849 году принадлежит драма графа Соллогуба, «Местничество», помещенная в «Литературном Сборнике», изданном редакциею «Современника».
В небольшом числе замечательных драматических пьес двух прошлых годов должно отметить также комедию г. Меншикова «Выгодное Предприятие» (Совр., 1849, № 5): читатели, конечно оценили в ней естественность содержания и артистическую умеренность, с которою оно передано. Тоже должно сказать о другой комедии г. Меншикова «Причуды» (Совр., 1860, № 8), которая еще лучше первой. Талант г. Меншикова не принадлежит к первостепенным талантам, но он самобытен; в нем нет ничего особенно блестящего, но зато нет и ничего ложного. Г-н Меншиков, но видимому, хорошо знает свои силы и обладает литературным тактом. Наблюдательность г., Меншикова, не имеющая претензии на глубину, но и неповерхностная, особенно замечательна.
Против обыкновения, 1850 год обнаружил некоторое движение по части стихотворной. Причиною тому было появление небольшой книжки «Греческих Стихотворений», г-на Щербины, о которой мы поместили в свое время подробную статью (См. Совр. 1850, № VII). В авторе «Греческих Стихотворений» действительно есть поэтический талант. До какой степени он силен и самостоятелен, покажет будущее.
О других стихотворцах, гг. Мее и Берге (печатавшихся в Москвитянине) и о целой поэме графини Ростопчиной «Поэзия и Проза Жизни» (там же) не говорим. О них лучше поговорить Новому Поэту.
«Современник», № 2, 1851


