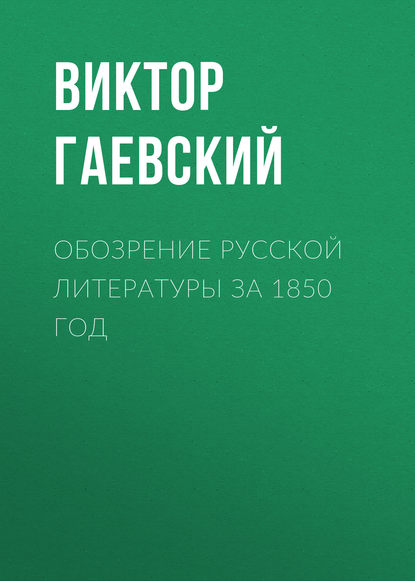 Полная версия
Полная версияОбозрение русской литературы за 1850 год
Другим представителем художественности, в настоящем смысле слова, может по справедливости быть назван г. Григорович. У него, точно также, как и у г. Гончарова, превозмогает чувство формы. У него также нет личностей, в которых бы ему хотелось выразить особенно занимающую его, любимую мысль, отчего все создания и тогой другого для них совершенно равны, и если они любят их, то потому только, что эти создания их собственные. Как образчик этой художественности в числе произведений 1849 года занимают видное место «Четыре времени года», г. Григоровича. Это прелестная идиллия в прозе, едва ли не более удачная в своем роде, чем все стихотворные попытки прежних времен. Г. Григорович, благодаря своему чисто-художественному инстинкту, сумел избегнуть и тех недостатков, в которые впадали большею частию все наши писатели, пробовавшие описывать в повестях быт наших крестьян. Мужички наши, бабы, девки изображаются им во всей своей оригинальной простоте и наивности. Они говорят о том, что им действительно известно; они действуют в том кругу, которым очертила их судьба и не порываются, как часто случалось в наших повестях и романах, в область идеального. Потому и самое содержание «Четырех времен года», простое и верное, немногосложно; интрига вертится на обстоятельствах, совершенно доступных крестьянам, и, следя за её развитием, так естественно переселяешься в эту чуждую хитросплетений жизнь наших мужичков. Но, несмотря на всю эту простоту и немногосложность, не только веришь, что все эти обстоятельства могли занимать действующих лиц этой идиллии, но дивишься искусству, с которым г. Григорович обрисовал все характеры, как он избегнул однообразия, как он подметил и резкие и мелкие черты, их взаимно отличающие.
Другое произведение г. Григоровича, явившееся также в 1849 году, «Похождения Накатова», не выдерживает никакого сравнения с произведениями того же автора из народного быта. Главный недостаток, по нашему мнению, заключается не столько в обрисовке действующих лиц, сколько в бедности содержания и в недостатке действия.
Две повести г. Григоровича: «Капельмейстер Сусликов» (Современник, 1848, № 12) и «Неудачи» (Отеч. Записки, 1850, № IX), принадлежат к самым неудачным его произведениям.
Если мы скажем, что ряд статей, под одним общим заглавием «Записок Охотника» – лучшее произведение г. Тургенева, мы, может быть, повторим только сказанное прежде нас многими, и, между прочим, сказанное нами самими назад тому года два. Если мы придем к тому же результату, рассмотрев произведения г. Тургенева в других родах: его поэмы, повести, комедии и водевили, мы подтвердим опять-таки уже прежде сказанное. Если мы скажем, что г. Тургенев в своих «Записках Охотника» рисует перед нами ряд типов, взятых из русской жизни, мы скажем общую мысль, легко прилагаемую и к некоторым другим нашим нувеллистам. Если мы, наконец, скажем, что в произведениях г. Тургенева мы чувствуем русскую природу, русский лес, русские широкие поля, засеянные ячменем и рожью, что мы дышим русским воздухом, – мы все таки скажем правду, но такую, которую никто не согласится приписать исключительно г. Тургеневу. А между тем у г. Тургенева много всех тех достоинств, о которых мы говорили, и все они вместе дают его «Запискам Охотника» особенную физиономию, ему исключительно свойственную. Вглядимся пристальнее в этот ряд картин замечательных и, в такой же мере, почти неуловимых для критики, по своей прелести. Каждый рассказ г. Тургенева вы невольно читаете, понимаете, так сказать, чувствуете; вы не только легко представляете себе образы, нарисованные перед вами, не только легко можете уразуметь каждый характер изображенный автором, вы не только легко сочувствуете внешней природе, посреди которой действуют эти характеры; но все вместе, и характеры и природа, производят на вас одно общее впечатление, которое вы так хорошо понимаете в «Рассказах Охотника». И совсем тем этого-то общего впечатления вы никак не сумеете передать словами! Так оно слито с картинами, которые нарисовал перед вами мастерской кистью г. Тургенев. Не все «разсказы» г. Тургенева в этом отношении одинакового достоинства. Есть «рассказы», в которых вы видите желание автора создать из ему знакомых материалов характер-тип. Тут все внимание автора поглощено разработкою внутренних сил этого лица, так сказать, физиологическою работою. Таков рассказ Гамлет Щигровского Уезда. И в, этом физиологическом очертании вы видите талант, умевший создать из этих разрозненных, сами-себе противоречащих, по видимому, черт – характер целостный, крепко связанный одною общею идеею, которая его проникает. Есть у г. Тургенева другие рассказы, в которых человек стоит на втором плане, а на первом – природа. В них вы до того сочувствуете истине всего рассказываемого, до того верите каждому мельчайшему описанию природы, что, кажется, будто вы сами проходили по всем описываемым автором местам, чувствовали тоже, что и автор, и поручили ему записать ваши ощущения. Таков рассказ г. Тургенева Лес и Степ. Но есть, наконец, у г. Тургенева, рассказы, в которых природа и человек сливаются в одно целое. В этих рассказах г. Тургенев достигает полноты картинности, которую вы почти осязаете, прочтя рассказ, но не сумеете – повторяем прежние слова – передать никому эту картинность иначе, как в самом рассказе г. Тургенева. К таким рассказам относились из прежде написанных автором: «Хорь и Калиныч», «Бирюк»; к ним же относятся и оба рассказа, помещенные автором в прошедшем году в «Современнике»: «Певцы» «Свиданье». Мы ставим «Певцов» гораздо выше второго рассказа; но в том отношении, о котором мы сейчас говорили, и «Свиданье» не уступит «Певцам». Вообще, в своих рассказах г. Тургенев, как художник, стоит очень высоко, и картины эти, или «рассказы», составляют лучшее украшение его литературной известности. В них он оригинален, это его истинный род, и ни у одного из русских писателей вы не находили этого уменья пользоваться мельчайшими подробностями описываемой жизни и возводить их в одно целое создание, отовсюду замкнутое в самом себе. «Записки Охотника» г. Тургенева можно рисовать, и мы уверены, что талантливая кисть извлечет из этих рассказов такие же прекрасные картины русской деревенской жизни, – картины такие же народные, как и самые «рассказы». Как, в самом деле, передадим мы то чувство, которое обхватывает душу читателя, когда он докончив рассказ ««Певцы», закроет книгу, и когда перед ним еще раздается протяжный зов какого-то мальчика? В эту минуту мы чувствуем всю прелесть этой картинности рассказов г. Тургенева; но как ее передать? Попробуйте нарисовать «Притынный кабачок», которого единственное окно как глаз смотрит в бесконечную даль, наполненную влажными, теплыми летними туманами; представьте у подошвы кабачка овраг, разделяющий деревеньку на две части и теперь потопленный туманами; представьте кой-где в деревеньке редкие огоньки; пусть в раскаленном июльском воздухе чувствуется еще теплота, сквозь ночную: прохладу; пусть на небе слабо мигают бледные звездочки. Все тихо, только говор и смех несутся из веселого кабачка, в котором недавно еще происходило состязание двух певцов, заставившее прослезиться даже самого цаловальника…. Там, где недавно еще все эти люди, собравшиеся в кабачок, замирали от удовольствия и плакали от полноты сочувствия к грустному пению Якова, там теперь и хохот и говор; а в влажной и мглистой атмосфере, перекатываясь с холма в долину, раздается лишь протяжный и веселый голос мальчика, которому откликается другой голос с отдаленной поляны…. И эти бесконечные поляны, покрытые туманом теперь, и далеко, далеко видные днем из окошка кабачка, и это пение Якова, которое так заживо тронуло теперь веселых гостей, и все эти лица, от цаловальника до Обалдуя, и этот веселый хохот вечерком, – все это так идет одно к одному, так гармонирует в целом, что, закрыв книгу, вам еще кажется, будто вы любуетесь мастерской картиной, которой все подробности перед вами резко обозначаются. Вам становится понятно, почему «Дикарь», которому все так безусловно повинуются, хотя он не имеет ни над кем власти, почему и Дикарь, такой свирепый и задумчивый с виду, с свинцовым отливом лица и бледными губами, почему он мог проговорить одно только слово, по окончаний пения Якова: «Яша»…. и почему по железному лицу его медленно скатилась тяжелая слеза…. Между тем над этим лицом вы призадумались бы без этой сцены и могли бы счесть Дикаря каким-то ужасным злодеем. Вам становится понятно, почему и жена цаловальника не могла удержать своих глухих рыданий, когда Яков пел простую и всем известную песню:
При долинушке стояла,Калинушку ломала….Может быть, и мы с вами, любезный читатель, заплакали бы, слушая, как пел эту песню Яков в «Притынном кабачке», хотя во всякое другое время мы и готовы будем смеяться над нею….
Но будем забывать, что мы обращаем здесь внимание исключительно только на одну сторону двух последних рассказов г. Тургенева: на гармонию, которая господствует в них между рассказом и природою, среди которой происходит действие рассказа. Посмотрите с этой же точки зрения на другой рассказ г. Тургенева, и вы найдете ту же гармонию между осенней природой и несчастной Акулиной…. Как иначе объяснить было ту силу, которая привязывает вас к этой простой девушке, если б обстановка, при которой она приходит на свидание, так сильно не отвечала внутреннему состоянию молодой крестьянки?… Когда появляется перед вами она, когда вы видите ее сидящую задумчиво, потупив голову и уронив на колени обе руки, когда вы видите в одной из них густой пучок полевых цветов – мы понимаем – вы готовы сказать: какое идеализированье! Крестьянка с букетом цветов пришла на свиданье или, лучше, на прощанье!..Так; но позвольте: когда её любезный Виктор Александрыч, смотря на букет, спросил: "что это такое у нея», она отвечала: – «это я полевой рябинки нарвала, – это для телят хорошо. А это вот череда – против золотухи. Вот, поглядите-ка, какой чудный цветик; такого чудного цветика я отродясь не видала. Вот незабудки, вот маткина душка. А вот это я для вас, прибавила она, доставая из под жолтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой….» Отчего вы, после этих простых слов начинаете верить, что Акулина могла притти на прощанье с таким букетом? И между тем слова эти нисколько не уменьшают силы первого впечатления, когда вы увидали молодую девушку, в лесу, в слезах, с букетом цветов, красивых и дорогих для неё, по своему? – Ту же перемену автор сумел сделать, в этом же рассказе, с другим впечатлением, которое с первого взгляда также могло показаться утрированным. Вот оно. – Вам не верится; чтобы не было идеализированья в описании этой молодой девушки, такой романтической, по вашему мнению, такой чувствительной, что она годилась бы в любой французский роман? Но подождите несколько минут и опять не торопитесь. – Мы привыкли допускать так мало чувств, так мало грусти в какой-нибудь Акулине, – как будто эта чувствительность и эта романтичность только и могут жить в какой-нибудь Зинаиде, Юлии и тому подобных? Отчего же и Акулина не может грустить и плакать по своем Викторе Александрыче? Может быть, автор совершенно примирит вас с этою мыслью, когда расскажет вам её разговор, простой, прерывчатый, боязливый, как будто, в самом деле, она ужь виновата, что Виктор уезжает. Если первые слова автора могли внушит вам преувеличенное понятие об Акулине, последующий за тем, разговор ставит ее на свое место, и она кажется вам тем, чем она действительно есть, а не тем, что нарисовало ваше воображение по первым чертам…. Вы ей сочувствуете, и наконец, когда она в горе повалилась лицом на траву и горько, горько заплакала…. перед вами восстает живой образ Акулины, посреди такой же природы, холодноватой, осенней, с перепадающими дождиками, не крупными, но которые сеются и, как хорошо выразился автор, «шепчут по лесу». Виденная вами картина есть необходимое дополнение картины природы, и как вы сочувствуете тогда этому еще не робкому и холодному лепетанью поздней осени, но уже едва слышной, дремотной болтовне листьев, и этой роще, внутренность которой беспрестанно изменяется от дождя, смотря по тому, светит ли солнце, или закрывается облаком; вы сочувствуете и этой листве на березах, еще почти зеленой, но уже заметно побледневшей, сочувствуете и стальному голосу синицы, потому что все птицы уже приютились и замолкли…..
Эта картинность, эта гармония в последних двух рассказах господина Тургенева, составляет, по нашему мнению, лучшее их достоинство. Характеров, которые были бы развиты одни преимущественно перед другими, или одни насчет других, здесь нет. Есть характеры полнее очерченные, есть характеры менее удавшиеся, есть лица, которые требовали бы более тонкой отделки, но не истинного характера нет ни одного. Так Виктор Александрыч, приходивший на свидание к Акулине, нам кажется довольно небрежно нарисованным и ужь чересчур резко. Лорнет, который он тычет себе в глаз, когда ему остается только; несколько минут, чтобы переговорить с Акулиной; грубость, с которою он постоянно обращается к Акулине, отсутствие всякого чувства в этом избалованном лакее – если и справедливы, зато как-то тяжелы, угловаты, слишком резки, бросаются прямо в глаза. И совсем тем Виктор, как лакей в пальто и с лорнетом, не вполне обрисован. Но заметьте в этом «характере» то, что наконец и Виктор принял на себя роль разочарованного!
Также вышел неполным или, по крайней мере, заставил читателя задуматься, характер Дикаря. – Если у него отнять одну черту, характер этот совершенно исчезнет если бы Дикарь не заплакала, при пении Якова, мы подумали бы, что это действительно дикарь, или даже хуже – какой-то разбойник-татарин.
Если в обоих последних рассказах г. Тургенева нет характеров так; резко и глубоко очерченных, как, например, Бирюк или Гамлет Щигровского уезда, зато вне характеры делаются полными в «Певцах» в ту минуту, когда Яков кончает свое пение. В одну минуту автор сумел оттенить их всех. Все что казалось прежде недосказанным о каком-нибудь отдельном лице все само собою выказалось, когда пение произвело свой эффект, и когда раздались глухие рыдания жены целовальника, припавшей грудью: к окну; когда Николай Иваныч, цаловальник, потупился, когда Обалдуй, весь разнеженный, разинул рот; когда мужичок в серой свитке, с прорванным плечом, залился слезами, сидя в уголку…. И все эти характеры пополнились еще более, почти одним движением, без слов, когда по выходе Рядчика, соперника Якова, все вновь оживилось, заговорило шумно и радостно, когда Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал и замахал руками, как мельница крыльями; когда Моргач подошел к Якову, и стал с ним целоваться, когда Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмушку пива». Дикарь посмеивался каким-то добрым смехом, которого никто не ожидал встретить. На его лице серый мужичок то-и-дело твердил, в своем уголку, утирая обеими руками глаза, щеки, нос и бороду: «а хорошо, ей Богу, хорошо; ну вот у будь я баран, хорошо!..» жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась…. Все лица становятся вам понятными, как делается понятен Бирюк, когда он, – неподдававшийся прежде ни чьим просьбам – когда он схватил за шиворот мужика, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь избы и вытолкнул вон…. И кто бы мог ожидать этого от Бирюка, когда сам виноватый мужик, долго слушая упрямые отказы Бирюка, наконец потерял терпение?… Нашлась струна в сердце Бирюка, затронув которую могли вы сделать из него все, что угодно! Кто бы мог ожидать, что песнь Якова тронет цаловальника, человека расторопного и смешливого, с хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками – и Николай Иваныч заплачет. Тронула эта песня и Моргача, человека, который сумел целый год пропадать с барскою тройкой, умел потом выпросить себе прощение и вольную по смерти барыни, который был осторожен и предприимчив как лисица, которого крошечные и лукавые «гляделки» никогда не смотрели спроста, а все высматривали да подсматривали…. Что ужь и говорить об Обалдуе и сером мужичке: они зачастую любят поплакать!
Талант писателя познается, между прочим, в уменьи из данных материялов, создать характер, вывести перед читателя типическое лицо. Еще больше виден этот талант, когда автор умеет выбрать такой момент в жизни описываемых им лиц, когда в одно мгновение все эти люди заговорят, выскажутся и ясно обозначатся перед вами; когда все то, что у них было далеко затаено в груди, вырвется наружу. Разные характеры оживляются или доходят до степени пафоса от разных причин: талант писателя находит эти редкие моменты там, где глаз обыкновенного, умного человека не видит ничего, кроме отдельных, ничем несвязанных между собой случаев. Поэтому талантливый писатель двумя-тремя чертами яснее изобразить вам характер взятого им лица, чем оной писатель – целою биографиею. Можно набрать бесконечное множество фактов умных, резких, характеристических, можно рассказать много поступков известного лица, даже проследить его жизнь с начала до конца – и написать только биографию, а не художественное произведение. Можно, с другой стороны, вывести на сцену один решительный, критический случай из жизни, того же самого лица, и вы поймете это лицо лучше нежели из длинной биографии, а все остальные, второстепенные случаи его жизни вы можете предсказать, судя по этому главному случаю. Так, читая описания разных лиц, входящих в рассказ «Певцы», вы могли притти к разным заключениям о них; но после окончания пения все они кажутся вам не так дурны, как казались прежде: они явились вам способными на многое доброе, чего вы и не подозревали в них. Разбирая такие моменты, должно смотреть не на то, кто тронут больше, кто тронут меньше: нужно смотреть на то, действительно ли автор выбрал такое именно чувство, такую страсть, которая может заставить высказаться все эти лица. В настоящем случае, следовательно, должно спросить: неужто автор удачно выбрал момент пения Якова, для оживления всех этих лиц? Мы отвечаем: да. Это пение было лучшим выражением всего того, что у них давно таилось на душе.
Оно было поэзией их жизни, и в нем, как в зеркале у все они выразились. Пение подействовало на них неодинако: на одного больше, на другого меньше; но рычаг, которым они были подвинуты высказаться, действовал на них всех. И в «Ревизоре» приезд чиновника из Петербурга подействовал пуще всего на Сквозника-Дмухановского; но это не помешало высказаться и Тяпкину-Ляпкину, и Анне Андреевне, и Землянике, и Добчинскому, и Бобчинскому, потому, что приезд чиновника из Петербурга был, для них тем роковым событием, которое всех их возводило на степень пафоса…. Если бы Яков пел среди этих почтенных лиц, и они, вероятно, сочувствовали бы его пению, по своему….. Как знать: им, может быть, больше понравилось бы плясовое пение Рядчика, это не наше дело, как выразились бы эти господа, слушая пение Якова; но по крайней мере мы должны сказать, что чувствительное пение Якова было бы неверно расчитанным средством заставить эти лица, отозваться откликом задушевным.
Вот почему нам так нравятся «Певцы», и почему мы их так высоко ставим, в числе лучших произведений нашей литературы прошлого года. Второй рассказ утратил много прелести в наших глазах оттого, как мы уже и говорили, что лицо Виктора автор составил преувеличенным, неполным….
Весьма скромно, в отделе Смеси, под весьма негромким заглавием, печатает г-н А-в, по временам, свои очерки русских провинцияльных нравов. Критика почти не замечает их, может быть по причине их не бросающагося в глаза заглавия; но мы имеем положительные факты, что публика находится к ним в совершенно обратном отношении: их читают, о них спорят, о них даже пишут в редакцию «Современника» целые трактаты. Не все письма г. А-ва одинакового достоинства; но в каждом из них есть непременно умная мысль, а нередко бывает, что и выражена она прекрасно, за исключением некоторых частностей, на обделку которых, по видимому, недостает терпения у нашего автора-дилетанта. В некоторых своих письмах автор удачно попадал даже на стороны русской жизни, на характеры совершенно новые, то есть новые в литературе, но в действительности давно существующие. Так мы можем указать на Бубнова (Письмо VI), этого праздношатающагося бобыля, который, будучи поставлен рядом, с другим лицом, весьма, по видимому, деятельным, представляет фигуру столько-же оригинальную сколько и верно обрисованную. Напомним еще читателям у г. А-ва описание балаганного представления (Письмо II) – сколько в одной этой статейке подмечено характерных черт и разбросано умных заметок! Вообще г-ну А-ву особенно удаются те письма, в которых он останавливает свою наблюдательность преимущественно на лицах низшего сословия, принадлежащих полу-городскому, полу-деревевскому населению. Типы такого рода описываются г-м А-вым с постоянным успехом, и мы посоветуем ему чаще обращаться к ним. Мелочные неверности в простонародном языке, которые иногда встречаются у г. А-ва, с избытком выкупаются всегдашнею верностью факта, замечательным тактом в выборе подробностей и обстановке главного лица. Мы сознаемся, что для нас лицо Бубнова, созданное г. А-вым, есть столь же художественный тип, как некоторые из удачнейших характеров этого рода у гг. Тургенева и Григоровича.
Теперь нам следует сказать несколько слов о г. Авдееве, молодом писателе, дебютировавшем в 1849 году повестью «Варинька», и поместившем в первой и второй книжках «Современника» за 1850 год дополнение к этой повести, под названием «Записок Тамарина».
«Иногородный Подписчик», отдавая в свое время отчет о первом его произведении, заметил в нем главнейший бросающийся в глаза недостаток: подражание Лермонтову. Замечание это справедливо точно также, как справедливо можно было упрекнуть и Пушкина и автора «Героя нашего времени» в подражании Байрону, когда они создавали характеры Евгения Онегина и Печорина. Этот упрек будет справедлив в отношении ко всякому писателю, который бы захотел испытать силы свои в олицетворении светских людей, которых отличительною чертою будет самолюбие. Ошибку г. Авдеева, кажется, должно искать не столько в создании «Тамарина», сколько в выборе этого лица в герои своей повести. По этому поводу мы позволим себе сделать замечание, которое может относиться не лично к автору «Вареньки», а вообще ко всем начинающим писателям…
Первое произведение есть всегда дитя пылкой любви молодого человека не к своему творчеству, а к своим личным понятиям, убеждениям. То, что наиболее занимает его в эпоху создания первого произведения, почти всегда служит предметом творчества. На нем сосредоточивается все помыслы, до того времени зревшие в голове автора, все горячия мечты и чувства, от которых болело и замирало сердце. В первых произведениях отрывается от души её часть; самое существо автора переходит в них. Мудрено ли, что писатель находится под влиянием этой привязанности к своему созданию более, нежели необходимо для свободного и спокойного творчества? В этом случае нельзя не указать даже на самого Байрона, не только в первых его произведениях, но почта в продолжении всего его поэтического поприща, – на Байрона, поэта своей личности, возведшего свое собственное самолюбие на громадную степень. Не можете ли вы более изучить личный характер его в его произведениях, нежели наслаждаться свободным поэтическим творчеством, – увлекаться силою чувств, волновавших грудь гордого британца, более, чем восхищаться характерами героев, независимо от его собственной личности? Не сделался, ли вследствие того и сам Байрон таким поэтическим лицом, что на него, лицо действительное, читатели перенесли подробности, изображаемые им в его поэмах и трагедиях?
Поэтому-то очень трудно судить о таланте писателя, который впервые является в литературе, по главным действующим лицам его произведений. Талант должно искать в том, что всего менее занимало автора. Если мы с этой точки взглянем на первые произведения г. Авдеева, то мы найдем явные признаки таланта, особенно в первой тетради «Записок Тамарина», где эпизод минутной любви его к прелестной Марион есть создание прекрасное.
Лучшим доказательством, что г. Авдеев силен не одной подражательною способностию, послужила идиллия г-на Авдеева «Ясные дни», помещенная в X № «Современника» 1850 года. Эта повесть очень мила, в ней много теплого, искреннего чувства. Прекрасный язык, которым постоянно пишет г. Авдеев, вероятно, замечен самими читателями.
В последних нумерах «Москвитянина» за прошлый год появилась повесть нового автора – г. Писемского «Тюфяк».
Г. Писемский в своей повести «Тюфяк» представил нам лицо, лишенное всякой способности действовать, с полным отсутствием силы воли, хотя одаренное чувством и умом. Лицо это Павел Васильич Бешметев, попало в среду Владимира Андреича Кураева, Перепетуи Петровны, Феоктисты Савишны, Бахтиарова, Юлии Владимировны, Масурова… и чтожь из него вышло? Так как Бешметев страдал отсутствием той силы, которая могла сделать из него что-нибудь, то окружающие его люди сделали из него то, что, по их понятиям, следовало сделать. Павел Васильич все это видел, понимал, чувствовал; видел он вещи не так, как видели их лица, его окружающие; понимал он их справедливо, чувствовал всегда благородно – и поступал согласно со взглядом, мнениями и чувствами людей, его окружавших. Следовательно, в повести «Тюфяк» действующее лицо не Павел Васильич, а Кураев, Перепетуя Петровна, Феоктиста Савишна, Юлия Владимировна, Масуров и его жена, Бахтиаров, все, только не Бешметев. И автор прав: как только он вывел такое лицо на сцену житейской суеты, которое само не может действовать, то, в силу всеобщего закона движения, он был двинут постороннею силою, если сам не мог двинуться. Он был масштабом силы этих людей; он как термометр показывал тепло и холод окружающих его. Он превосходно разыграл роль чурбана, брошенного Юпитером в болото, для управления лягушками – по басне Крылова. Извините: мы употребляем слово «чурбан» только для сравнения, а сами не так думаем о Павле: тот, в ком есть чувство и ум – не чурбан. Но тот, в ком нет силы воли, невольно разыграет с лягушками роль чурбана в болоте. И к Павлу Васильичу, о котором сперва носились темные слухи, начали подбираться мало помалу соседи, начало садиться сначала рядом с ним, а потом и задом к нему, прозвав его «тюфяком»… а там



