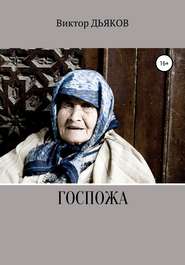 Полная версия
Полная версияГоспожа
Сноха обрадовалась, что свекровь перед ночью очнулась не слишком поздно, и сделав ей обязательный «ночной» укол, все остальные члены семьи смогут спокойно лечь спать. Иной раз специфическое полубеспамятство свекрови затягивалось до полуночи и кто-то обязательно должен был при ней бодрствовать, чтобы разбудить Бориса, который делал ей укол. Но сейчас Ксения Андреевна, обычно к вечеру начинавшая мучиться от боли и требовать морфия… Она, вдруг, огорошила неожиданным вопросом:
– У нас какао есть?
– Что, какао? – изумленно переспросила сноха. – Да, откуда… Была когда-то пачка «Золотой ярлык», но кончилась давно. Володь, мама какао просит, может у тебя на работе достать можно?
В комнате появился сын.
– Какао? Да его сейчас днем с огнем не сыщешь. С продуктами вообще завал, только хлеб не дефицит. А какао… да за ним надо в Алма-Ату ехать, ближе нигде нет. Я в последний раз его привозил из Москвы, когда в командировке там был, три пачки купил. Так они уже кончились давно.
Сын виновато развел руками и вопросительно посмотрел на жену. Во взгляде читалось: и что это за очередная блажь пришла в голову матери, может заговариваться стала?
А Ксения Андреевна пребывала во вполне здравом рассудке:
– Да это я так… не надо ничего… Пусть Боря укол сделает, посплю…
С учетом своего специфического жизненного опыта Ксения Андреевна сделала свои выводы из того, что услышала о дефиците продуктов в стране. Если сын во всем винил «кукурузную» политику в области сельского хозяйства, то мать мыслила по своему давно выработанному шаблону, в основе которой лежали те же услышанные ей в далекой юности слова: сытым особенно приятно быть, когда вокруг голодные. Для того власть и устраивает этот перебой со снабжением продуктами, чтобы начальники приятно ощущали свою собственную сытость, чтобы перед своими женами, детьми, родственниками хвастать. Дескать, вот я какой умный и ловкий, как я вас кормлю и одеваю, в то время как все остальные перебиваются с хлеба на квас и одеваются только в сатин и дешевый ситец. Вот я какой, любите меня и уважайте…
Тогда в НЭП семья Буровых именно так и жила. Если так смог жить всего лишь деревенский председатель сельсовета, то почему так же не могло быть на губернском и даже государственном уровне. Разве начальники всех уровней не мыслили так же и для осуществления этой мечты не рвались к властным вершинам?
После инъекции морфия Ксения Андреевна вновь перестала ощущать боль, ей стало даже непривычно хорошо, и она вновь провалилась в забытье, чтобы на этот раз насладиться воспоминаниями о самом приятном периоде своей жизни.
1923-1927 г.г.
Ксения, еще живя в доме свекра, так себя поставила, что никто не смел ею помыкать. Но все же полноправной хозяйкой она себя там чувствовать не могла. Потому она постоянно торопила Якова строить свой дом и отделяться. По-настоящему она «развернулась» когда Яков занял пост председателя сельсовета. Новый дом Буровых не походил ни на один в русской части Подшиваловки, ибо строить его Яков нанял немцев, да и на стройматериалах не экономил. И немцы построили ему прочный, просторный, красивый дом из привезенных в степную полосу дорогих сосновых бревен. Дочку Ксения рожала уже в том новом доме. И зажили они…
Хоть и избежала Подшиваловка страшной участи некоторых соседних деревень и сел, но все равно после 1922 года почти вся деревня, в том числе и ее немецкая часть, пребывала в нищете, почти ни у кого за душой не имелось ни гроша. А у Якова Бурова и деньги были и власть и дом полная чаша. Конечно, можно было сказать, что для своего возвышения и обогащения он использовал горе народное, но с другой стороны во многом благодаря Якову, многие его односельчане пережили то страшное время.
Если в доме у свекра Ксения еще выполняла кое какую домашнюю работу, то в своем сразу потребовала нанять прислугу, а для тяжелой работы на огороде и скотном дворе постоянных батраков. Яков во всем, что касалось домашних дел беспрекословно слушал жену и готов был исполнить любой её желание и даже каприз. Тяга к обогащению у Якова оказалась наследственной, а тут ко всему и один из высокопоставленных большевиков Николай Бухарин с высокой трибуны провозгласил обращаясь к крестьянству: Обогащайтесь! Ох, как пришелся по нраву Якову тот лозунг, и он обогащался. В придачу к своему земельному наделу он еще брал несколько в аренду, хозяева которых были не в состоянии их обрабатывать. Казалось коммунисту и советскому начальнику не с руки эксплуатировать бедняков, но Яков данными этическими нормами не заморачивался и в посевную и уборочную нанимал до двух десятков временных батраков. Их руками и руками постоянных батраков и батрачек он фактически развернул на своих полях, огороде, скотном дворе хозяйство, дававшее стабильную немалую прибыль – труд батрачий был дёшев.
Ксения в основном руководила домашней прислугой, следила за огородом и скотным двором, но при этом сама ни к чему рук не прикладывала. За своими руками и лицом она теперь ухаживала, как это делала в свое время её барыня. Для этого она использовала и клубнику и сметану, когда бывала в городе обязательно покупала в прок косметические кремы, мази, пудру… Если лицо у нее и так было свежим и румяным, то с руками пришлось немало повозиться, чтобы они наконец приобрели нежную припухлость, то есть превращались в барские ручки…
Яков в своей искренней любви к жене позволял ей жить, так как она хотела. Сам же он не перенял барских замашек и даже в постели позже семи часов обычно не залеживался. А вот Ксения за исключением того периода когда кормила грудью дочь, поспать любила и опять же по примеру своей барыни валялась в постели до девяти, а иногда и до десяти часов. После вторых родов Ксения еще больше округлилась, но опять же не по-барски. То была налитая упругой плотью, величественная, красивая… но нет, не барыня, а опять же кустодиевская купчиха. Самой себе Ксения не очень нравилась – ведь она не походила на свой идеал, свою барыню. Зато Яков от внешности жены пребывал в полном восторге. Его любовь к ней с годами только крепла, можно сказать, он её почти боготворил. Именно с её слов он тоже уверовал, что теперь именно они должны жить как жили господа, что теперь они здесь вместо них и должны стать теми же помещиками, только по-другому зваться. И вроде все к тому шло…
Как уже упоминалось, в это время, время разброда и шатаний в большевистском руководстве, наступившем после смерти Ленина, Николай Бухарин бросил кличь, обращаясь к крестьянам: «Обогащайтесь!». По всей стране крепкие хозяева, кулаки, восприняли его с удовлетворением. Тем более воспрял духом Яков, ведь то было как бы официальное одобрение того образа жизни, к которому они с Ксенией стремились. За три года после голодного 1922 года в Подшиваловке собирали столько хлеба, что буквально засыпались им. Возможности НЭПа, вызвавшие бум частной торговли и кооперации позволяли эти излишки вывозить, продавать, обменивать. Далеко не все подшиваловцы сумели воспользоваться этими НЭПовскими благами, но Яков в те годы взял все что мог. В город теперь семейство Буровых выезжало на рессорной бричке запряженной белым в яблоках жеребце, а следом ехала телега с лошадью поплоше, в которой сидели батраки. Яков с Ксенией ходили по лавкам и базарам, делали покупки, которые батраки тут же уносили. Вскоре телега была уже забита под завязку, как нужным в хозяйстве товаром, так и игрушками для детей, шубами, платьями, обувью. Ксения ни в чем себе не отказывала, тем более любящий муж это всячески поощрял. Но не только жену баловал Яков. Очень любил он и детей. Для сына Володи, он не пожалев немалых денег, как-то привез с ярмарки игрушечную маленькую лошадку, едва ли не точную копию настоящей. Ох, как радовался тому подарку маленький Володя.
Однажды, летом 1925 года в Саратове, в очередной раз приехавшие на базар Буровы стали свидетелями странной демонстрации. По центральной улице шли совершенно обнаженные мужчины и женщины и громко скандировали: «Долой стыд!» В те годы новая власть хоть еще и некрепко стояла на ногах, тем не менее дурила и чудила, ибо со смертью Ленина не стало некого высшего авторитета, и пока оный не появился, некоторые из наиболее аморальных большевиков выдвигали и такие лозунги, используя временную вседозволенность.
Всего этого Ксения, конечно, не знала, а данная демонстрация её удивила, но совсем не возмутила. До войны на квартире Римских-Корсаковых ей приходилось прислуживать на званых вечерах, куда дамы приходили в вечерних декольтированных платьях. У некоторых те декольте имели весьма вызывающий вид. Да и сама Ирина Николаевна пока невестилась любила весьма смело оголяться. Ксения в своих тогдашних мечтах и себя представляла в таком платье с обнаженными плечами и наполовину и даже более открытой грудью. Ох, как ей тогда хотелось одеть такое платье, а Ирина Николаевна в оном казалась ей верхом красоты и привлекательности. И если то «обнажение» было в её представлении естественным, прекрасным, то увиденное на демонстрации… Она лишь констатировала, что у большинства тех баб, что ходили голышом по улицам Саратова, смотреть было совершенно не на что, хоть они показывали не только плечи и грудь, а вообще всё. По всему все эти, проповедующие новомодное течение гласившее «сбросить одежды и стать совершенно свободными», революционные девки в годы войны и голодовки, наверняка, до сыта не ели и выглядели соответственно. Ксения с отвращением наблюдала за неприглядным зрелищем и вдруг её посетила совершенно сумасбродная мысль… А если она вот так бы разделась и пошла среди этих сухопарых девок… как бы на неё смотрели все эти стоящие вдоль улицы и вытаращившие глаза мужики? Она скользнула взглядом по этим зевакам и вдруг заметила, что и её Яков и сопровождавшие их батраки разинув рты смотрят на эту срамоту. Шальная бабья мысль тут же испарилась, ибо Ксения вновь вернулась в свой образ, жены и хозяйки:
– А ну… что рты раззявили, нечего тут смотреть на этих охальниц и охальников, поехали!– Ксения, отобрав у мужа вожжи и хлестанув лошадь, направила бричку в сторону базара.
В своем доме Ксения многое устроила по образцу барского. Даже если сама валялась в постели до десяти часов, потом от наушниц точно знала, кто из прислуги встал поздно, плохо мыли пол, вытирали пыль, или допускали еще какие прегрешения. Правда, в отличие от барыни она давала своим прислужницам право выбора наказания: штраф, вычитаемый из жалования, или зуботычина. Редкая батрачка выбирала первое, предпочитая пощечину, удар по спине поленом или кочергой. Таким образом, рукоприкладство в отношениях прислужниц и хозяйки стало в буровском доме обычным делом. Тем не менее, никто не жаловался. А куда жаловаться, если в сельсовете главный Яков Буров. Более того, никто не уходил с такой службы. А куда уйдешь, если повсюду нищета и бедность, а Буровы являлись не только первыми богачами в деревне, но и платили хоть и ненамного но больше других кулаков, а главное исправно и без обмана. Причем платили так как хотелось батракам, хочешь продуктами, хочешь деньгами – где еще таких хозяев найдешь. Так что приходилось терпеть барские замашки Ксении, более того держаться за место, ведь на их места в деревне имелось немало желающих. Как когда-то в барский дом считали за честь попасть едва ли не все подшиваловцы, так и сейчас, стать постоянным батраком у Буровых означало обеспечить сносное проживание своей семьи, и за эту «честь» тоже существовала неофициальная очередь.
Большинство подшиваловцев умудрялись бедствовать даже в урожайные годы. НЭП это время не только экономических возможностей, тогда и богатели и беднели, что называется стихийно. У центральной власти до села руки все никак не доходили. В Москве большевики никак не могли определить, кто из них главный и прийти к единому мнению – в какую сторону крутить «штурвал» управляемой ими страны. Ну, а внизу как всегда когда все пущено на самотек имел место своего рода «стихийный естественный отбор». И в процессе того отбора всплыли и получили возможность пожить в свое удовольствие такие как Буровы.
Как относились подшиваловцы к барскому образу жизни своего председателя сельсовета и его жены? По разному. Те, кто также смогли разбогатеть благодаря НЭПу, они в основном завидовали не столько богатству Якова, а тому, что у них в отличие от него не имелось официальной властной брони в виде должности и членства в правящей партии. Потому и их жены, так же как Ксения строить из себя барынь побаивались. Многие из них тоже были не прочь взять с нее пример, хоть и не имели того «образования», что она приобрела за время службы в барском доме. Ну, а подшиваловские пролетарии, беднота, что составляла не менее 80% русской части деревни… Они конечно ненавидели Буровых, пожалуй даже сильнее чем до революции ненавидели помещиков. Тех привыкли еще с крепостных времен подспудно, даже через ненависть считать чем-то вроде существ сделанных из другого теста, белой костью… А тут, кто жирует и ими помыкает, на кого они вынуждены батрачить, умножая их богатства!? На Яшку, которого все здесь с детства знали, или на Ксюшку, которая девчонкой тут бегала, с соплями до земли, потому что ей обуть нечего было!? А сейчас фу-ты ну-ты, не Ксюха а Ксения Петровна, барыня-барыней, в шелках и кашемире ходит, свои кормленные зад с брюхом обтянув, в ботинках с галошами, в серьгах с каменьями, руки белые пухленькие, а на пальцах колец не счесть. Да еще моду взяла, каждый день на перине своей дрыхнет чуть не до полудня, а потом, если не с той ноги встанет со своей пуховой перины, давай прислугу кочергой или поленом гонять, охаживать…
В этой связи у наиболее борзых не могли не образоваться протестные настроения, модные для НЭПовских времен: «Это как же так, для чего революцию делали, царя, помещиков сбросили, чтобы вместо них мироеды, такие как Яшка с Ксюхой тут барствовали!?»
Но Ксения наслаждаясь своим положением, как бы и не чувствовала этой, едва ли не всеобщей, ненависти к ней и к её мужу, и даже к её детям, не предвидя, что эта ненависть в конце-концов получит возможность «материализоваться», и им придется пожать те же плоды, что несколько лет назад пожали помещики.
1963 год.
На этот раз очнуться Ксению Андреевну заставила не боль, а сильный шум за окном. Тот шум производили автомобили, ехавшие по улице мимо их дома. Их было много, целая автоколонна. Шум разбудил всех в доме. Ксения Андреевна услышала, как сын прошлепал тапочками к окну и, видимо, выглянул на улицу.
– Володя, что там? – спросила, не вставая с постели сноха.
– Да опять из Китая переселенцев везут.
По полу пробежала босыми ногами внучка и, по всему, тоже прильнула к окну.
– Тебя только здесь не хватало, а ну марш в постель, нечего здесь смотреть, – вроде бы строго, но с любовью в голосе выговорил ей отец.
Однако внучка, скорее всего, именно любовь, а не строгость уловила в голосе отца и не спешила выполнять его приказ, потому пошла спать только, когда колонна проехала…
Переселенцы из Китая… это русские люди, вернее в основном уже потомки тех, кто в Гражданскую войну ушли за кордон вместе с атаманами Дутовым и Анненковым, да так там и остались. При Сталине об их возвращении не могло быть и речи, но в «оттепельные» времена тем кто желал, позволили возвратиться. Но вывозили их вот так, по ночам, в кузовах закрытых тентами машин, чтобы никто их не мог увидеть, и тем более общаться. Такие колонны в пятидесятые годы случались по нескольку каждый год. Потом все реже, и эта по всему была одной из последних – последние потомки сибирских и оренбургских казаков возвращались на свою историческую родину.
У Ксении Андреевны прошедшая колонна опять навеяла мысли о своей барыни. Нет, она не сомневалась, что Ирина Николаевна, или её потомки никак не могли оказаться в той колонне. Потомственная столбовая дворянка никогда бы не стала жить среди казаков. Уж если ей посчастливилось тогда вырваться, она наверняка жила не в Китае, и в своем кругу. Ксения Андреевна вспомнила о последней просьбе барыни и стала судорожно вспоминать, что стало с фамильным склепом Римских-Корсаковых. Пока Яков рулил сельсоветом он, озадаченный на этот счет женой, действительно не позволял разорять барских могил. А что случилось потом? Уцелели ли могилы? Вряд ли. Но в тридцатых годах Ксения уже никак не могла выполнять просьбу барыни, потому что сама бежала с Подшиваловки. Успокоенная мыслью, что сделала все от нее зависящее, как и обещала, Ксения Андреевна вновь погрузилась в сон…
1928 – 1932 г.г.
О чем обычно мечтают люди, входя в пору, так называемого, зрелого разума? Если, конечно, брать тех, кого принято считать нормальными, без каких либо физических и психических отклонений людей. Скорее всего, прожить интересную, по возможности нетрудную жизнь, создать семью с любимым человеком, родить и воспитать потомков, помочь им на начальной стадии самостоятельной жизни, ну и в старости быть окруженными любящим, уважающим тебя потомством. А многим ли удается ту мечту воплотить в реальность, прожить именно так? Очень немногим. Почему? Конечно, тут многое зависит от отдельно взятого индивидуума. То то, то иное не так в нем от природы устроено, что не позволяет следовать вышеописанному плану. Но куда большую «коррекцию» в судьбах людей вносит не зависящий от них внешний фактор, та же эпоха, в которую выпало жить. К примеру, выпало быть рабом в эпоху рабовладения, или в крепостнической России крепостным. Это с временной дистанции, глядя из последующих столетий приятно умиляться: ах какое замечательное было время – гусары, кавалергарды, блестящие дамы, прекрасные барышни, великие поэты-писатели – Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой… И как-то не задумывается восторженный современник, что замечательным то время было лишь для нескольких процентов жителей той России, да и среди них не все наслаждались жизнью, ибо имели место и в среде аристократии случаи «горя от ума». А для 90% остальных, в большинстве своем крепостных крестьян, за счет малопроизводительного, но дарового труда которых имели возможность и блистать и творить все эти гусары, дамы… Пушкин, Тургенев, для них то время совсем не было замечательным.
У каждого народа можно определить основу их менталитета, критерии формирования особенностей национального характера. Все достижения и беды любой нации имеют глубокие исторические корни. Если менталитет известных своей дисциплинированностью немцев или японцев выковывался в далеком прошлом в основном палкой барона или мечом самурая, в основе вековой ненависти французов к своим аристократам (аристократов на фонари!) лежит не знающая меры расточительная жизнь их королей и маркизов… то в основе, и терпеливости, и смиренности, и подспудной ненависти к начальству русских все то же крепостничество, когда веками терпели, копили ненависть… Но в то же время в мечтах этих несчастных людей, счастьем казалась именно жизнь бар, о ней они мечтали и грезили… в течении столетий.
И когда счастливо зажили в НЭП супруги Буровы, они неосознанно восприняли все это, как воплощение мечты многих поколений их крепостных предков. Ксения, обосновывая случившееся, объясняла это так: господа побарствовали, да чем-то Богу не угодили, теперь вот им привалило счастье по-барски пожить. При этом, что-то менять во взаимоотношениях с прислугой и батраками она не собиралась, не сомневаясь что отношение господин-раб как были так и останутся незыблемыми. За это хоть и нестрого, но не раз ей выговаривал и Яков, де нельзя себя вести как помещица при старом режиме. Сам же он под свое «возвышение» подводил теоретический фундамент, сформулированный в некоторых идеологических советских течениях тех лет. Ох, чего только не писали и не издавали в те сумбурные годы, каких только программ и лозунгов не выдвигали, иной раз даже откровенно противоречащих догмам марксизма. Ксения от всего этого была далека, а вот Яков регулярно читал центральные газеты, пытаясь разобраться во всей этой чехарде. Тем не менее, его кумиром, как был, так и оставался «любимец партии» Николай Иванович Бухарин. Даже над своим столом в сельсовете он повесил его портрет. Он жил его «заветами» и… продолжал богатеть, засевать больше земли, нанимать больше батраков. Потом вывозил в город и продавал зерно оптом и в розницу, государству и частным НЕПманам. Апогеем его хозяйственной деятельности стала постройка мельницы, на которую теперь съезжались молоть зерно и, естественно, за это платить, со всей округи.
И дома Яков решил повесить портрет своего кумира. Ксения решительно воспротивилась:
– Это что еще за новый бог объявился, что ты его заместо икон вешаешь!
– Это Бухарин Николай Иванович, золотая голова. Он за таких как мы крепких хозяев радеет, – пояснил Яков.
– Не верю я ему, у него в глазах твердости нету. Сегодня одно скажет, завтра другое, – поглядев на портрет, дала характеристику «любимцу партии» Ксения.
– А это кто такой? – Ксения кивнула на следующий портрет, который Яков хоть и не собирался вешать, но тоже принес домой, как и еще несколько портретов наиболее видных большевиков.
– Троцкий Лев Давыдович, в войну он был председателем реввоенсовета.
– Жид? – сразу высказала догадку Ксения, много раз сталкивавшаяся с евреями в Саратове.
– Не знаю, – немного растерялся Яков, до того как-то не интересовавшийся национальной принадлежностью большевистских вождей.
– Жидам верить нельзя, обманут, продадут и купят, – безапелляционно заявила Ксения. – А это, кто такой злой?
– Сталин Иосиф Виссарионович, главный секретарь партии.
– Тоже не русский… Не нравятся они мне все. Царь Николашка он конечно с простиной был, но с портретов как-то добрее смотрел, чем эти, – вновь высказала свое суждение Ксения.
– Ты эт Ксюшь… ты эт брось! Не дай бог кто услышит, да донесут. Мне по должности положено советскую власть укреплять, а ты тут такое. Был царь, а теперь вот они у нас сверху, – сделал выговор жене Яков.
Тем временем Подшиваловка продолжала понемногу «вставать на ноги». Еще ряд семейств как русских так и немцев к 1927 году обзавелись крепким хозяйством: собирали много зерна, имели по нескольку коров, отары овец, стада свиней, нанимали постоянных и сезонных батраков. Деревня как никогда раньше разделилась по имущественному признаку. Причем некоторые богачи, как это часто случается с нуворишами в первом поколении, любили выставлять свое богатство напоказ: дорого одеваться, шумно отмечать праздники и именины, заводить пролетки с рысаками… На их жен несомненно воздействовал пример Ксении. С её подачи подшиваловские кулачки тоже постепенно осмелели, заводили прислугу, подолгу спали, вызывающе одевались…
Еще одним заразительным примером для прочих кулаков со стороны Буровых являлся демонстративный забой скота по осени. Например, забивали свинью, этакую откормленную хрюшку килограмм под триста. Яков для этого мероприятия приглашал мастеров этого дела – немецкую семью. В той семье при разделке скотины все строго имели свои обязанности. Сам глава семейства одним точным ударом в голову без лишних мучений убивал огромную хрюшку. Потом на неё со всех сторон налетало немецкое семейство и начиналось вспарывание, разделывание, съем шкуры, вынимание потрохов. Через несколько часов вся свинья была разделана, ее кишки набиты ливером на колбасу, копыта и ноги на холодец, самые жирные части на сало… Ворота буровского двора в этот день отворялись настежь, и все желающие наблюдали за тем действом. Потом, кто хотел мог забрать с собой отходы не пошедшие в дело. Но после немецкой работы таких отходов оставалось крайне мало.
Конечно и это, и всякое другое наглядное демонстрирование богатства перед неимущими, опять же не могло не вызвать молчаливого недовольства и даже ненависти. То являлось неотъемлемой части ментальности в стране, где уже давно было утеряно уважение к самой важной человеческой ценности, к труду. Даже мастерство и трудолюбие немцев здесь воспринималось не с восхищением, а с завистью голодных к сытым. Да, труд в России, как во времена крепостничества, так и после считался делом не престижным. При советской власти престижно стало командовать, стремиться пробиться в начальники, самому при этом не работать, а как и прежде суметь заставить работать на себя других. На том стояла и, увы, стоит пока русская земля. Как, впрочем, и не она одна. Те страны, где труд в почете и работяга живет лучше начальника… на планете Земля таковые далеко не в большинстве. Тогда в 20-х годах в число тех, кто сумели заставить других работать на себя попали и супруги Буровы.
Конец той вольготной жизни для таких как Буровы отчетливо стал просматриваться где-то с 1928 года, когда внутренний раздрай в большевистском руководстве был, наконец, продолен. Нет, они не договорились, просто одни начали пожирать других по закону крысиной стаи в замкнутом пространстве. Яков чувствовал эти перемены, зондировал почву в губкоме, пытался что-то определить из передовиц центральных газет. Во всяком случае, портрет Бухарина он поспешил снять, так как тот явно стал «сдуваться». О том сам за себя говорил новый официальный курс партии, направленный на сворачивание НЕПа, коллективизацию в деревне и объявление кулачества внутренним врагом. Еще когда Яков показывал Ксении портреты большевистских вождей, она предположила, что хитрый еврей Троцкий, наверняка обманет злого грузина Сталина. Но случилось все с точностью до наоборот, Сталин по всем статьям переиграл Троцкого и заставил покинуть страну. То, что изо всей большевистской верхушки Сталин в уме и хитрости не уступил никому и уж тем более в жестокости и вероломстве, это и предопределило весь дальнейший ход борьбы за власть.



