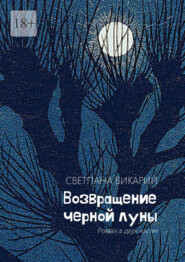скачать книгу бесплатно
– Это невозможно! Я человек – русский!
– Горе ты мое русское! И за что мне такое!
Вздохнув, Валентина присаживается к нему на край кровати, обнимает, ласково теребит темные горчаковские волосы. Приободренный Серега живо приступает к исполнению второго акта авторского спектакля, который разыгрывают они в своем дуэте уже несколько лет, по разумению обоих, вполне счастливых.
– Разлюбезная моя, Валюха! Я все уберу-уберу, начищу… Ты моя единственная… Единственная и неповторимая…
– Неповторимая я дура у тебя, вот это правда. Ну, началось!.. – засмеялась Валентина негромким, грудным своим смехом, зная наперед каждое слово, которое произнесет ее благоверный. – А тебе, милый мой, еще огород поливать. Весна нынче жаркая, скоро уже и картошку окучивать. А ты не просыхаешь… Голова-то болит? Рассолу налить? Квас у меня еще не подошел.
– Налить… всегда налить… Но вот скажи, Валюха, но скажи мне по честному, в прошлом году ты, куда с Ванькой Фраерком на Газике ездила? За озеро, за Карасье, за Земляничный холм, туда…
– Я тебе раз в неделю на этот вопрос теперь отвечать буду?!
– Отвечай, когда тебя муж спрашивает!
– Тьфу, на тебя! Сено смотреть ездили, бригадир послал!..
– Валюха, а у тебя нет… в заначке? 100 граммочек! Стропы-то горят не на шутку!
3
Под сенью святых братьев Петра и Павла притулился приграничный сибирский городок Кручинск. Стоял он на высокой круче, отчего и получил свое простое название, а внизу дымился туманами глубокий лог, где протекал, стремясь влиться в батюшку сибирский Иртыш, неглубокий скромный сынок его Ишим. Вдоль Ишима грядой тянулась горькая линия озер. Испокон века добывали там соль оседлые русские и кочевники-казахи.
Золотые купола, расписные маковки за толстостенными каменными заборами святой обители… Колокол слышно далеко… Святые Петр и Павел надежно охраняли город вот уже триста лет. Шквалы жизненных чересполосиц прошли сквозь него, как вода через песок – татаро-монгольские тьмы на низконогих конях и мирные, кочевые кибитки степняков, с идущими следом табунами игреневой да гнедой масти. Память о воинских доблестях сибирских казаков навсегда сберегла эта земля. И над грядой солено – горьких озер этого просторного края пролетели легенды о гордых казахских ханах и о генерале Колчаке. Сюда по легендарному Шелковому пути гнали на ярмарки рыжих верблюдов и белых аруан, груженых дорогими коврами и пряностями, а назад угоняли скот, нагулявший жир на самых сочных и чистых травах, угоняли самых резвых кобылиц, знающих истинную свободу и нежность ветра в серебряной гриве.
Новокаменка, и ста лет не прошло, была перевалочным пунктом, сюда засылались, направленные в глубину степи купеческие татарские тюки, наполненные аршинным товаром – миткалью, бязью, ситцем для казаков и шелком и бархатом для богатых кочевников. А отсюда зимние обозы грузились бочками, наполненными знаменитым сливочным маслом Сибири, топленым салом, кожевенным сырьем, даже замороженными кишкками с боен.
Комковой, головчатый сахар, галантерея и скобяные товары, плиточный чай, стеклярус, чугунные казаны, латунные – с чернью браслеты и дутые серьги под золото для радости девок, падких на блесткое. Все имело здесь спрос: украшенные медным орнаментом сундуки, караванный плиточный чай из Индии, позументы для казаков и десертные красные вина для любителей.
Украшенный медным золотом сундук прадеда Георгиевского кавалера Евсея Семеновича Горчакова, участника знаменитого Брусиловского прорыва германского фронта в Первую мировую войну – был для Кати реликвией. Ольга Петровна – мать, завещала ей свято беречь память о родине, горчаковской отцовой линии.
В сундуке лежал черный парадный мундир с поблекшими на рукавах галунами, широкие шаровары с лампасами из тонкого синего сукна, там же хранились три дедовских Георгиевских креста – один за битву в армейском корпусе сибиряков под Вафангоу, два за лихую рубку в доблестной армии генерала Брусилова.
Ведерный самовар с фамильным тавром тульских заводчиков братьев Баташевых занимал почетное место в горнице, а по праздникам, впрочем, которых становилось на его веку все меньше, он вздувался, шипел, накаляясь солнечным жаром. В нарядную Троицу Катя Горчакова в память о горчаковской линии, всегда разжигала знаменитый самовар во дворе – грех в великий праздник запирать себя в стенах, – выставляла на стол свежеиспеченные обливные шанежки и творожные ватрушки, янтарно-хрупкий свой знаменитый на всю Новокаменку хворост, ставила пару лафитничков, счастливо сохраненных матерью с вишневой и малиновой наливкой собственного изготовления и тонкостенный сервиз, с которого она не спускала глаз во время застолья.
Захмелев, кто-то из седоусых стариков обязательно вспоминал старинную походную песню, с которой уходили прадеды на последнюю Мировую войну.
То не бури с грозами
Грянули, ребята,
На брегах привольных
У Иртыш-реки-
За орлиной стаей
Поднялись орлята-
Все в отцов родимых,
Все сибиряки!
Наши сабли вострые,
Наши кони-звери,
Только гикни-ринутся,
Черту на рога!
Сквозь огонь и воду,
Вьюги и метели,
За отцами бросимся
Мы громить врага.
Не уйдет от конницы
Вражеская стая:
Сечь башку фашисткую
Казаку с руки.
Пусть помянет песней
Родина святая,
Как громили ворога
Мы, сибиряки!
Это была последняя заветная песня сибирского казачества. Пели ее сердцем, полным неизбывной печали по невозвратному прошлому, по яркой молодости, украшенной любовью и верой в завтра, по неожиданно ушедшей радости, которая наполняла душу трепетом жизни. Молодо, отрадно звучали голоса в потемневшем воздухе, в вышине блистал остророгий месяц. И каждый что-то вспоминал из жизни своих близких, родной Новокаменки.
Катя вспоминала зимы своего детства, белые-белые, искрящиеся до ломоты в глазах снега, если смотреть в окошко долго-предолго, ожидая увидеть игреневой масти лошадь, впряженную в сани, из которых поднимается рослая фигура деда, воротившегося из обоза с гостинцами.
Из Новокаменки зимней дорогой шли обозы с круговыми слитками топленого сала с салотопен на Кокчетав – владения казачества Второго военного отдела Сибирского войска, Курган, Петропавловск, Макушино, Петухово, Атбасар. Извозный зимний промысел был хорошим приработком для семьи Горчаковых, которая особым достатком среди станичников не отличалась. Но и позора не имела – потомки Георгиевского кавалера все были работящие, красивые, смекалистые.
Это и была родина Лоры Горчаковой, здесь судьбе было угодно породить эту дерзкую, бесстрашную девчонку. Дурниной закричала она, придя в мир, когда молодая акушерка и по стечению обстоятельств родная тетка Катя подхватила ее на руки.
– Полинка! Девчонка у нас! – звонко на всю родильную перекричала младенца Катя. – Слышишь, девчонка! Лорка наша! Как и хотели! Именно Кате суждено было принять свою племянницу, дочь старшего любимого брата Бориса. Да только братка в это время отсутствовал, подался на заработки на Жаман-сопку. Как сдурел он! Катя этого понять не могла. Целый год, придя из армии, добивался он Полинку Долину, а едва забрал из родительского дома, бить начал, по бабам побежал, словно кто опоил его приворотным зельем. И бегал бы дальше, если б отец Полины – строгих нравов мужик, не забрал дочь. Полинка, жена не венчанная была не в себе – отец приказал от ребенка отказаться. Мол, не нужен он нам. Раз не нужна ты семье Горчаковых, а Борис обращается с тобой, как с сучкой безродной, то и ребенок их, нам, Долинным, не нужен. Обиделся Матвей Евграфович на Горчаковых, упрек свой сделал, отчеканил каждое слово. А слово его в краю имело вес золота. Запретил жене своей Галине Ивановне ходить в роддом. Галина Ивановна в ногах валялась:
– Дочь-то у нас единственная! Смилуйся! Это ведь грех, Матвеюшка! Что же здесь дурного, грешного, коли придет в нашу старость дитя нам на радость? Внук или внучка – человек! Кровинка наша! Неужто, ты оставишь его? Люди чужих берут, а это родное. Не греши, Матвей Евграфович!
Но Долин неумолим остался. В Бога не верил, какие уж тут бабьи слезы! Школа его жизни началась с сиротства и батрачества на молоканке богатого тестя, откуда он и украл шестнадцатилетнюю Галю свою – богатую невесту. А что толку? Проклятье вслед молодым и отчуждение от дома родительского ожидало пригожую Галю и нелегкая жизнь с суровым и малоразговорчивым Матвеем Долиным. Жизнь он провел в труде и честности, истовой праведности. А потому предельной честности требовал от других. Так что розы-мимозы его не трогали.
Но надобно жить, как набежит. И тогда Галина Ивановна пошла к соседке татарке Фатьме Юсуповой, доброй женщине на улице Новомечетной. Та была замужем за чеботарем безногим, инвалидом с войны. Жили они в жестокой бедности, во времянке, вросшей в землю. В единственной комнатенке в койках по двое спали. Здесь же глава семейства обувку для всей улицы подшивал, а Фатьма перешивала пальтишки да штаны на старой зингеровской машинке. Зато детей они едва ль не каждый год на свет пускали. С радостью. И за три месяца до того, как появиться на свет Лоре, породили они черноглазую девчонку Файку.
Галина Ивановна тупо смотрела, как Фатьма ловко завернула Лору в Файкины плохо простиранные хозяйственным мылом байковые пеленки. Полюбовалась младенцем, сказала свою мусульманскую молитву, с жалостью и пониманием прижала к полной груди.
И отправилась Галина Ивановна с дитем и новоиспеченной матерью Полинкой Под Гору к бабе Паруше, местной врачевательнице. Приняла она Полинку с Лорой. Лечила обеих, испуг выливала, сполохи, сглазы. Охраняла, берегла от людей и слухов. Галина Ивановна прибегала навестить, поплакать вместе с дочерью, потетешить внучку.
Ровно через год, в августе Матвей Долин появился в калитке саманного домика бабы Паруши.
– Ну и выстарело у тебя здесь все, Прасковья Никитична! – заявил он, обведя хозяйским глазом гибнущее старушечье подворье.
Тут Лора и вышла к нему своими ногами – пухлощекая, с венчиком рыжих волос и с такими яркими голубыми глазами, что Матвей Евграфович зажмурился. Губы его задрожали. Махнул рукой, как отрезал:
– Полинка, сбирайся домой, хватит по людям скитаться! А с тобой, Прасковья Никитична, за доброту я рассчитаюсь. Только лихом не поминай. Сам себя не помню, сердце окаменело. Вот что я, чертяка, наделал! А эта пигалица малая вмиг растопила каменное сердце мое. Прими благодарность, Прасковья Никитична, и за все прости.
И рассчитался сполна. До ноябрьских крышу перекрыл, стены поднял, печь переложил, ветхий забор заменил. И печатью своей знаменитой поставил весной на окна ставни с затейливыми голубыми наличниками, красоты необыкновенной. Этих наличников месяцами добивались поселенцы станицы с татарским названием Маканча, где жили Долины. Честью было иметь такие наличники от самого мастера Матвея Евграфовича Долина.
А Борис появился вскоре. Был он высок, скроен ладно. Шапка пушистых курчавых волос и иссиня-черные горчаковской породы казацкие глаза не могли оставить девчат Маканчи равнодушными. Но было в нем что-то нерадостное и даже печальное. Словно какое-то клеймо. Смысла этого знака Катя тогда понять не могла, любила она старшего брата до одури, защищала его и во всем оправдывала. Катя все сделала, чтобы брат вернулся к Полинке. По пятам за ним ходила, убеждала, говорила о семье, как о ячейке общества, ведь именно этому учили их на собраниях в медицинском училище. О голубоглазой дочке – будущей надежде советской родины говорила ему Катя, чтобы сердце его, ставшее куском льда, оттаяло.
И Борис вернулся. Правда, ненадолго. И не на радость Полинке Долиной, хоть она и поменяла фамилию на Горчакову.
Эх, молодость! Сколько ошибок, сколько потерь! За надеждами, за мечтами и не заметишь, как красивая свежая молодость превращается в живой труп. Ходишь, дышишь, ешь, трудишься, страдаешь… Неужто, это и есть жизнь – дар Божий? Откуда же тогда страдания? Болезни? Одиночество в душе стылой?
А ведь старик Долин упреждал дочь: «Если чего и надо беречь, так это честь смолоду, чтобы не сожалеть потом о содеянных грехах. Чтобы стыдно тебе не было ни за одно слово тобой произнесенное. Ни за один поступок».
Любовь дочери мастер в расчет не принимал, блажью считал маету и слезы, которые она лила по Борису.
Борис не проявлял к семье и подрастающей дочери ни любви, ни особого интереса. И даже когда встречал жену с дочерью в городе, смотрел сквозь Лору, как сквозь стекло, как сквозь воду. Полину этот взгляд пугал, а Лору злил.
– Противный он. И на отца моего совсем не похож.– Говорила Лора матери.– Зачем ты с ним разговариваешь?
С Полиной они все-таки разошлись, и он продолжал переходить от одной женщины к другой, попадая из одних жадных рук в другие, из горячей постели в холодную. Полина снова попыталась устроить свою жизнь, и снова неудачно. Мужчины не держались за нее, не находя в ней чего-то главного для себя и уходили к другим, хотя были те вовсе не краше Полины, и неяркая, но спокойная красота ее угасала, как угасает букет полевых цветов долго простоявший в воде, которую забыли поменять.
4
Утро не раннее, но прохожих мало. Дворники уже прибрали город, и выглядит он, как новенький. Исторические памятники – дома, принадлежавшие в девятнадцатом веке важным в городе людям – купцам первой, второй гильдии на Вознесенском бульваре отреставрированные в прошлом году, стоят рядком, радуя глаз. Теперь в них расположены дорогие магазины с импортными товарами. Старые деревья – липы и клены побелены, кустарник подстрижен, на клумбах появились первые цветы.
Ленечка – щуплый, мелкорослый мужчина лет шестидесяти идет по Вознесенскому, помахивая легкой сумочкой, в которой у него лежит бутерброд с колбасой и сыром, аккуратно завернутый в чистую салфетку. Завтракать дома он не любит. А что он любит никто в городе и не знает. Может быть, любит Ленечка свою работу, этот бульвар, свои мечты и фантазии. Выражение его лица благостное, особенное. Кожа бледная, глаза темно-бездонные и выражение их уловить никому не удается.
Он доходит до пересечения с улицей Новомечетной, там стоит деревянная будка, с вывеской «Ремонт обуви». Ленечка достает из кармана связочку ключей, неспешно перебирает их. Спешить Ленечке некуда, всю жизнь один и тот же маршрут, одна и та же работа. Он открывает будку, входит, оглядывается на ряды отремонтированной обуви, как будто хочет спросить: Все ли на месте? И убедившись в этом, надевает черный фартук. Привычно протягивает руку к розетке, включает старый радиодинамик.
Из динамика тут же возникает приятный женский голос:
«Доброе, доброе утро! С вами Сюзанна Юдина и моя программа „Интересно мне, интересно вам“. Я уже несколько раз озвучивала, что интересы у людей разные. И все же есть интересы общие. Они касаются не только нашей личной жизни, но и жизни социальной. Что это за интересы, которые становятся темами моей программы? Ответственное родительство, например. Всем интересно. Что же это такое? Или вы до сих пор считаете что, родив ребенка, вы делаете ему огромное одолжение? А кормить, поить, учить уму разуму – как получится? Нет. И не надейтесь. Примите на себя ответственность за свои родительские действия».
На часах восемь утра. Блаженно потягиваясь, городок Кручинск просыпается. Спешить особенно некуда. Пять бывших военных заводов, гордость бывшего Советского Союза, остановились еще в начале перестройки.
– Язви вас! Варники, уже смылись! – ругалась Катя.
– Даже с Лоркой не поздоровались. А ведь знали, что тетка такая у них есть на этом свете!
Впрочем, она сразу же спохватилась. Дверь в комнату, где стояли сумки гостьи, была ею заведомо заперта на ключ.
– Ты о ком это? – поинтересовалась, вернувшись из огорода, Лора. Она даже порозовела от удовольствия.
– Да о ребятишках Вовкиных. Уже поднялись и смылись. На Ишим или куда еще их черт занесет.
– Школа-то у них считай, закончилась.
– Ну, и делов-то! – Лоре было приятно вспомнить и произнести, оказывается, незабытые слова, которыми когда-то пользовалась ее бабушка и ее продолжательница тетя Катя.
– Да нет! Они ведь такие. В моде теперь у них убегать. Исчезают, а Вовка их ищет по вокзалам да по канализациям.
Теперь уже Лора пожала плечами.
– Вот ведь времена настали! А ведь это мои внуки! – с горечью воскликнула Катя. – Гляжу на них, и, веришь ли, Лорка, душа моя плачет. Милиция уже дважды находила. С собакой… И главное, все Димка! В тихом болоте и вправду черти водятся. А ведь такой кроткий, молчаливый.
Но когда Катя увидела, что исчезла гора сырников, которыми она собралась угощать племянницу, тут уж она разошлась.
– Веришь ли, паскудники, в мать свою крашеную потаскуху! Все из-под тишка, тихомолком! Вот ведь, что обидно! Я им что могу – и пирожки, и одежонку, и деньжат, если есть. А они ничего не ценят. Ну, как их мать!
– Да мать их причем? Это же дети! Дети ценить не умеют. Это уж потом… когда-нибудь дойдет до них…
Но Катя всерьез разошлась.
– Жизни моей не хватит дождаться, когда дойдет до них! В прошлом году корову продала, думала – добавлю, возьму молодую стельную. Они ведь деньги-то нашли и все спустили за три дня! А понакупали чего – как я это пережила, не знаю. Роботов, машинок, каких-то шаров расписных, пистолетов… А ведь большие уже, и не понимают.
Лора обняла обмягшие за жизнь плечи тетки. Слезы едва не полились из ее глаз. Как дорога была для нее эта единая кровью с ней спаянная Катя, яркоглазая и быстрая некогда, а теперь мало похожая на ту, что она помнила и любила всем своим сердцем. И все же, испытав легкое затмение, Лора успела осознать, что доверять только ей одной и могла. Но не все сразу. Успеем поговорить, решила она, времени впереди много.
– Ну, успокойся! Они же все равно дети! Значит, очень им хотелось этих роботов и машинок. В Америке вот, детские игрушки – дело святое! Может, вы просто как-то неправильно к этому относитесь?
Пока Лора доставала подарки, Катя все же вырвалась дожарить сырники. Наконец, Лора появилась с большой банкой кофе и бумажным пакетом.
– Без кофе не могу жить.
– Раз глянется, пей… – сказала Катя, потому что и сама, правда иногда, когда давление не давало о себе знать, была не против пахучего напитка. Особо ей нравился бразильский.
– А вот это, тетя Катя, припрятать надо.
Катя заглянула в пакет и обмерла. Сердце ее бешено застучало – в пакете лежали пачки зеленых заграничных денег, она и представить себе не могла, сколько их там.
– Лорка, это что, настоящие? – не преминула она спросить, с выражением такого изумления, что Лора искренне рассмеялась. – Я ж их настоящие только по телевизору видала!
– Настоящие. – Заверила Лора.
– И много?
– Не так чтобы много. Сняла со счета уже здесь.
– Девка моя! Это ж деньги миллионерские! Да я ж теперь по ночам спать совсем не буду!…
– Тетя Кать, ты это брось. Давай сделаем так: надо пересыпать в другую банку кофе. У тебя есть большая стеклянная банка? А положим деньги в эту жестяную банку, и ты спрячешь ее.
– Да дома-то нельзя! Все здесь на виду! А еще варнаки эти!
– Тогда зароешь ее в огороде. Может, за баней. Да, лучше за баней. Надо будет на расходы, я тебе скажу – ты достанешь. Менять будем в городе. В банк, думаю, не стоит класть. Тратить надо.
– Дак я и не знаю, как их в руки взять! Они ведь мне руки сожгут!
Катя присела на свой стул, ноги отказывались держать ее.
– Неужели такие деньги можно истратить? – у нее в голове все что-то мельтешило. Например, вопрос: как можно заработать такие деньжищи? Но она не задала его племяннице – постеснялась.
– И не сомневайся – истратим! – смеясь, заверила Лора.– Я приехала тратить деньги! Тебе, например, что нужно?
Катя задумалась.
– Красочки бы прикупить… Могилки не ухожены.
– Дело святое. Купим. Ты посущественнее говори.
– Красочки опять же для заплота, да шиферу, – крыша у нас прохудилась. Вовка говорит, надо обшить дом-то снаружи тесом, а то ведь дом-то наш горчаковский старый. И рубленые стены теперь холод пропускают. Быстро остывает, вот что… Топишь, топишь, а дом уже такого тепла не держит. А зимы-то у нас… помнишь? В этом годе раза два до сорока доходило, с метелью. Так выдувало под утро все наскрозь!