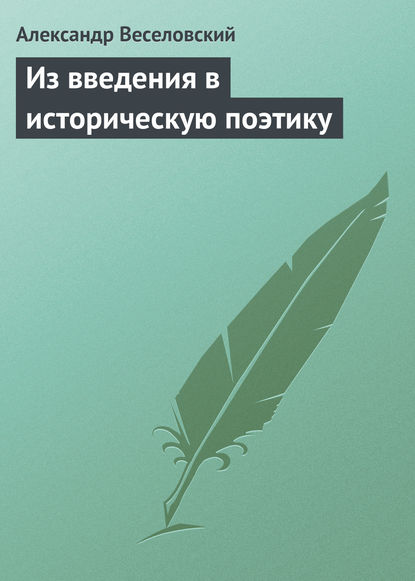 Полная версия
Полная версияИз введения в историческую поэтику
Как бы пошло европейское литературное развитие, предоставленное эволюции своих собственных народных основ, – вопрос, по-видимому, бесплодный, но вызывающий некоторые теоретические соображения, которым действительные факты идут навстречу. Очевидно, органическая эволюция совершилась бы медленнее, не минуя очередных стадий, как часто бывает под влиянием чуждой культуры, заставляющей, иногда не вовремя, дозревать незрелое, не к выгоде внутреннего прогресса. В основе греческой драмы лежат обрядовые хоровые песни, вроде наших весенних хороводов; их простейшее религиозное содержание обобщилось и раскрылось для более широких человеческих идей в культе Диониса; художественная драма примкнула к этой метаморфозе народного аграрного игрища. Обратимся на Запад. И здесь существовали народные хороводы, простейшие основы драматических действ, но дальнейшего развития на этой почве мы не видим; если были зародыши соответствующего, обобщающего культа, то они заглохли, не принеся плода. Явилась церковь и создала из обихода мессы род духовной сцены – мистерию; она лишена была народной основы, которая питала бы ее и претворяла, развиваясь вместе с догматом и выходя из него: церковная основа явилась со стороны, нерушимая, не подлежащая развитию. Площадная сцена, куда переселился впоследствии этот религиозный театр, могла внести в него несколько бытовых сцен и комических типов, не психологический анализ и не понятие внутреннего конфликта; и здесь школа дала лишек прогресса, приучив к иносказанию, к аллегоризации Вергилия, к обобщениям, которыми она орудовала как живыми лицами: к фигурам Пороков и Добродетелей, Филологии и Человека, Every man. Слияние этих обобщений с эпически-неподвижными лицами мистерии указывало на возможность дальнейшего развития, на задатки драматической жизни. А между тем уже в средневековом, даже женском монастыре читали комедии Теренция, помнили Сенеку; с ним снова входит в оборот предание древней драмы. В XIV веке является и первое гласное ему подражание. С XVI века драма водворилась как признанный литературный жанр, завоевавший общие симпатии: за Шекспиром стоит английская драма сенековского типа.
Откуда это поднятие, популярность драмы? Если литература отражает спросы жизни, то между ними и известными поэтическими формами позволено предположить некоторое соответствие, если б даже те и другие не развились совместно; усваивается лишь то, к чему есть посылка в сознании, во внутренних требованиях духа.
Драма, стало быть, внутренний конфликт личности, не только самоопределившейся, но и разлагающей себя анализом. Конфликт этот может выражаться во внешних формах, объективирующих психические силы и верования в живых лицах мифологии, в божествах, определяющих долю, враждебную самоопределению личности; но он может представляться и совершающимся внутри человека, когда ослабнет или видоизменится вера во внешние предержащие силы. Такова суть греческой драмы от Эсхила до Еврипида.
Проверим эти положения на судьбах европейской драмы в период ее художественного возникновения.
Развитие личности: в Италии, увлеченной в народные стези гуманизма, она выразилась раньше и ярче, чем где-либо, сказалась и в особях, и в новых формах политического быта, в подъеме литературы и искусства, а между тем именно итальянская драма ограничилась внешним подражанием классическим образцам и не произвела ничего самостоятельного, свидетельствующего о высоте личного подъема.
Почему это? Мы обращаемся за справками к Греции, к условиям афинской политии, соединяем развитие личности с требованиями свободного общественного строя и переносим эти выводы на блестящий период елизаветинской драмы, где оба условия, казалось, соединились к одной цели. Но мы не в состоянии помирить этот вывод с параллельным поднятием испанской драмы, в душной политической атмосфере, под религиозным гнетом, связывавшим свободу личности, вогнавшим ее в узкую стезю энтузиазмов и падений. Ясно, что не качества общественной среды вызвали драму, а внезапный подъем народного самосознания, воспитанного недавними победами к уверенности в грядущих, широкие исторические и географические горизонты, поставившие национальному развитию новые общечеловеческие цели, новые задачи для энергии личности. За греческой, английской и испанской драмой стоят: победа эллинизма над персидским востоком, торжество народно-протестантского сознания, наполняющее такою жизнерадостностью английское общество эпохи Елизаветы, и грёза всемирной испанской монархии, в которой не заходит солнце. В среде, где личность уходила без остатка в безразличие массы, ликования победы выразились бы народной эпической песней, в которой общее настроение, общая оценка пережитого скажется прославлением типического героя; в личности обособившейся яркий исторический момент, самая громоздкость обступивших ее событий вызовет потребность анализа, счетов с собою и с руководящими началами жизни, в виду требования действия, обострит этот внутренний конфликт, который явится и условием и продуктом индивидуализации. Драматическая форма, как внешнее действо, как сцена, уже существовала; теперь она объявится драмой, отвечая спросу времени; условиями ее художественного обособления, ее популярности представляются мне: развитие личности и громкие события народно-исторического характера, открывающие народу новые пути и далекие перспективы.
Если Италия не произвела драмы, то потому, что таких именно событий она не пережила. Явление гуманизма, которым она подарила Европу, не событие, не переворот или внезапное откровение, а медленное движение вперед забытых народных начал. Оно воспитало в интеллигентной части общества сознание культурного единства, не пришедшее к народно-политическому расцвету. Италия, как целое, была абстрактом; существовала масса мелких республик и тираний, с местными интересами и борьбою, с трагическими дворцовыми анекдотами, человечными и вместе с тем мелкопоместными; им недоставало широкого народного фона. Идеализация безотносительно-человеческого стала возможной лишь в нашу буржуазную пору, не в пору зарождения художественной европейской драмы. Но можно спросить себя: возможно ли ее развитие вообще в условиях мелкой народности, стоящей вне широких общечеловеческих задач, ограниченной интересами колокольни? Это не исключает, разумеется, книжную, кабинетную драму.
Говоря об ее зарождении, я отличил драму, как сценическое действие, от драмы, как известное миросозерцание, как требование действия и конфликта. Это положение ставит нас лицом к лицу с рядом других вопросов, непорешенных и, может быть, непорешимых.
История греческого литературного развития дает нам приблизительно картину последовательного выделения литературных родов, которую мы невольно склонны обобщить, усматривая в каждом роде, являющемся на сцену истории, отражение известных общественных и художественных требований, искавших и находивших себе соответствующее выражение в эпосе, лирике, драме и романе. Литературы новой Европы дают, видимо, такую же последовательность, но органическую или нет – вот вопрос. Мы уже знаем, что наши литературы сложились под воздействием пришлых, классических, что, например, новоевропейская драма вышла из не народных основ и доразвилась под влиянием древней. Прочных выводов здесь быть не может, тем более, что изучение народной поэзии открывает нам новые точки зрения, колеблющие возможные выводы. Оказывается, что в поэзии обряда, древнейшем показателе поэтического развития вообще, соединены в наивном синкретизме все роды поэзии, насколько они определяются внешними признаками формы: и драма в действии, и диалог хоровода, и эпический сказ, и лирическая песня; более того: все это в соединении с музыкой, которая долгое время будет сопровождать продукцию той или другой поэтической формы, последовательно выделяющейся из безразличия обрядовой поэзии: будут петь и эпос, лирику, и в драме будет присутствовать музыкальный элемент; обособление музыки от лирического текста и одностороннее развитие последнего совершилось в Греции в поалександровскую пору. По какому принципу совершилось это выделение, мы решать не станем; вопросы генезиса, всегда темные, лучше предоставить поэтике будущего, поставленной на рационально-исторической почве. Обратимся к новой Европе, с двойственностью ее образовательных и поэтических элементов: здесь эпос и лирика даны издавна, с средних веков; развилась и драма, испытавшая с XIV века и влияние драмы классической; с XIV века водворяется и художественная новелла, прототип нашего романа. С тех пор мы владеем всеми главными формами поэзии, а исторический опыт продолжает убеждать нас, что между ними есть какое-то чередование, как бы естественный подбор в уровень с содержанием сознания. Это, быть может, ложное впечатление, но оно само собою напрашивается. Почему драма является преобладающей поэтической формой в XVI–XVII веках? Почему новелла-роман надвигается начиная с конца XIV века, чтобы стать господствующим литературным выражением нашего времени? Последний вопрос не раз ставили в ожидании ответа, который и мы не в состоянии дать. Ограничусь параллелью, которая, быть может, объяснит нам не происхождение романа, а качества общественной среды, способной его возделывать. В Греции драма стоит еще в полосе национально-исторического развития, роман принадлежит той поре, когда завоевания Александра Великого его нарушили, когда самостоятельная Греция исчезла во всемирной монархии, смешавшей восток и запад, предания политической свободы поблекли вместе с идеалом гражданина, и личность, почувствовав себя одинокой в широких сферах космополитизма, ушла в самое себя, интересуясь вопросами внутренней жизни за отсутствием общественных, строя утопии за отсутствием предания. Таковы главные темы греческого романа: в них нет ничего традиционного, все интимно буржуазное; это драма, перенесенная к очагу со сцены – в условия домашнего обихода; она остается, тем не менее, драмой, действием: таково на самом деле название греческого романа. Древние греки жили общественной жизнью: на агоре, более чем дома, и тогда как дома жилось просто, храмы были чудом искусства, театр – народным учреждением. Средневековые флорентийцы любили роскошь общественных празднеств и с торжеством носили по улицам мадонну Чимабуэ, потому что видели в ней идеал красоты, а дома царили родовые нравы, воспетые Данте: мужчины умывались редко и за столом не знали вилки. Мы заменили художественную пестроту старинной одежды – черным сюртуком, великолепие наших публичных зданий отличается ремесленным колоритом, зато искусство и поэзия в миниатюре спустились до домашнего употребления, и драму мы переживаем в формах романа для чтения в обстановке домашнего комфорта.
Это, быть может, не ответ на вопрос, поставленный выше: о соответствии между данной литературной формой и спросом общественных идеалов. Соответствие это, вероятно, существует, хотя мы и не в состоянии определить законности соотношений. Несомненно, одно подтверждается наблюдением, что известные литературные формы падают, когда возникают другие, чтобы иногда снова уступить место прежним.
Падают и возникают не одни формы, но и поэтические сюжеты и типы. Германские песни о Карле Великом восстали еще раз в формах феодальной эпопеи; в периоды народных бедствий или возбуждений, демократических или мистических, видели одни и те же страхи, и надежды одевались в те же или сходные образы: ждали последнего часа или последней битвы, когда явится избавитель, кто бы он ни был, византийский ли император или дантовский Вельтро, Фридрих Барбаросса или Наполеон III. В 1686 году лето сулило богатую жатву и довольство, а жители Граубюндена еще помнили живо ужасы 30-летней войны, и религиозная политика Людовика XIV настраивала их к серьезным опасениям: что-то будет? И вот два путника ехали однажды по дороге в Кур, видят, в кусте лежит ребенок, закутанный в пеленки. Они сжалились над ним, велели слуге взять его с собой, но как ни силился он, один и вдвоем, поднять его не смогли. «Не трогай меня, – послышался голос дитяти, – меня вам не поднять (вспомним неподъемную сумочку в нашей былине), а я вот что скажу вам: быть в этом году великому урожаю и благорастворению, но не многие доживут до него» – 1832 год переносит нас к июльской революции, «юной Германии» и временам Bundestag'a; свирепствует холера и в народе те же тревожные ожидания; в Гартвальде под Карлсруэ охотник встретил вечером после захода солнца три белые женские фигуры. «Кому будет есть хлеб, который уродится в этом году? – сказала одна из них; кому пить вино, которого будет вдоволь? – спросила другая; кому будет хоронить всех тех покойников, которых унесет смерть?» – кончила третья. В 1848 году то же настроение и сходная легенда в Ангальте: в течение нескольких ночей сторож в Klein-Köthen'e видел на поле, где вообще никаких строений не было, дом с тремя освещенными окнами; встревоженный видением, он сообщил о нем священнику, и они вместе пошли посмотреть, в чем дело. В доме за столом сидел маленький человек и писал; он кивнул в окно священнику и, когда тот вошел, молча подвел его поочередно к каждому из трех окон. Выглянул священник в одно: роскошное поле, густая пшеница стоит в рост человека, отягченная колосьями; из другого иной вид: поле битвы, усеянное трупами, и море крови; в третьем открылась прежняя нива, наполовину сжатая, но на всей полосе всего один человек[10].
Я полагаю, никакие теоретические соображения не мешают нам перенести эту повторяемость народной легенды к явлениям сознательно художественной литературы. Сознательность не исключает законности, как статистические кривые – сознания самоопределения. Намечу лишь несколько фактов. Старая титаническая легенда о познании добра и зла отразилась в средневековых рассказах, и мы встречаем ее поэтический апофеоз в XVI–XVII веках: в «Фаусте» Марло и «El magico prodigioso»[11] Кальдерона. В них выразилось настроение эпохи, перед которой открылись невиданные умственные кругозоры, и она хочет овладеть ими в юношески самоуверенном сознании своих сил. Фауст – это тип мыслящего человека поры гуманизма, вступивший в борьбу со старым миросозерцанием, уделявшим личности лишь скромную роль исполнителя, идущего назначенной чередой. Такие люди были, они или достигали, или гибли, не уступая; их победы не в достижении, а в целях борьбы, во внутренней потребности освобождения (Wer immer strebend sich bemuht, den kônnen wir erlôsen)[12]. Другие пошли было навстречу новым веяниям, увлеклись до падения, до чувства своего бессилия и несбыточности надежд, и возвращались вспять к прежней вере, к ее простодушно буржуазному покою. И вот почему обновляется в литературе именно XVI века, отражая нередко факты личной жизни, евангельская легенда о блудном сыне, искавшем чего-то лучшего и снова вернувшемся под отеческий кров. Все искали чего-то: лучшего общественного устройства, более свободных условий для преуспеяния личности, новых идеалов. Исстари (уже Лиону Хризостому) знакома потешная сказка о какой-то небывалой стране, где все счастливы, никому ни в чем нет недостатка, реки текут молоком, берега кисельные, и жареная дичь сама летит в рот. Эта реалистическая грёза служит теперь выражению идеальных потребностей духа: возникают социальные утопии, начиная с телемской обители Рабле и утопии Томаса Мора до Cyrano de Bergerac[13], робинзонад XVIII века и благонамеренных сновидений, что будет за столько-то тысяч лет вперед. Настают эпохи общественной усталости, и обновляются сюжеты пасторали, когда человека тянет к непосредственной природе, к опрощению – хотя бы в стиле барышни-крестьянки, к народной песне и народной старине: это эпохи повестей из крестьянского быта и археологических вкусов.
Это очередное обновление сюжетов, по-видимому, не всегда является ответом на органические требования общественно-поэтического развития. Талантливый поэт может напасть на тот или другой мотив случайно, увлечь к подражанию, создать школу, которая будет идти в его колее, не отвечая тем требованиям, иногда им наперекор. Так пережил свое время феодальный эпос, петраркизм; так были отсталые классики и романтики. Но если взглянуть на эти явления издали, в исторической перспективе, все мелкие штрихи, мода и школа и личные течения стушуются в широком чередовании общественно-поэтических опросов и предложений.
Сюжеты обновляются, но под условием тех видоизменений, которые отличают, например, Дон-Жуана А. Толстого от его многочисленных предшественников, аскетическую легенду о гордом царе от ее переделки у Гаршина; тему об отцах и детях в ее различных выражениях до тургеневского романа.
Возьмем пример из далекого прошлого: Апулей подслушал какую-то милезийскую сказку и пересказал нам ее в прелестной повести об Амуре и Психее, где реальное опоэтизировано и одухотворено настолько, что в раннюю христианскую пору Психея стала символом души, разобщавшейся с своим божественным началом и тревожно ищущей соединения с ним. Что это была за милезийская сказка, – мы не знаем, но сюжет ее распространен у разных народов с подробностями, указывающими, в каких простейших бытовых отношениях она сложилась. Есть еще и существовали экзогамические расы, возводившие свое происхождение к какому-нибудь природному объекту: растению или животному; этого родоначальника каждое такое племя почитало, как святыню, как свой totem, и существовал запрет браков между лицами, почитателями одного и того же totem'a, носившими один и тот же выражающий его символический признак. Такие браки обставлялись препятствиями, стеснительными условиями, отражение которых мы видим в условии, которое Амур ставит Психее; их нарушение вело к перипетиям.
Таково содержание экзогамической сказки: у Апулея не узнать ее бытовой подкладки. Или припомним мотивы: об увозе жены, о похищении невесты, о спознании или встрече, нередко враждебной или преступной, между близкими родственниками, отцом и сыном, братом и сестрой. Они встречаются в средневековом романе как интересные формулы, как данные для поэтического развития, тогда как в основе они отражали реальные факты: брака умыканием либо эпохи грандиозных народных смешений и переселений, разлучавших родичей на далекие пространства; оттуда элемент спознании в греческом романе в широких перспективах Александровой монархии и знакомые всем легенды о бое отца с сыном.
Между этими реальными формулами и их позднейшими поэтическими воспроизведениями, между милезийской сказкой и повестью Апулея прошли века развития, обогатившие содержание общественных и личных идеалов; оттуда такая разница в освещении. Именно эволюция этих идеалов не обусловливает ли повторение опросов на тот или другой литературный сюжет, обновление старых?
Мы ощущаем эту эволюцию как нечто органическое, цельное, довлеющее целям человеческого развития, хотя не надо забывать, что она переработала целый ряд влияний и международных смешении, которыми так богата, например, наша европейская культура, В наших понятиях нравственности и семьи, красоты и долга, чести и героизма есть масса моментов, привзошедших со стороны: в нашем взгляде на любовь над туземными бытовыми условиями наслоился христианский спиритуализм, в него проникли классические веяния и получилось то своеобразное сочетание понятий, нормирующих не одну только жизнь чувства, но и целые области нравственности, которое мы в состоянии проследить от рыцарской лирики и романа до Амадисов и салона XVII века. Наши представления о красоте человека и природы такие же свободные и, может быть, их развитию расовые и культурные скрещивания способствовали не менее, чем развитию литературы. Когда тип непосредственного народного героизма с его реальной силой и лукавой сноровкой, не знающей счетов с совестью, как у Улисса, встретился впервые с типом христианского самоотреченно-страдательного героизма, это была такая же противоположность, как дантовский «дух любви» и наивное представление некультурных народов, источник любви – в печени. А между тем оба понимания сжились, прониклись взаимно, а развитие общественного сознания поставило и новые цели самоотреченному подвигу в служении идее, народу, обществу.
Но оставим период начинаний и смешений. Вообразим себе, что эволюция общественных и личных идеалов совершается ровно, что в ней есть моменты перехода от старого к новому, когда это новое требует выражения в формах научной рефлексии или поэтического обобщения, – что нас и интересует. В памяти народа отложились образы, сюжеты и типы, когда-то живые, вызванные деятельностью известного лица, каким-нибудь событием, анекдотом, возбудившим интерес, овладевшим чувством и фантазией. Эти сюжеты и типы обобщались, представление о лицах и фактах могло заглохнуть, остались общие схемы и очертания. Они где-то в глухой темной области нашего сознания, как многое испытанное и пережитое, видимо, забытое и вдруг поражающее нас, как непонятное откровение, как новизна и вместе старина, в которой мы не даем себе отчета, потому что часто не в состоянии определить сущности того психического акта, который негаданно обновил в нас старые воспоминания. То же самое в жизни литературы, народной и художественно-сознательной: старые образы, отголоски образов вдруг возникают, когда на них явится народнопоэтический спрос, требование времени. Так повторяются народные легенды, так объясняется в литературе обновление некоторых сюжетов, тогда как другие, видимо, забыты.
Чем объяснить и этот спрос, и это забвение? Может быть, не забвение только, а и вымирание. Ответом могли бы послужить аналогические явления в истории нашего поэтического стиля, если бы эта история была написана. В нашем поэтическом языке, и не только в оборотах, но и в образах, совершается постепенный ряд вымираний, тогда как многое воскресает для нового употребления: увлечение народной и средневековой поэзией со времени Гердера и романтиков свидетельствует о таком перебое вкусов. Не говорю о более или менее близкой к нам современности, которую мы уже начинаем ощущать как архаическую, но мы не сочтем поэтичным гомеровское сравнение героя с ослом, врагов, нападающих на него, с досадливыми мухами, тогда как иные образы и сравнения до сих пор остаются в обороте, избитые, но внятные, видимо, связывающие нас как обрывки музыкальных фраз, усвоенных памятью, как знакомая рифма и вместе с тем вызывающие вечно новые подсказывания и работу мысли с нашей стороны. Какой-то немецкий эрудит посвятил особую монографию одной поэтической формуле, проследив ее от народной песни до новых проявлений в изящной литературе: Wenn ich ein Vöglein war![14] Таких формул много.
Подсказывание – это то, что английская, если не ошибаюсь, эстетика окрестила названием суггестивности. Вымирают или забываются, до очереди, те формулы, образы, сюжеты, которые в данное время ничего нам не подсказывают, не отвечают на наше требование образной идеализации; удерживаются в памяти и обновляются те, которых суггестивность полнее и разнообразнее и держится долее; соответствие наших нарастающих требований с полнотою суггестивности создает привычку, уверенность в том, что то, а не другое, служит действительным выражением наших вкусов, наших поэтических вожделений, и мы называем эти сюжеты и образы поэтическими. Метафизик ответит на это историко-сравнительное определение отвлеченным понятием прекрасного и даже постарается обобщить его, сравнив с впечатлением, которое мы выносим из других искусств. И он убедит нас, если и для них он поставит те же вопросы устойчивости и суггестивности, которые, определяют и нормы изящного, и их внутреннее обогащение на пути к той science des rythmes supérieurs[15], которые отличают наши вкусы от вкусов дикарей (Jean Lahor). Пока эта работа не сделана, правы будут те, которые постараются извлечь понятие специально поэтического не только из процессов его восприятия и воспроизведения, но и из изучения тех особых средств, которыми располагает поэзия и которые, накопляясь в истории, обязывают нас, указывая нормы личному символизму и импрессионизму. Процессов восприятия и воспроизведения, сказали мы, потому что то и другое существенно одно и то же, разница в интенсивности, производящей впечатление творчества. Все мы более или менее открыты суггестивности образов и впечатлений; поэт более чуток к их мелким оттенкам и сочетаниям, апперцепирует их полнее; так он дополняет, раскрывает нам нас самих, обновляя старые сюжеты нашим пониманием, обогащая новой интенсивностью знакомые слова и образы, увлекая нас на время в такое же единение с собою, в каком жил безличный поэт бессознательно-поэтической эпохи. Но мы слишком многое пережили врозь, наши требования суггестивности выросли и стали личнее, разнообразнее; моменты объединения наступают лишь с эпохами успокоенного, отложившегося в общем сознании жизненного синтеза. Если большие поэты становятся реже, мы тем самым ответили на один из вопросов, который ставили себе не раз: почему?
Сноски
1
лат. – ничья вещь.
2
Сл. Ten Brink, Ueber die Aufgabe der Litteraturgeschichte, Strassburg, 1890; Wetz, Ueber Litteraturgeschichte, Worms, 1891; Elster, Die Aufgaben der Litteraturgeschichte, Leipzig 1894; Betz, Essai de bibliographie des questions de Littérature comparé (Rev. de philol. franc, et de littérature, X, 4; XI, 1, 2); Elster, Principien der Litfceraturwissenschaft, I-er B., Halle, Niemeyer; Texte, L'histoire comparée des littératures, въ Revue de philologie franèaise & de littérature, X, 4. Biré, Enquéte sur l'évolution littéraire, 1891, Charpentier. Kod, De la littérature comparée, Genève, 1886. Ernst Grosse…(?) Brunetière, La doctrine évolutive et l'histoire de la littérature, Revue des deux Mondes, 1898, 15 Février, стр. 874 след.; H. C. Muller, L'état scientifique de la littérature comparée (Revue internationale de l'enseignement, 1898, № 35?). Elster, Weltlit-teratur und Litteraturvergleichung, въ Archiv f. d. Studium Weueren Sprachen, CVII B. (W. S. VII B.) Heft 1–2 (1901) стр. 3 след.



