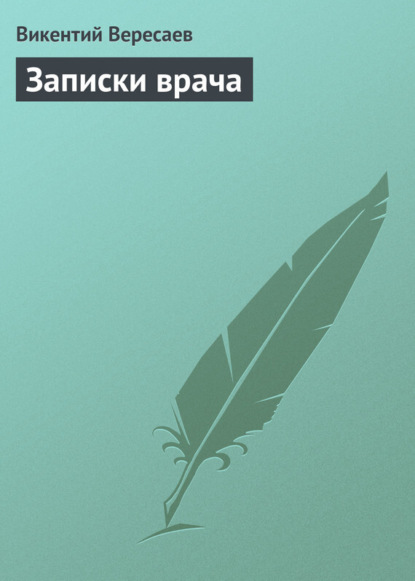 Полная версия
Полная версияЗаписки врача
Что касается, во-вторых, «опытов на здоровых людях вообще», то и здесь, по г. Хейсину, я стою на точке зрения сентиментальной гуманности. Между тем, как мы уже знаем, «может ли прогресс в любой области развиваться без жестокости?». Кроме того, «при обсуждении вопроса об экспериментах мы не должны забывать психологию людей, ищущих истину… Что делать такому человеку? Он не может себя, допустим, сделать объектом. Он убеждает других, или, наконец, он разрешает себе перейти границу дозволенного. Кто дозволяет? Какое право сильнее – право ли своего глубокого, могучего побуждения или формальное право?» (стр. 35–36). На этом основании г. Хейсин оправдывает все опыты, которые способствуют прогрессу медицины. «Из всей вересаевской мартирологии, – заключает он, – остается еще небольшая группа прививок, сделанных без всякого оправдания (!). Такие опыты – это симптомы современного разврата мысли, и, конечно, к ним не может быть двойного отношения» (стр. 36).
Ну, спасибо и на этом! Делать над своими больными опыты «без всякого оправдания» (т. е. для собственного удовольствия) врачам все-таки недозволительно.
До сих пор, как видим, взгляды г. Хейсина чрезвычайно стройны и последовательны. Вот больная профессора Бортоло, с воткнутыми в мозг иголками электродов, бьющаяся в конвульсиях от пробегающего через ее мозг электрического тока, – «не знаю, какая польза обществу заступаться за нее: ведь едва ли она чем-нибудь отличается от животного!» Вот 18-летняя девушка – Берта Б., которой профессор Бэреншпрунг с успехом привил сифилис, – «при обсуждении общих вопросов нельзя брать критерием истины обывательскую гуманную точку зрения; чувство жалости не может служить решающим моментом»… Прогресс, прогресс, – вот о чем забывает «обыватель», испытывая «жалостливое участие ко всем неприятностям, болям, страданиям каждого отдельного лица».
Но есть в моей «сентиментальной мартирологии» еще ряд опытов, против которых вооружается и г. Хейсин; именно, он самым категорическим образом высказывается против опытов на арестантах и проститутках. «Здесь нет никакого оправдания, – заявляет он, – и врачи, которые осмеливаются над ними совершать свои эксперименты только потому, что это люди в их глазах падшие, заслуживают полного осуждения» (стр. 35). Не правда ли, странное ограничение? Г. Хейсин сам говорит, что «объекты для прививок вербуются в невежественной и несостоятельной части общества, что ни один экспериментатор не станет делать прививок на состоятельных людях» (стр. 37). Почему же опыт, произведенный, напр., над невежественным рабочим, представляет лишь нарушение «формального права», а опыту над арестантом «нет никакого оправдания»? Почему г. Хейсин оправдывает проф. Гюббенета, привившего сифилис больному солдату, и с негодованием клеймит д-ра Фосса, привившего сифилис проститутке?
А это не единственная странность у г. Хейсина. Заведя дальше речь о регламентации проституции, он неожиданно заявляет, что врачебно-полицейский надзор над проституцией «не только не годен в санитарном и гигиеническом отношениях», но и представляет собою «безнравственный факт» (стр. 42), что в «нравственном отношении это – поразительное преступление общества и врачей над целым классом людей» (стр. 43). Позвольте, г. Хейсин, – вы как будто сбиваетесь на «обывательскую точку зрения», как будто начинаете заражаться «сентиментальною гуманностью»! Раз упомянутый надзор есть факт безнравственный, то он, разумеется, останется таковым и в том случае, если бы был даже крайне полезен в гигиеническом и санитарном отношении (последнее, как известно, энергично и доказывают противники аболиционизма). Если же правы не аболиционисты, а их противники, то, с точки зрения г. Хейсина, почему это насилие недопустимо? Во-первых, стыдливость есть предрассудок, а, как доказал г. Хейсин, «считаться с проявлением человеческой личности, с ее извращенными чувствами» есть непозволительная сентиментальность: «всякая борьба с предрассудками есть своего рода топтание живой человеческой личности». Во-вторых, указываемое насилие производится над проституткою, личность которой и без того топчется без меры, так что «едва ли она отличается чем-нибудь от животного»; раз польза от этого надзора велика, то «теоретическою гуманностью приходится пожертвовать. Не знаю, какая польза будет от того, что общество заступится за таких своих членов».
Но что же все это значит? Почему г. Хейсин, так свободно шагающий через трупы и самые элементарные права личности, вдруг останавливается перед проституткою и впадает в ту «обывательскую сентиментальность», которую только что так старательно высмеивал? Есть люди, сознанию которых говорят только яркие, кричащие краски, которые способны, напр., заметить топтание личности человека лишь в том случае, если этот человек стоит перед ними «с искаженным от страдания лицом», «давясь дикими проклятиями». К разряду таких людей, по-видимому, принадлежит и г. Хейсин. То бесконечное попрание личности, которое претерпевает проститутка, говорит и г. Хейсину, что у личности есть известный круг прав, на которые никто и ничто не смеют посягать, посягновению на которые «нет никаких оправданий». Но вот исчезли искаженные лица, смолкли дикие проклятия, – и г. Хейсин подбадривается, начинает говорить о неизбежной «жестокости» прогресса и презрительно кивать на «обывательскую точку зрения». И при чем тут эта, так полюбившаяся г-ну Хейсину, «обывательская точка зрения»? Право, подумаешь, именно чрезмерным уважением к личности грешит наш обыватель!
Читатель, может быть, скажет, что не стоило заниматься брошюрою г-на Хейсина, – слишком уж она непродуманна, легковесна и развязна. Я с этим не согласен, мне его брошюра представляется симптомом чрезвычайной важности, и вот почему.
Давно уже прошло то время, когда человек сам по себе являлся ничем, когда его роль в жизни была ролью клеточки в живом организме. В Древней Греции «божественные» Платоны могли мечтать, напр., о том, чтобы в идеальном государстве старшины его, как скотоводы, определяли, какие мужчины и женщины должны вступать между собою в брак и как часто они могут производить детей. В настоящее время об этом мечтают только Аракчеевы. Общее благо, прогресс, развитие науки, – мы согласны приносить им жертвы лишь в том случае, если эти жертвы являются свободным проявлением нашей собственной воли: единственное ограничение нашей личности мы признаем лишь в таких же, как наше, правах других личностей. Мы даже будущего всеобщего благополучия не можем принять иначе, как под условием свободного распоряжения своею личностью. Как говорит Бёрне: «Muss ich selig seig sein im Paradiese, dann will ich lieber in der Hölle leiden, – если я должен быть счастлив в раю, я предпочитаю по собственной воле страдать в аду». От дикой аракчеевщины г-на Хейсина на нас несет запахом затхлого застенка. Естественно, что при таком положении дел вопрос и о правах человека перед посягающею на эти права медицинскою наукою неизбежно становится коренным, центральным вопросом врачебной этики; вопрос о том, где выход из этого конфликта, не может и не должен падать до тех пор, пока выход не будет найден. И только в одном-единственном случае этот вопрос можно игнорировать, – если смотреть на него так, как смотрит г. Хейсин. А вопрос этот игнорирует большинство моих оппонентов.
Они будут против этого возражать, они скажут: «г. Хейсин редкий урод во врачебном сословии, и к нему возможно только одно совершенно определенное отношение». Но это будет только отвод или обман себя. Чем отличается от д-ра Хейсина хотя бы «Медицинское обозрение», оправдывающее самые возмутительные опыты над больными, и где во врачебной печати были протесты против этого? Что значит заявление одного из моих критиков, г. Медведева, что «частые восклицания Вересаева: «где же выход?» есть лишь риторическая фигура»?[94] Человеку настолько чужды и непонятны отмечаемые в книге конфликты, что он не способен увидеть в них ничего, кроме риторического приема. Что значат благодушные уверения другого моего критика, прив. – доцента В. В. Муравьева, что «в основе своей» книга моя является «оправданием современной медицины» и доказательством, что в ней все обстоит совершенно благополучно?[95] Что значат уклончивые ссылки г. Фармаковского на то, что «и в других профессиях» совершается то же самое, что во врачебной?
Есть старая, идущая из седых времен легенда об одном фантастическом животном – василиске. «Нет в природе существа злее, страшнее василиска, – говорит Плиний. – Одним взглядом своим убивает он людей и животных; его свист обращает в бегство даже ядовитых змей; от его дыхания сохнет трава и растрескиваются скалы. Но есть средство и против василиска. Стоит только показать ему зеркало, – и он погибает от отражения своего собственного взгляда». Я очень желал бы, чтоб брошюра господина Хейсина сыграла роль такого зеркала. Может быть, не один из моих критиков, взглянувши в это «зеркало», почувствует, что г. Хейсин только оформляет и откровенно высказывает то, что в полусознанном состоянии было и у него самого в душе; ему станет стыдно вместе с г. Хейсиным «лишь констатировать факты», он перестанет плакаться на взводимые мною на врачей «тяжкие обвинения» и предпочтет искать выхода из тех противоречий, которые возникают между интересами науки и неотъемлемыми правами человека.
Январь, 1903 г.Примечания
1
К «Запискам врача» и к статье «По поводу «Записок врача» подстрочные примечания, за исключением особо оговоренных, принадлежат В. Вересаеву. – Ред.
2
Уверяю тебя (лат.). – Ред.
3
«Дух медицины понять нетрудно: вы тщательно изучаете и большой и малый мир, чтобы в конце концов предоставить всему идти, как угодно богу».
4
Дословно: «мать-кормилица» (лат.); так называют высшее учебное заведение лица, его окончившие. – Ред.
5
Собеседование (лат.). – Ред.
6
Между нами (франц.). – Ред.
7
Beitrag zur Aetiologie des Harnröhrentrippers. Virteljahrschr. 1 für Dermatol. und Syphilis, 1883, p. 7.
8
Ibid., pp. 7–10.
9
E. Bumm. Der Mikroorganismus der gonorrhoischen Schimhauterkrankungen, 2 Ausg. Wiesbaden, 1887.
10
Prof. Al. Neisser. Ueber die Nothwendigkeit von Spezialkliniken für Haut und venerische Kranke. Klinisches Jahrbuch. Bd. II, p. 199.
11
Ibid., p. 4.
12
Предварительное сообщение Deutsche med. Wochenschrift, 1891, № 50 («Reinzüchtung des Gonococcus Neisser mittels des Plattenverfahrens»). Подробная статья в Archiv für Gynäkologie, Bd. 42, 1892 («Die ascendirende Gonorrhoe beim Weibe»).
13
Archiv, pp. 17, 28, 33–34, 37, 39.
14
Замечу, что этот же Вертгейм два раза впрыснул себе под кожу чистые разводки гонококков, – оба раза с положительным результатом.
15
По этому поводу совершенно справедливо замечает Ринекер: «Непонятно, почему Рикор с таким безусловным порицанием относится к прививкам здоровым людям; при массе его опытов не могло же ему остаться неизвестным, что и прививки больным не особенно редко опасны для них». В общей сложности Рикор совершил до семисот прививок гонореи, мягкой язвы и сифилиса.
16
W. Wallace. Lectures on cutaneous and venereal diseases. The Lancet for 1835–1836. Vol. II, p. 132.
17
Clinical lectures on venereal diseases. The Lancet for 1836–37. Vol. II, pp. 535, 536, 538, 620, 621.
18
Ibid., p. 539.
19
Clinical lectures on venereal diseases. The Lancet for 1836–37. Vol. II, p. 615.
20
De la contagion des accidents consecutifs de la syphilis. Annales des maladies de la peau et de la syphilis, publ. par A. Cazenave. Vol. IV. 1851–52, p. 44.
21
Waller. Die Contagiosität der secundären Syphilis. Vierteijahrschr für d. prakt. Heilkunde, Prag 1851. Bd. I (XXIX), pp. 124–126.
22
Waller. Die Contagiosität der secundären Syphilis. Vierteijahrschr für d. prakt. Heilkunde, Prag 1851. Bd. I (XXIX), pp. 126–128.
23
Auszüge aus den Protocollen des Vereines pfälzische Aerzte vom Jahre 1855. Aerzteliches Intelligenz-Blatt. 1856, № 35, pp. 425–426.
24
Проф. Х. фон-Гюббенет. Наблюдения и опыт в сифилисе. Военно-медиц. журнал, ч. 77, 1860, стр. 423–427.
25
Лекции общей терапии, ч. I, СПб., 1879, стр. 66.
26
Bulletin de l’Academie imperiale de médicine. Tome XXI, Paris, 1858–1859, pp. 888–890.
27
Nouveau fait d’inoculation d’accidents syphil. secondaires. Gaz. hebdomad, de méd. et de chirurgie, 1859, № 15. Гюено за свой опыт понес страшное наказание: лионский исправительный трибунал приговорил его… к ста франкам штрафа!
28
Mittheilungen aus der Klinik für syphil. Kranke. Annalen des Charité-Krankenhauses. Bd. IX, Helf I, 1860, pp. 167–168.
29
Речь Ролле на Лионском конгрессе 1864 г. Gaz. hebdomad, 1864, p. 706.
30
В. М. Тарновский. Курс венерических болезней. СПб., 1870, стр. 67.
31
Ibid., стр. 64.
32
Э. Лансеро. Учение о сифилисе, пер. под ред. проф. В. М. Тарновского. СПб., 1876, стр. 669. (Прим. редактора.)
33
Так! (лат.); употребляется в значении: обратить внимание!.. – Ред.
34
Дневник Казанского общества врачей. 1881, стр. 12.
35
См. Bäumler. Сифилис в Руков. к част. патол. и терапии Цимсена, т. III, ч. 1, Харьков, 1886, стр. 84.
36
Лансеро, стр. 614.
37
Ist die Syphilis durch Milch übertragbar? St.-Petersburger Med. Wochenschrift, 1876, № 23. В оригинале все три девушки названы полными фамилиями.
38
Fr. Th. v. Frerichs. Ueber den Diabetes. Berlin, 1884, p. 272.
39
Dr. Fehleisen. Die Aethiologie des Erysipels. Berlin, 1893, pp. 21–23.
40
О. с., р. 29. В оправдание своих опытов д-р Фелейзен ссылается на отмеченное некоторыми наблюдателями целебное действие рожи на злокачественные опухоли и волчанку. Но вот история одного из больных, которым Фелейзен привил рожу: «Двадцатилетний мужчина последние двенадцать лет страдает волчанкою и много раз перенес рожу». Какое основание имел Фелейзен ждать, что привитая им рожа исцелит больного, который уж много раз без всякой пользы для себя перенес рожу? Восьмилетней девочке с саркомою глаза, после удавшейся прививки, Фелейзен вторично привил рожу «с целью узнать, остается ли соответственный индивидуум после перенесенной рожи на некоторое время невосприимчив к роже».
41
E. Hahn. Ueber Transplantation der carcin, Haut. Berl. Klin. Woch. 1888, № 21.
42
Протоколы засед. Имп. Кавк. Мед. О-ва за 1878–1879 гг., № 8, стр. 167. Д-ра Финн и Артемович впрыснули кровь пятнисто-тифозных больных также и себе.
43
6 февраля 1862 г. Проф Пеллицари привил кровь сифилитической больной д-рам Борджиони, Рози и Пассильи, «которые мужественно обрекли себя на опыты, несмотря на отговаривания профессора». У д-ра Борджиони прививка удалась: через два месяца после прививки появились ночные головные боли, общая сыпь, опухание желез; десять дней спустя первичная язва на руке стала заживать; лишь тогда д-р Борджиони приступил к ртутному лечению (Gaz. hebdom., 1862, № 22, pp. 349–350).
44
Verhandlungen der phys. med. Gesellschaft in Würzburg. Bd. III. 1852, p. 391. Ст. проф. Ринекера.
45
Интересуясь различными вопросами сифилидологии, д-р Линдеман произвел над собою следующие опыты. В течение двух месяцев через каждые пять дней он прививал себе на руки мягкие язвы, через три месяца после этого он привил себе отделение сифилитика и получил сифилис. Через семнадцать дней после появления общей высыпи папул Линдеман снова стал прививать себе мягкие шанкры различной вредоносности. Комиссия, назначенная Парижской медицинской академией, исследовала д-ра Линдемаиа, и вот как описывает она его состояние устами своего докладчика Бэгена: «Обе руки (от плеч до ладоней) покрыты язвами; многие язвы слились: вокруг них острое и болезненное воспаление; нагноение очень обильно; дно большинства язв сероватого цвета; в общности все эти повреждения, говоря языком хирургии, имеют очень дурной вид. По всему телу – обильная высыпь сифилитических папул. – Д-р Л. исполнен мужества и доверия и выразил намерение прибегнуть, наконец, к правильному лечению своей болезни, ставшей уже застарелою и серьезною» (Bulletin de l’Academie Nation de médecine. Tome XVII, Paris, 1851–1852, pp. 879–885).
46
Движение артерий по данным, добытым путем живосечений (лат.). – Ред.
47
Движение сердца и клапанов по данным, добытым путем живосечений (лат.). – Ред.
48
См.: Exercitatio anatomica de motus cordis et sanguinis in animalibus. Auctore Gulielmo Harweo. Lugduni Batavorum. 1737.
49
«Каковы практические результаты вивисекции? – спрашивает, напр., д-р Стефанс Смис. – Они очень велики! Так, один американский врач сбрил у нескольких животных шерсть и выставил их на мороз. Животные простудились. Из этого мы заключаем, что зимою следует носить теплую одежду. Лягушки были посажены в кипящую воду; они старались выпрыгнуть, ясно выказывая боль. Отсюда следует, что нужно избегать купаний в кипящей воде. Но этим, сколько я мог узнать, и исчерпываются практические результаты вивисекции» (Vivisection, An independent medical view. 1899, p. 9). Агитаторы-неврачи доказывают ненужность вивисекций другим путем. «Вивисекция, – заявляет мистрисс Мона Кэрд, – есть главный враг науки, которая всегда учила, что законы природы гармоничны и не терпят противоречий; но если эти законы не терпят противоречий, то как возможно, чтоб то, что в нравственном отношении несправедливо, было в научном отношении справедливо, чтоб то, что жестоко и неправедно, могло вести к миру и здоровью?» (The sanctuary of mercy. 1899, p. 6). И это говорится в стране Дарвина!.. Иногда на место природы подставляется бог. «Я думаю, – говорит мисс Кобб, – что великий устроитель всего сущего есть справедливый, святой, милосердный бог; и совершенно немыслимо, чтоб такой бог мог создать свой мир таким образом, чтоб человек был принужден искать средств против своих болезней путем причинения мук низшим животным. Мысль, что таково божие определение, по-моему, богохульство» (Vivisection explained. 1898, p. 6).
50
…Я не в силах больше выносить, как люди ежедневно, ежечасно мучают меня, как они требуют от меня невозможного! Из того, что я немного глубже других проник в сокровеннейшую суть природы, они заключают, что я, подобно богам, способен чудом избавлять от страданий, давать счастье, а я – я такой же человек, как и другие. Ах, если бы вы знали, как все волнуется и кипит во мне и как сердце замедляет свои удары, когда я вместо спасения едва могу в неуверенных словах предложить погибшим утешение… Что же будет со мною? Со мною, окруженным всеобщим удивлением, беспомощным человеком?
51
Человек как разумное существо (лат.). – Ред.
52
«Там внизу» (франц.). – Ред.
53
«Неясные силуэты» (франц.). – Ред.
54
На «классической вальпургиевой ночи» Мефистофель чувствует себя совершенно чужим. «Почти все голы, – недовольно ворчит он, – только кое-где видны одежды… В душе, конечно, и мы не прочь от бесстыдства, но античное я нахожу чересчур живым…» В паралипоменах к «Фаусту» Мефистофель выражается еще откровеннее:
Was hat man an den nackten Heiden?Ich liebe mir was auszukleiden,Wenn man doch einmal lieben soll*.Тонкий сладострастник Мопассан с особенною любовью останавливается обыкновенно именно на процессах раздевания.
* Что проку в голом дикаре? Когда мне приходится любить, я предпочитаю лишь кое-что снимать с себя (нем.). – Ред.
55
По жалобе отца тело ребенка было вырыто из могилы и вскрыто в присутствии следователя и четырех экспертов; оказалось, что ребенок умер от задушения дифтеритными пленками, а операция была произведена безукоризненно.
56
«Лекарь поневоле» (франц.) – Ред.
57
«Мнимый больной» (франц.). – Ред.
58
«То, к чему мы стремимся, уже потому необычайно трудно, что мы работаем для человечества над самым трудным материалом, именно – над человеком».
59
Еженедельник «Практической медицины», 1901, № 17, стр. 299.
60
Медицинское обозрение, 1902, № 2. Рец. Г-на Алелекова.
61
Медицинское обозрение, i. с.
62
Проф. Н. А. Вельяминов в речи на годовом собрании петербургского Медико-хирургического общества 30-го ноября 1901 г.
63
Среди этой ругательной литературы первое место по справедливости должно быть отведено своеобразной работе московского профессора Льва Мороховца: «Записки врача В. Вересаева в свете профессиональной критики» (Труды кафедры истории и энциклопедии медицины Императорского Московского Университета, т. I, вып. 2, М., 1903). По тону и по приемам полемики книга представляет собою нечто прямо невероятное: самый бесшабашный фельетон уличной газеты может служить образцом корректности и добросовестности по сравнению с этим «трудом». Характерно, что на книге стоит пометка: «Печатается по определению медицинского факультета Московского университета».
64
Mémoires d’un médecin, Paris, 1902, pp. V–VI. – Кстати: в том же предисловии г. Вызева сообщает, что «Записки врача» «sont publiés sous un pseudonyme par un des plus savants médecins de St. Petersburg»*. Для чего понадобилась г-ну Вызеве эта выдумка?
65
В этом отношении особенно характерна курьезная брошюра г-на Г. Медведева: «Врач-художник. Ответ на книгу Вересаева Записки врача», СПб., 1903.
* «были опубликованы под псевдонимом одним из самых ученых медиков С.-Петербурга» (франц.). – Ред.
66
Как можете вы этим огорчаться? Разве не довольно для человека, если он добросовестно и точно будет применять к делу искусство, которому его обучили?
67
«За и против «Записок врача» Вересаева», СПб., 1902, стр. 12. – Г. Фармаковский отмечает у меня, между прочим, одну «фактическую неточность». «В больницах, – говорит он, – после смерти вскрываются только безродные больные; у тех же, которые имеют родственников, вскрытие производится лишь с разрешения этих последних». Смею уверить г. Фармаковского, что у нас много больниц, в которых совершенно не считают нужным ведаться с желанием родственников.
68
«Записка врача о Записках врача», «Русское слово», 1902, № 6.



