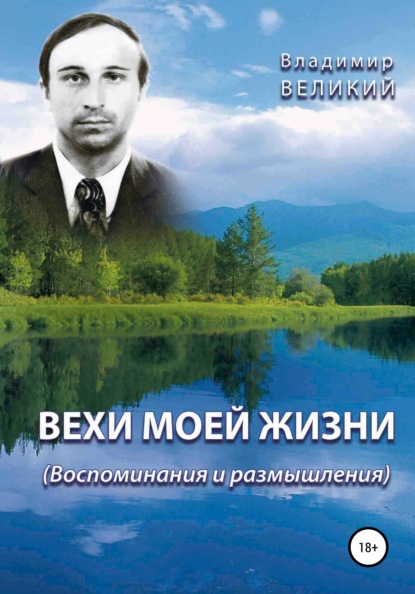 Полная версия
Полная версияВехи моей жизни
Поведение милиционера и его манера разговора меня мало удивила. В своей жизни я еще не такое видел. Через несколько мгновений я остыл. Прекрасно понимал, что в милиции подобные типы каким-либо авторитетом среди простого люда не пользовались.
Недолго думая, я вытащил небольшой сверток «ценных бумаг», среди них были диплом о высшем образовании и диплом кандидата наук. Сержант криво усмехнулся и протянул руку, чтобы взять мои документы.
Моя реакция последовала молниеносно. Я резко отпрянул и неспеша положил документы во внутренний карман куртки и с недовольной физиономией очень четко произнес:
– Слушай сержант, да будет тебе известно, что я офицер Советской Армии. Это раз. И второе. Диплом кандидата наук мне присвоил ВАК при Совете Министров СССР…
Моя решительность привела наглеца в замешательство. Он вмиг покраснел и тут же подошел к женщине, которая стояла за стойкой. Они начали о чем-то перешептываться. Скорее всего, это была начальница. Неожиданно для меня милиционер через пару минут исчез в неизвестном направлении. Мне ничего не оставалось делать, как сделать пару шагов вперед. И я оказался в толпе ликующих пассажиров. Хотя не все ликовали, кое-кто со слезами на глазах покидал страну, которая многие годы была их родиной. Без всякого сомнения, это также были слезы обиды и разочарования. Мало кто ожидал, что и сибирская земля будет провожать немцев, как изменников или врагов демократической России.
Радость переселенцев оказалась преждевременной. Вместо самолета немецкой авиакомпании подали советский «ТУ-154». Едва летательный аппарат оторвался от земли, пассажиры с облегчением вздохнули. Наконец-то мучения закончились. К сожалению, не для всех. Позади меня сидела семейная пара, средних лет. Женщина то и дело причитала, какую оплошность она допустила, отдав свой диплом ветеринара во время проверки документов. Муж ее то и дело успокаивал. Он не сомневался, его жена на ферме больше работать не будет.
Во время полета стюардесса объявила, что самолет вскоре приземлится в аэропорту г. Пулково. Сногсшибательная новость сибиряков в прямом смысле шокировала. Их надежды на то, что больше не будет стресса, в один миг рухнули. Вместо немецкого города Ганновера их ждал снежный Санкт-Петербург. После посадки авиалайнера долго не подавали трап. На этом мучения не закончились. Автобуса для подвоза пассажиров вообще не оказалось. Пассажиры были вынуждены в здание аэровокзала идти пешком. На улице стоял сильный холод, зашкаливало за тридцать градусов. И вновь проблема. Багаж подвезли только через час. И опять проблема. Оказалось, что аэровокзальный комплекс города включал в себя два терминала «Пулково–1» и «Пулково-2». Первый, куда мы прилетели, принимал внутренние рейсы, второй являлся международным терминалом. Короче, всем предстояло добираться до «международника», он находился в другом конце города. До стоявшего автобуса было метров триста, а то и больше. Прямо перед выходом из аэропорта кучковались люди в летной форме одежды. Перед ними стояли две большие тележки. Едва пассажиры выходили с вещами из здания, они наперебой предлагали свои услуги. Кое-кто из переселенцев был вынужден прибегать к сервису. Такса была космической. Каждый баул обходился в тысячу рублей. Капитализм просоветского типа действовал вовсю и на родине социалистической революции. Только утром следующего дня мы оказались в салоне самолета немецкой авиакомпании. До этого была очередная проверка багажа и документов. И вновь оплата за перевес багажа. И вновь слезы, нервы…
Ганновер встретил сибиряков солнечной погодой и очередной проверкой документов и багажа. Проверяли основательно и скрупулезно. В контроле участвовали не только люди, но и служебные собаки. После проверки на «вшивость» я на законных основаниях вступил на немецкую землю. Состояние мое было небогатое. И все оно было в моих руках. В одной – сумка с рукописями очередной книги, в другой – чемодан с семейными пожитками. В кармане – ни гроша. С этим «капиталом» я начинал свою жизнь в Германии, за бугром.
В день приезда на историческую родину предков моей жены в стране каких-либо политических событий не произошло. Исключением была лишь природа. Над Шварцвальдом (Schwarzwald) земли Баден-Вюртемберг, где я окажусь через пару недель, пронесся мощный ураган «Лотар» (Lothar) со скоростью более 200 км в час. Он разрушил и опустошил более 20000 гектаров леса. В 1999 году в ФРГ на постоянное место жительства из бывшего СССР выехало 103599 человек.
До переселенческого лагеря Брамше мы добрались без происшествий. В пункте приема вновь проверили документы. Лишь после этого нам дали возможность передохнуть и устроиться. В этом плане особых проблем не было. В довольно просторных помещениях (некогда американские казармы) все было сделано для приема очередной группы переселенцев из бывшего Советского Союза. Утром прибывшим раздали анкеты, их необходимо было заполнить. Затем их вновь забрали. На следующий день меня и жену пригласили на собеседование.
Этот эпизод из очередной проверки на «вшивость» я запомнил на всю жизнь. В фойе сидело человек пятьдесят, не меньше. Очередь таяла довольно быстро. Где-то через час вызвали на собеседование мою жену. Потом стали вызывать других переселенцев. Нарушение «этикета» меня насторожило. До этого мужья и жены поднимались на второй этаж только вместе. К моему удивлению меня вызвали последним. В зале ожидания никого уже не было. Офицер, пригласивший меня, на пути следования почему-то улыбался и что-то мурлыкал себе под нос. Едва я переступил порог кабинета, тут же врубился. Причиной моей «задержки» стала офицерская служба в Советской Армии. Лысый мужчина, на котором был костюм черного цвета, достал небольшую папочку из стола и, внимательно посмотрев на меня, словно сквозь лупу, очень осторожно положил ее на стол. Затем стал задавать вопросы. Ответы мои не блистали красноречием, осведомленностью. Я в принципе отвечал одно и то же. Закончил Новосибирское военное училище. Служил в Сибири, в Грузии, на советской-китайской границе. Скорее всего, ответ не удовлетворил начальника. Он переправил меня в другой кабинет. За столом сидел молодой мужчина в военной форме. Опять те же вопросы и тот же ответ. И вновь очередной кабинет. На этот раз за столом было двое мужчин. Гражданский и офицер. Скорее всего, это была заключительная проверка. Однообразие вопросов и ответа в конце концов сделали свое дело. Я встал со стула, и внимательно посмотрев в глаза чиновников, сначала на ломаном немецком, затем на русском языке произнес:
– Я не бандит и не шпион… Я приехал в Германию жить и работать… Спасибо за внимание… Извините…
Сидевшие слегка улыбнулись и по очереди пожали мне руку. Я уже не сомневался, что передо мной сидели бывшие офицеры армии ГДР, которые неплохо знали русский язык. В этом я убедился через пару минут. Меня сопровождал до фойе знакомый уже мне офицер. На лестнице он еле слышно на чистом русском языке произнес: «Товарищ капитан, Вам надо жить очень тихо, на дне». Затем мы крепко пожали друг другу руки и разошлись. Проверка на мою «вшивость» длилась около часа. Жена уже думала, что на меня надели наручники и вновь отправили в родную Сибирь. Совету офицера я следовал всегда и везде на протяжении всей жизни в Германии…
За день до отъезда из Брамше меня и жену вновь пригласили в кабинет. Распределяли по землям. Нам определили землю Баден- Вюртемберг. Чиновница с польской фамилией тут же мне посоветовала, что надо взять фамилию жены. С русской фамилией будет очень трудно. Я с ее мнением согласился, но наследуемое семейное наименование моих предков оставил без изменения. Хотя прекрасно знал и неоднократно слышал, что с русской фамилией невозможно найти какую-либо хорошую работу, не говоря уже о чем-то другом. В этом я убеждался и убеждаюсь почти каждодневно. После Брамше нас направили в студенческий город Фрайбург, через день мы оказались в небольшом немецком городе Беблинген. В нем, согласно немецким законам, нам предстояло прожить не меньше трех лет. В противном случае, в социальной поддержке нам могли отказать. И вновь проверка документов. Мою трудовую книжку проверяли очень долго, отдали ее только через две недели, не фальшивая ли она была. На ее первой странице поставили штамп немецкого города Рейтлингена, что мне до сих пор непонятно почему.
Автор не намеревается описывать житейские перипетии, которые он перенес в начальный период своего пребывания на немецкой земле. Они для сотен тысяч немцев из бывшего Советского Союза во многом идентичны. Вместе с тем, у каждого из прибывших, были свои индивидуальные особенности. Были они и у меня. После шестимесячных курсов по изучению немецкого языка я стал настойчиво искать работу. Сначала ринулся на автогигант «Мерседес-Бенц», головной завод автомобилей всемирно известной марки. Он расположен в Зиндельфингене, неподалеку от Беблингена. Просился на любую работу. Не взяли. Причина – человек с высшим образованием, тем более, кандидат наук, должен работать по своей специальности. Вскоре мне предоставили возможность учиться на курсах Немецкой академии сотрудников (DAA, Deutsche Angestellten-Akademie). Я не отказался. В этом заведении мне удалось несколько «подтянуть» немецкий язык, впервые в своей жизни я по-настоящему «пощупал» и компьютеры.
После окончания курсов меня направили на практику. Здесь мне очень сильно повезло. Направили в Штутгартский университет, в исторический институт. К этому времени я получил из Бонна подтверждение моей ученой степени, стал «доктором». Относительно
короткое пребывание в вузе запомнилось мне на всю жизнь. Это было не только возвращение в лоно исторический науки, но и была возможность сравнить советскую систему обучения и западную. И не только это. Меня подкупало искренность отношений преподавателей и студентов к моей персоне. Я был первым из советских, российских ученых, кто побывал в стенах этого вуза. Кое-кто из кафедр общественных наук хотел на моем месте видеть профессора из Москвы, но коллеги не впадали в отчаяние, когда видели перед собою ученого из Сибири.
Три месяца пролетели, словно один миг. Я не терял время даром. Несмотря на имеющиеся проблемы с немецким языком, делал все возможное для его совершенствования. Беседовал с преподавателями, со студентами, вникал в историю немецкого государства. Кое-что в институте, в частности, в библиотеке, меня приятно удивило. Почти на самом видном месте на одном из книжных стеллажей стояло полное собрание сочинений В. И. Ленина на немецком языке. Были здесь и несколько книг на русском языке.
Поднимало мой жизненный тонус и то, что многие посетители интересовались историей моей исторической родины, спрашивали о текущих событиях. Я охотно отвечал на их вопросы. Происходящее очень многое напоминало о советском вузе, в котором я работал. Были и особенности. У студентов не было общего учебника по истории Германии, который бы рекомендовало Министерство образования, не говоря уже о ЦК КПСС. Лекции читались, как правило, профессорами, исходя из их личной методики. Студенты сдавали зачеты или экзамены только тем, кто читал им лекции. Какого-либо конкретного плана сдачи экзаменов не было, все определялось договоренностью между преподавателем и студентом. В определенной мере такое
«панибратство» мне нравилось, даже подкупало.
После окончания практики я получил характеристику, содержание которой меня приятно удивило. Я никогда не ожидал, что мое кратковременное пребывание (на очень скромной должности дежурного библиотекаря) оставит заметный след в истории немецкого вуза. Автор приводит несколько выдержек из этой характеристики, которая подписана директором института, профессором: «Доктор Яшин, как ученый, историк в библиотечном деле, исторической науке прекрасно разбирается. Несмотря на короткое пребывание, он оказал ценные услуги историческому институту. Особенно надо отметить, что господин доктор Яшин по собственной инициативе создал библиотечную систему, которую мы в такой форме до сих пор не имели. Подобная система дает возможность без проблем ориентироваться и использовать большой книжный фонд нашей исторической библиотеки. Этот указатель является идеальным дополнением наших каталогов. Мы очень сожалеем, что доктор Яшин по собственному желанию свою деятельность у нас окончил и желаем ему от всего сердца всего хорошего для его профессионального будущего».
Получив прекрасный аттестат своей работы, я невольно впал в раздумье. Мне очень льстило, что я после десятилетнего перерыва, когда «ушили» из технического института Днепропетровска, не растерял знания по общественно-политическим наукам. Позитивную роль в этом плане, без всякого сомнения, сыграла моя настойчивость, каждодневная подпитка всевозможной информацией. Моя начитанность порою удивляла преподавателей немецкого вуза. По любой теме, которую мы обсуждали, я имел неплохие знания. Маститые профессора слегка качали головой или улыбались, когда ученый из Сибири на ломаном немецком языке рассказывал биографию того или иного мирового политика или содержание тех или иных исторических событий. Бывало и другое. Иногда они даже попадали впросак от стажера, который задавал им каверзные вопросы. Были и у меня трудности, правда, иного плана. Я сначала не мог «копировать» фамилии преподавателей. Они были для меня не только труднопроизносимыми, но и довольно длинными. Выход я нашел в первый же день пребывания в институте. Взял записную книжечку, подошел к информационной доске, где были фотографии и фамилии профессорско-преподавательского состава, и очень аккуратно их списал. Через неделю я мог уже без запинки называть того или иного коллегу по фамилии. Несмотря на это, мой акцент меня довольно часто подводил…
Если продолжать рассуждения об исторической науке, то скажу следующее. Ученые Запада, в частности, ФРГ куда более объективно относятся к анализу исторических событий. Они в меньшей степени подвержены «звона злата», чем историки бывшего Советского Союза, нынешней России. У немцев нет также такой ненависти и злобы к своим предкам, несмотря на то что они в свое время делали ошибки. Притом очень серьезные. Минувшее есть часть истории. Не надо плевать в прошлое своих дедов и отцов. Надо просто его знать и понимать.
Импонировало мне и поведение, простота общения профессорско-преподавательского состава немецкого университета. Они куда ближе к «народу», к студентам, чем советские, российские наставники. Это характерно не только для мира ученых. Не исключением этому и г. Штутгарт, где я живу. Среди прохожих я нередко вижу мэра города, идущего без всякой охраны или министра, едущего на велосипеде. Подобные чиновники «попадаются» в метро или в автобусе. И все это считается в порядке вещей, это стало нормой человеческих отношений. Несмотря на высокие должности и наличие денег в кошельке, немецкие чиновники в основе своей были и остаются более доступными, чем те, с которыми я встречался на бескрайних просторах Советского Союза или ныне суверенных государств. В этом я убедился уже в самом начале пребывания в Днепропетровске, когда несколько месяцев работал внештатным работником в одном из райкомов партии. Хотя были и исключения.
До сих пор мне воспоминается визит Л. И. Брежнева в этот город на Днепре. Во время его проезда по центральным улицам собрались тысячи зевак. Вышли, как говорят, не только поглазеть, но и вышли по зову сердца. Никаких разнарядок не было, не было и платных демонстрантов. Да и эскорт у лидера великой державы был очень скромный. Впереди ехала милицейская машина с мигалками, такая же машина были и сзади. Сирен, мотоциклистов и прочей челяди не было. Не перекрывали и дороги…
И вновь об институте. Где-то за неделю до окончания моей стажировки стали ходить слухи о моем трудоустройстве. О том, что в библиотеке университета есть вакантная должность заведующего отделом иностранной литературы я уже знал. Это меня очень радовало и одновременно порождало неопределенность. Исходя из своего жизненного опыта и отношения политических партий к переселенцам из бывшего Советского Союза я все больше и больше приходил к однозначному выводу. Оставаться в историческом институте мне не следует. По ряду причин. Первая, она же главная – мое прошлое, мой жизненный путь, моя автобиография. Мало того. «Шизофреник», к тому же еще «руссак» не мог претендовать даже на маломальскую приличную работу. И второе. Я не забыл наказ офицера из переселенческого лагеря в Брамше. Сотни тысяч жителей бывшей ГДР прошли через сито «благонадежности». Мне же все это еще предстояло пройти. Оглядываясь на прошлое, я прихожу к выводу. Мое решение покинуть серьезное заведение было правильным. И в том, что я многие годы проработал в системе охраны и безопасности, я нисколько не сожалею. Конечно, подобная работа не прибавляла мне радости, как и не поднимала мой жизненный тонус. Не говоря уже о многом другом. Еще проще. Выполнял я свои функции по принуждению…
Несколько слов о городе Штутгарте, столице земли Баден-Вюртемберг. С первого же дня я стал интересоваться его историей. Оказалось, что он имеет много общего с Россией. В 1912 году, например, в этом городе была похоронена Вера Константиновна (герцогиня Вюртембергская), родилась в 1854 году в Санкт-Петербурге. Ее муж Вильгем-Евгений Вюртембергский. Она младшая дочь Великого Князя Константина Николаевича и Великой Княжны Александры Иосифовны. Ее отец, второй сын императора Николая I. Вера Константиновна принимала активное участие в строительстве православной церкви Святого Николая. Или еще пример. Великая Княгиня Ольга Николаевна (1822–1892 гг.), вторая дочь российского императора Николая I, в 1846 году вышла замуж за вюртембергского наследного принца, впоследствии (с 1864 г.) короля Карла I (1823–1891 гг.). Ольга Николаевна организовывала в Штутгарте различные благотворительные общества. До сих пор в городе существует «Больница Ольги» (Olga-Hospital), «Приют королевы Ольги» (Knigin-Olga-Stift), а одна из городских магистралей называется в ее честь «Ольгаштрассе» (Olgastrasse). Есть также станция метро «Ольгаекк» (Olgaeck).
Штутгарт – также малая родина многих людей, имена которых известны всему миру. В 1770 году в семье чиновника родился Георг Гегель, представитель немецкой классической философии. В 1804 году родился Людвиг Фейербах, философ-материалист и атеист. Один из ближайших лицейских друзей А. С. Пушкина Ф. Ф. Матюшкин также родился в Штутгарте… В начале ХХ века Штутгарт был одним из центров вольной русской печати за рубежом. В 1901–1902 гг. редакцией газеты «Искра» здесь издавался марксистский научно-популярный журнал «Заря», в котором печатались статьи В. И. Ленина и Г. В. Плеханова. В марте 1902 года здесь была издана книга Ленина «Что делать?». В августе 1907 года в Штутгарте состоялся VI съезд Интернационала. В числе делегатов съезда были Владимир Ленин, Роза Люксембург, Клара Цеткин…
Несмотря на нехватку времени, я делал все возможное, чтобы как можно быстрее и ближе познакомиться с культурой Запада, особенностями и обычаями людей. Благо в Германии для этого были не только условия, но и возможности. Я побывал во многих странах Европы, в частности, в Австрии, Швейцарии, Франции, Испании, Люксембурге, Лихтенштейне, Польше. Посетил многие исторические достопримечательности, в том числе и самый знаменитый музей мира – Лувр. Побывал я и в замке Шенбрунн (Schönbrunn) – основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко. Первые упоминания о сооружении на месте нынешнего замка датируются XIV столетием. Резиденция Габсбургов насчитывает 1441 комнату всевозможных размеров. Из них 190 помещений, которые не принадлежат музею, сдаются в аренду частным лицам. Для посещения открыты лишь сорок комнат. Замок Шенбрунн считается не только одной из главных достопримечательностей Вены, но и одним из самых знаменитых архитектурных памятников Австрии. В 1996 году замок Шенбрунн пополнил список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Громадное сооружение по своей архитектуре мне понравилось.

У статуи Ганимеда, на берегу Цюрихского озера (Швейцария)
Чем больше я рассматривал исторический памятник, тем больше приходил к довольно грустному выводу. Постройки, парки и т. п. строились только для богатых. Вся эта красота создавалась мозолистыми руками простого люда, его потом и даже кровью. Я не стремился запоминать фамилии обитателей замка, которые жили лишь для себя. Кое-кто из них пытался повернуть вспять солнце, не получилось. Они сами были солнцем на этой земле, творили все, что им заблагорассудится. В моей голове надолго остались несколько фактов из жизни императоров. Один из нуворишей, проживавший в замке, был страстным охотником. За всю жизнь он убил около 80 тысяч всевозможных зверей. Он стрелял не только по зверям, но и по кустам или другим насаждениям, считал, что и там для него специально посадили какого-нибудь зайчонка. Стрелял не глядя, лишь бы стрелять. Иногда от его выстрелов погибали и люди, которые для сановника были маленькими букашками. Простым смертным охотиться запрещали. Нарушителю отрубали руку или голову…
И еще один пример. У обитателей замка порядочность, как таковая, вообще отсутствовала. Один из правителей был очень падким на женщин, хотя его жена каждый год поставляла ему по младенцу. Влачился он за всеми, что называлось женщиной. Не брезговал ни служанками, ни родственницами. За всю жизнь он «наклепал» около семидесяти детей, но лишь четырнадцать признал своими. Большинство из них рождались дебилами или уродами. Сам ловелас был далеко не красавец. Я стоял у большого портрета в позолоченной рамке и слегка качал головой. Мужчина с невзрачными глазами и с большим горбатым носом симпатий у меня не вызывал. Его нижняя челюсть была страшно выдвинута вперед. Капли воды от любого дождя, по словам гида, без всяких проблем попадали ему в рот…
Не забывал я Россию, Украину и Беларусь. Поездка в г. Минск, в столицу независимого государства оставила у меня неизгладимое впечатление. В Минске, когда он еще был столицей союзной республики могучего СССР, я был лет сорок назад. Сегодняшний город подкупил туриста из Германии не только размахами своего строительства, но и чистотой. Нравились мне и автострады, которые по качеству не уступали немецким автобанам. За относительно короткое время пребывания я удосужился побывать и в национальной библиотеке Беларуси, главной универсальной научной библиотеке страны. Библиотеке я подарил два своих романа.
И не только этим запомнился мне г. Минск. Мне удалось побывать в посольстве республики Куба в Беларуси, находилось оно на улице Краснозвездная 13. К моему удивлению, сотрудники посольства, в том числе и сам посол, приняли меня очень радушно. Завязалась непринужденная беседа. Советник посла, симпатичная молодая женщина, которая практически без акцента говорила на русском языке, сразу же пригласила меня на вечер кубино-белорусской дружбы. Он должен был состояться через пару дней. Я сослался на занятость и вежливо отказался. Визит в посольство превзошел все мои ожидания. Лидеру кубинской революции Фиделю Кастро Рус и народу острова Свободы я подарил два экземпляра своей книги «Человек без маски», сделав соответствующие автографы.
Посетил я и немецкий город Бернбург, где начинал делать первые шаги своей офицерской службы. Произошло это в 2003 году, то есть через тридцать лет! Окунуться в жизнь небольшого городка и той страны, которую считал когда-то источником изобилия, да и прообразом коммунистического завтра, мне хотелось уже давно. Не удавалось, причиной этому была работа или бытовые проблемы. Много свободного времени занимал и литературный труд. За день до отъезда я в кассе железнодорожного вокзала купил льготный билет, который действовал в субботу и воскресенье. Взял и план-расписание прибытия и отправления поездов на те станции, где мне предстояло пересаживаться. Билет на прямой поезд, который бы доставил меня прямо и скоро до некогда «социалистического» рая, я не купил. Для меня он был дорогой. Вместо трех часов на скором поезде мне предстояло ехать девять часов на «попутных» поездах и с шестью пересадками.
Месяц август изобиловал довольно теплой погодой и поэтому в вагоне было очень жарко. Поезд чем-то напоминал советские электрички, которые в выходные дни доставляли пассажиров от областного центра в периферию и обратно. Как и там, и здесь, в эти дни вагоны становились «резиновыми». Машинист то и дело по селектору просил пассажиров не прикасаться к дверям, дабы они во время движения не выпали из вагона. Людей в эту субботу почему-то было очень много. Они были разного возраста и разных национальностей. Я уже без «промаха» определял среди них русских, турок, югославов, китайцев, африканцев. Немецкой речи, как таковой, я не слышал.
Во время движения в вагоне «забили» туалет. Откровенно говоря, подобного происшествия, я не ожидал. Откинувшись на спинку сиденья, я с некоторым равнодушием наблюдал за тем, как кое-кто из «разношерстных» подходил к туалету и дергал за ручку. Многие из них, еще не освоив премудростей немецкой туалетной техники, неоднократно пытались попасть в «приятное заведение». Кое-то стучал кулаками или пинал ногами в дверь. Были и смекалистые. Подняв голову кверху, и увидев красную лампочку, они что-бурчали себе под нос и уходили прочь.



