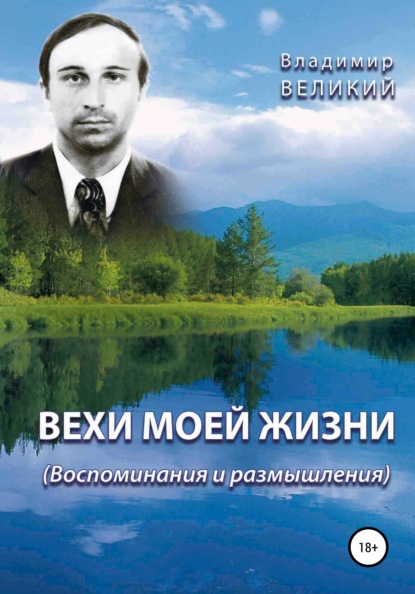 Полная версия
Полная версияВехи моей жизни
Свой первый рабочий день я запомнил на всю жизнь. Не столько ранним подъемом в четыре часа утра, сколько непогодой. Ночью был большой снегопад, который еще начался вечером. Из дома до места работы добирался около часа, хотя езды до нее было минут пятнадцать-двадцать. Причиной этому были снежные заторы, которые образовались на дорогах города. Моя борьба со снегом в этот день началась в шесть часов утра и продолжалась почти до темноты. Честно говоря, физическим трудом я в жизни мало занимался. Будь – офицерская служба или работа в институте. Вечером пришел домой и тут же упал на диван. От непривычки болели руки и ноги, ныла спина. Было и еще специфическое явление, которое я уже многие годы не испытывал. Я был весь мокрый. Включая фуфайку, свитер, рубашку и нательное белье. Через пару дней я окончательно втянулся в работу. Привык и к сибирским морозам, которые довольно часто зашкаливали за тридцать градусов, а то и более. Неплохо переносил и жару, когда несколько часов махал метлой или чистил подъезды и подходы к парадному крыльцу престижной гостиницы.
Середина-конец 90-х годов прошлого столетия для жителей бывшего Советского Союза были довольно тяжелыми годами. Не исключением этому был и город на Иртыше. Многие промышленные предприятия были закрыты. Тысячи людей оказались без работы. Трагическим результатом псевдоперестройки стала несвоевременная выдача заработной платы. Довольно часто вместо нее выдавали предметы домашнего обихода или другие товары. Моя зарплата как дворника была не ахти большой. Радовало лишь то, что ее выдавали без задержек. Если были, то очень редко.
Специфическое уединение, что отличает работу любого дворника, меня в определенной мере даже радовало. Находясь наедине с собою, я довольно часто прибегал к анализу событий, дня минувшего и дня сегодняшнего. Итоги размышлений были далеко неутешительными. Просоветская капитализация экономики, как и в прошлом бюрократическая перестройка, вполне закономерно привела к углублению кризиса в обществе, обострила социальные противоречиями между классами, между людьми. Современное положение России, в первую очередь, основной массы населения, сходно с положением в бедных странах Африки и Латинской Америки. Нищета и социальное неравенство – прямое следствие государственной политики и идеологических постулатов, исповедуемых властью. Создавшаяся ситуация в России вполне удовлетворяла интересы имущих, новых русских. На фоне жирующей челяди меня удивляли простые люди, которые совсем недавно ушли от тоталитаризма, но так и не пришли к подлинной демократии. Их политическая пассивность, а также терпение и равнодушие к фальсификации прошлого некогда великой державы, меня очень бесило. Я не сомневался, что подобных аналогов в мировой истории не было…
С этими мыслями я все больше и больше приходил к однозначному выводу. И на исторической родине мне необходимо занимать активную жизненную позицию, защищать идеалы своих предков. И я вновь пошел в политику, в местную. Познакомился со многими лидерами партий и течений, которые существовали в регионе. Мой «вояж» по политическому небосклону Омского Прииртышья был скоротечный, но очень полезный. Я уже нисколько не сомневался, что чиновники администраций разных уровней, как и руководители общественных организаций, лишь на словах «болели» за интересы народа. На деле же они исполняли указания своего партийного божка или нового русского, который спонсировал их работу. Шумели они ради одного – прийти к бесплатной кормушке. Остальное им было по одному месту.
Через пару месяцев я переключился на журналистику. Сотрудничал практически со всеми газетами, которые имелись в г. Омске. В большую политику не входил. Писал на исторические темы, придерживался правды, принципов историзма. Довольно часто был и на заседаниях областной или городской администрации, других общественно-политических мероприятиях. Кое-кто из газет мой труд оплачивал, были и такие, кто просто-напросто меня обманывал. Не платили. Мои заметки или статьи выходили, как правило, под псевдонимами: Драгункин, Владимиров.
Были организации, которые видели во мне надежного партнера и порядочного человека, и прилагали определенные усилия по привлечению меня в сферу реализации их интересов. Мало того, одна из ведущих партий Омской области просила меня, чтобы я выставил свою кандидатуру на пост главы администрации Называевского района. Не скрываю, это мне льстило. Я имел все основания выиграть эту борьбу. Однако после короткого раздумья я отказался. Причиной этому было «гнилое» окружение. И я оказался прав. Время показало истинное лицо «народников». В этом я неоднократно убеждался, когда жил в России, и сейчас, когда живу за границей.
В ожидании вызова в Германию я продолжал заниматься научной работой. Занимался по личной инициативе. Поводом для написания книги «С днем рождения, родной край: к истокам основания поселений Омского Прииртышья» послужила моя поездка в Драгунку, где я родился. Мои собеседования с старожилами показали, что большинство из них имеют смутное понятие об истоках образования деревни. Не знал этого и я, человек с высшим образованием. Появление специального научного труда, без всякого сомнения, дало толчок к изучению истории деревень, малой родины. Более точно определить даты их рождения. Затем появилась очередная книга «Омское Прииртышье в истории одного дня: хроника событий (ХVI–ХХ вв.). Эти две мои работы, написанные в соавторстве, получили высокую оценку общественности Омской области.
Достаточно привести выдержку из заметки газеты «Омская правда»: «Зигзаг творчества. Редакционная». «Двести своих книг подарил библиотекам Омской области 56-летний писатель Владимир Великий. Под псевдонимом «Владимир Великий» скрывается известный в прошлом омский краевед, а ныне гражданин Германии Владимир Яшин. Человек этот поистине героической судьбы. Днем он работал гостиничным дворником, а вечером шел в библиотеку, чтобы перелистывать пожелтевшие от времени книжные и газетные страницы. Два справочника по хронологии Омского Прииртышья, изданные Яшиным в соавторстве с историком Машкариным, считаются лучшими трудами из этой категории» (См.: Омская правда. – 2006. – 8 ноября. – с. 3.).
Неплохо отзывался о моих работах и ученый мир. Прочитав мою книгу об истоках (датировке) образования населенных пунктов Омской области, один из корифеев исторической науки Сибирского региона профессор, доктор исторических наук Колесников А. Д. сказал мне следующее: «Молодой человек, ежели бы я писал эту книгу, то, без всякого сомнения, мне понадобилось куда больше времени… Вы же ее написали за полгода…». Слегка покачав головой, он добавил: «Вы, поистине титан…». Я улыбнулся и произнес: «Спасибо за лестную оценку, Александр Дмитриевич…». Многие поколения ученых обязаны профессору Колесникову также и за летопись истории сибирских деревень. Выразил искреннюю благодарность доктору исторических наук, профессору Александру Дмитриевичу Колесникову и я, при написании книги об истоках основания поселений Омского Прииртышья, за предоставленную возможность использовать материалы рукописи его книги «Омская область: Очерки по истории заселения» (Омск, 1965. – 362 с.). Импонировало мне и простота обращения маститого ученого с окружающими его людьми.
В то не столь далекое время мало кто знал, что значило для дворника одной из престижных гостиниц г. Омска написать два классических труда. График работы у меня в некоторые дни был очень напряженный. Восемь-девять часов отдавал гостинице, затем шел в библиотеку. Не исключением для меня были и семейные проблемы. Поздно вечером садился за письменный стол и обрабатывал материал. Компьютера, как такового, у меня не было, использовал старенькую пишущую машинку. Она довольно часто выходила из строя, то буква вылетала, то лента рвалась.
В связи с этим скажу следующее, что становление и развитие каждого из нас, как человека, как личности невозможно без библиотеки. Будь то в огромном городе или забытой Богом деревни. Библиотеки – специфические кладовые основного капитала человека, имя которому – книги. Они – основа ума, духа и культуры любого поколения. Они также и оружие. Без книг невозможно существование цивилизации. Для меня «материальной базой» для написания книг по истории Омского Прииртышья была Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина. Она в прямом смысле стала не только крупным книгохранилищем, но и признанным центром культуры и просвещения одного из крупных регионов России. Несмотря на мою настойчивость в поиске необходимых материалов, работники учреждения, все без исключения, будь то информационно- библиографический отдел, будь то отдел текущих периодических изданий или архив, проявляли терпение и тактичность. Я также с благодарностью принимал их советы и наставления. Дворник со степенью кандидата исторических наук за время работы в библиотеке «перелопатил» тысячи газет, журналов и книг! Я до сих пор поддерживаю тесные контакты с замечательным коллективом, в котором работают не только профессионалы, но и очень порядочные люди. За это им огромное спасибо!
И еще несколько слов о моих научных интересах на омской земле. В результате тесного сотрудничества с Омской областной организацией общества «Знание» России мною в 1998 году была издана брошюра «Территориальное общественное самоуправление: опыт, поиски, проблемы». Она стала логическим продолжением исследований по теме моей монографии «Организация свободного времени трудящихся». В этом же году вышла моя книга «Омское Прииртышье в истории одного дня». После открытия архивов партийных и советских органов, тема истории российских немцев также оказалась в центре моих научных интересов. В 1999 году вышла моя книжка «История российских немцев: хроника событий (ХVI–ХХ вв.). Мало того. Я задался целью собрать архивный материал по этой проблеме, а несколько позже издать книгу о немцах Омской области уже за границей, в Германии.
Во время подготовительной работы со мной произошел курьезный случай. При поиске материала я обратился в Омский государственный историко-краеведческий музей. Намеревался не только что-либо найти по теме омских немцев, но и поговорить с его директором, российским немцем. Я набрал номер телефона, и услышав женский голос, представился. Затем объяснил цель визита. Не успел еще толком высказаться, как в трубке раздались короткие гудки. Через пару минут я вновь позвонил. Узнав знакомый голос, женщина с явным пренебрежением бросила мне фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Мужчина, не морочьте мне голову, кандидат исторических наук не может работать дворником. Не мешайте мне …». И тут же положила трубку. На следующий день я вновь набрал уже знакомый мне номер телефона. И опять тот же женский голос. На этот раз я не стал представляться. Поинтересовался лишь о том, можно ли поговорить с директором музея. Женщина со злостью буркнула: «Он занят, больше не звоните…». На этом мое «хождение» в музей закончилось…
Нельзя не заметить, что почти все произведения автора в той или иной мере связаны с Сибирью, с его родным краем. Для писателя сибиряки были и остаются своеобразным эталоном человека, которому присущи, как положительные черты, так и недостатки. Без всякого сомнения, лейтмотивом всего творчества писателя, ученого могут стать его слова, которые он написал в одной из своих книг: «Сибирь сегодня – это не только основа российского могущества и дивный край необъятных просторов. Это также сообщество цивилизованных людей, имеющих достойную культуру и историю, что, несомненно, заслуживает уважения и памяти будущих потомков».
К моему удивлению, работа дворником в престижной гостинице г. Омска дала мне возможность не только для уединения, но и позволила увидеть, в лучшем случае, даже познакомиться с ее гостями. Среди них были, как правило, известные политики, экономисты, певцы, актеры, спортсмены. Нередко были и иностранцы. Откровенно говоря, никто из этих особ «зарубки» в моей голове или в душе не оставил.
Были и исключения. К ним я бы отнес встречу с бывшим президентом СССР, который баллотировался на пост президента Российской Федерации. Об этом я более подробно написал в своем романе «Исповедь изгоя». С позволения моих читателей и поклонников я воспроизведу в своей памяти небольшой отрезок того, что мне пришлось видеть и делать 24 апреля 1996 года, четверть века назад.
О том, что в гостиницу приезжает очень важная персона, я убедился рано утром. Меня вызвала директриса и дала уйму ценных указаний по наведению порядка. Работы было по горло, тем более, на дворе стояла весна. Через некоторое время к парадному крыльцу красивого особняка подъехала милицейская машина. Из нее вышли двое мужчин с собакой. Кивком головы они поприветствовали дворника и направились в здание. Я слегка усмехнулся. В домик на берегу Иртыша довольно часто приезжали большие начальники. В «честь» некоторых из них собаки-нюхачи проверяли все чердаки и закоулки. Из-за «чижиков» я довольно часто потел. Приходилось с лопатой и метлой десятки раз бегать по своему «хозяйству».
Горбачев со свитой подъехал к гостинице «Иртыш» где-то около часа дня. У обслуживающего персонала в это время был обеденный перерыв. Однако небольшая группа работников, среди которых был и я, стояла в вестибюле и ждала знаменитого гостя. Кандидат в президенты, едва переступив порог гостинцы, сначала тепло поздоровался с ее администрацией. Затем, увидев группу людей, стоявших неподалеку от регистратуры, направился к ней. С каждым поздоровался по ручке. Сразу же завязалась непринужденная беседа. Ее начинателями стали женщины. Они наперебой спрашивали гостя, как он долетел. Он с улыбкой ответил, что полет был очень приятный и на омскую землю он также плавно приземлился. Раздался смех. Это прибавило смелости зевакам. Они стали интересоваться у лысого мужчины с отметиной на лбу первыми впечатлениями о городе. Он вновь высказал лестные слова. Омск ему очень нравится, особенно его жители. Раздалось оживление. Затем гость стал сетовать на приближение ранней весны и трудности предстоящей посевной.
Я все это время молчал, лишь изредка бросал взгляд на участников непринужденной встречи. Несколько выдвинувшись вперед, я четко произнес:
– Все правильно, весна есть весна… Однако в стране куда больше проблем, чем в самой природе…
Увидев перед собой мужчину в сапогах и в теплом свитере, кандидат в президенты подошел к нему поближе и сказал:
– Да, Вы, правильно говорите… В стране есть серьезные проблемы… Их надо, как это можно, скорее решать…
Я вновь спросил:
– И как Вы намереваетесь это сделать?
Кандидат в президенты улыбнулся и слегка покачав головой, ответил:
– На решение этих трудностей и направлена моя предвыборная кампания… Я думаю, моя предвыборная программа …
Неожиданно из толпы раздался голос:
– Михаил Сергеевич, а может на память сфотографируемся?! – Тут же последовали выкрики. – Давайте, давайте…
Горбачев с этим предложением охотно согласился. Он улыбнулся и встал в центр зевак. Затем бывший экс-президент СССР со своей свитой, насчитывающей порядка двадцати человек, в состав которой входили: охрана, технические работники, сотрудники «Горбачев- фонда» и представители прессы направились в столовую, в зал для почетных гостей.
Я некоторое время стоял возле бильярдного стола и раздумывал над своим дальнейшим поведением. Откровенно говоря, каких-либо мыслей, предложений у меня не было. Меня грызла обида за то, что все годы своей жизни я был и оставался честным человеком. Порядочность обошлась мне боком. Я потерял не только карьеру, но и в прямом смысле стал изгоем общества. В период перестройки я неоднократно обращался в местные и вышестоящие органы, чтобы они меня реабилитировали. Писал и на имя Генерального секретаря ЦК КПСС. Никто не отвечал. Не помогла партия, не помог и ее вождь, который для многих жителей бывшего Советского Союза стал эпохальным ничтожеством.
В конце концов я решил подойти к бывшему лидеру партии и задать ему вопрос. С вопросом я уже определился. Почему мое письмо осталось без ответа? Были и другие вопросы. Через пару минут я успокоился. Для обдумывания времени было достаточно. Обед, как минимум, займет минут тридцать, а то и больше. Я решительно направился в лестнице, ведущей в столовую. Намеревался встретить высокого гостя при выходе из зала. Передо мною, словно из-под земли, появился молодой человек в кожаной куртке.
Я слегка улыбнулся и почти шепотом произнес:
– Мне хотелось бы поговорить наедине с кандидатом в президенты…
Страж порядка усмехнулся, затем поднял обе руки кверху, словно обращался к Всевышнему, и с недовольным выражением лица ответил:
– Наш кандидат в президенты, как и все люди, хочет кушать…
Томить себя очередными ожиданиями я не стал. Считал, что это бесполезно. После сытного обеда слуги народа будут отдыхать. В этом я нисколько не сомневался. Меня же ждала работа…
Прошло два десятилетия, как я покинул г. Омск, который был и остается для меня родным городом. Мало того. В самый трудный момент моей жизни он стал для меня своеобразной стартовой площадкой по укреплению моих позиций, как ученого, как писателя.
Одновременно не скрываю, что тоска по родному краю давала и дает о себе знать. Свидетельством этому мое стихотворение «Душа моя Сибирью прирастает…», которое я написал совсем недавно.
Во многих странах мира я бывал,
В десятках городов свой след оставил.
Но рай чужбины любовь мою к Отчизне
Приостановить не с в силах был.
Нет, я не забыл тебя, мой край родной,
Словно раб судьбы, я приходил и прихожу
В каждый миг земной на пристань
Истоков Родины моей.
И сейчас иду, когда осень жизни,
Гость непрошенный, в дверь мою стучится.
Все не дает душе моей покоя,
Будоражит память о былом.
Я вновь и вновь в тоску впадаю,
В мир детства своего, в мир мечты и грез.
Он меня, как и раньше, манит
В край сибирский, в дом родной.
В дом, где я по воле Бога самого родился,
И младенец криком известил об этом
Мир вселенский, мир людской.
Нет, нет, я не забыл свое село,
Свое родное пепелище.
Красивый дом с карнизом на Слободке
Останется навечно в памяти моей.
Часто вижу я мать свою родную,
Она мне и меньшим братьям дарила ласку и тепло.
Вижу я и строгого и справедливого отца родного,
Кто мне первые уроки жизни преподал.
Душа моя Сибирью прирастает,
Памятью о предках, родных и близких,
О босоногой ребятне, с кем я радости и горечи
В детстве поровну делил.
Воспоминаю я и былую юность
И тех, с кем грыз гранит науки о войне.
И ту пору, когда любил и был любим.
Терял друзей, страдал от недругов, врагов.
Я люблю свой край, край суровый,
Здесь русский дух, здесь мощь России.
Я горжусь Ермака дружиною, сибирскими полками,
Что великую победу одержали.
Мир от чумы коричневой спасли.
Я славлю золотые руки простого человека,
Тех, кто строил Омск-град на брегах седого Иртыша,
Растил детей, приумножал науки мир,
Охранял от ворогов подступы единого Союза.
В числе оных был и я, сын Драгунки, малой родины моей,
Чему безмерно рад и счастлив тем,
Что пронес достойно крест судьбы своей.
Хвала тебе, Сибирь родная,
Счастья, мира дому твоему.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ
26 декабря 1999 года после четырех лет ожидания я и моя жена оказались на немецкой земле. Несмотря на то, что этот день был в моей жизни в какой-то мере знаменательным, он все-таки не остался без эксцессов.
Аэропорт Толмачево г. Новосибирска, где когда-то я учился, в это утро напоминал большой муравейник. Все места в залах ожидания были заняты. Кругом шныряли подозрительные типы, бросая косые взгляды на сотни пассажиров. Все и вся кругом гудело, то и дело раздавался детский плач. Парочка милиционеров мирно прогуливалась внутри аэропорта, то выходила на улицу. Здесь она долго не задерживалась, на улице стоял сильный мороз. За порядком в зале ожидания присматривала и средних лет женщина, одетая в синее пальто. На ее левой руке была повязка красного цвета. На голове была нахлобучена большая шапка, которая закрывала не только ее уши, но, как казалось, и всю ее розовощекую физиономию. «Шахиня» то и дело покрикивала на пассажиров, которые своими баулами загораживали проходы между рядами или просто так, для острастки.
До отправления самолета оставалось четыре часа, как откуда ни возьмись, появились слухи, которые меня не очень обрадовали. Первое, что самолет будет не прямой до немецкого города Ганновера, а с пересадкой в России. Где будет пересадка было неизвестно. Не поднимали мой жизненный тонус и слухи о том, что все чемоданы, баулы, независимо от размера и окраски должны быть обмотаны прозрачной пленкой. Значительная часть пассажиров слухи встретила без ропота. Все прекрасно знали, что на просторах демократической России еще худшее творилось, а здесь, подумаешь, самолет не там приземлится или опоздает, не говоря уже о сохранности вещей.
Информация о самолете на протяжении длительного времени была без изменений. С багажом же через пару часов все было нормально, в порядке. Возле двух молодых людей с типично бандитскими выражениями, стоявшими неподалеку от выхода из аэропорта, стояла вереница людей, словно при регистрации. Ждали очереди, когда их вещи приведут в высшую степень безопасности и сохранности. «Кооператоры» довольно быстро обматывали чемоданы, сумки и прочие емкости скотчем, клейкой лентой. Обматывали все и вся вдоль и поперек. И тут же брали деньги за услуги. Казначеем был мужчина лет пятидесяти. Он то и дело громогласно объявлял сумму денег за оказанную услугу очередному клиенту. Затем быстро совал купюры в кошелек, большую дамскую сумочку, которая висела у него на шее. От усердия через некоторое время мужчина разделся, снял также свою кроличью шапчонку. Его квадратная лысая голова то и дело «дымилась», скорее всего от радости, что так быстро текли денежки. К кооператорам нередко подходили милиционеры или шахиня. О чем они разговаривали, мне было неведомо. Я сидел от них на довольно приличном расстоянии. Но в том, что в аэропорту Толмачево незаконный бизнес успешно процветал, я нисколько не сомневался.
За два часа до отлета стало известно, что самолет будет немецкой авиакомпании и рейс будет без пересадки. По залу прокатился одобрительный ропот. Несколько позже до улетающих в ФРГ, докатился очередной слух. Во время регистрации будут изымать трудовые книжки и всевозможные дипломы, так как они являются собственностью Российской Федерации. Известие об этом вызвало у меня недоумение. Никогда не думал, что подобное вообще где-либо возможно. Я невольно окинул взглядом зал и несколько приуныл. Среди моих земляков какого-либо ропота не было, лишь изредка кое-кто между собой перешептывался. У некоторых из них в руках были документы. Я решил не рисковать, тем более, прошлое в Советском Союзе, да и в России многому научило. Я пошел в туалет и положил свою трудовую книжку на подошву зимнего ботинка, благо они были большие. Остальные документы оставил во внутреннем кармане зимней куртки.
Регистрация пассажиров очень сильно затянулась. Затянулась по вине администрации. Надежды улетающих на то, что вот-вот окажутся в самолете, в один миг растаяли, как только они подошли к контрольной стойке. Таможенники начали очень скрупулезно проверять вещи пассажиров, без исключения. Проверяли все, вплоть до внутренних карманов. Особенно доставалось молодым. В итоге всем пришлось чемоданы и баулы открывать, на что требовалось время. У многих оказался перевес, притом очень незначительный. Разрешалось 25 кг на человека. Им пришлось идти в кассу и оплачивать «излишки». Вещей у меня было немного. Чемодан и маленькая сумка серого цвета, в клеточку. В то время все баулы огромной страны были такого цвета. В сумке находились туалетные принадлежности и две папки. В одной из них была рукопись будущей книги «Немцы Омского Прииртышья». После проверки багажа пришлось вновь упаковывать «по-новому» чемоданы, благо рядом стояли уже знакомые ребята. И вновь в их карманы текли деньги.
Едва я отдал для проверки проездные билеты, как передо мною вырос толстомордый сержант. Молодой человек с несколько презрительным взглядом сквозь зубы процедил:
– Незаконные для провоза документы есть… Прошу для проверки…



