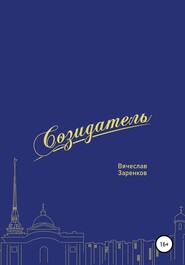 Полная версия
Полная версияСозидатель. Вячеслав Заренков
Осталось два сына, Сергей и Николай Губонины. Эти добрые православные люди не обладали, к сожалению, талантами своего отца. Они не смогли удержать в своих руках его дело и разорились ещё до 1917 года.
Гурзуф перешёл к другим владельцам и поблек. Храм Успения Пресвятой Богородицы был уничтожен в 1932 году – звон его колоколов мешал отдыхающим революционерам. Семейную усыпальницу тоже не пощадили. Прах Губонина и его супруги оказался на свалке истории.
А еще через два года разорили церковь Параскевы Пятницы, о которой почти тридцать лет неустанно заботился её верный староста Петр.
Часть шестая
К планетам и звездам
2016–2051 гг
В этой части книги герой намечает перед собой задачи на ближайшие десятилетия. Он преодолевает детские страхи и ныряет с акулами, следуя по следам Жака Кусто, восстанавливает монастырь на своей малой родине, учреждает международный фестиваль «КипРус», пишет либретто для балетных постановок, снимает фильмы, ваяет памятники и храмы и приступает к строительству самого большого в Европе планетария. А на прощание дает читателям один простой совет.
По следам Жака Кусто
Жить – видеть и подмечать детали, мыслить и открывать новые горизонты, действовать и созидать, с высоты большого делать добро для людей и, наконец, с благодарностью принимать этот дар Божий, нашу жизнь.
Последняя операция на сердце прошла успешно, и в дневнике Вячеслава Заренкова появилась новая запись, одна из тех, что потом вошла в его главу «Мысли вслух».
«Каждый человек должен знать, что у него в жизни есть выбор среди трех типов существования.
Активное на протяжении всей жизни позитивное развитие личности.
Деградация личности – антипод развитию.
Прозябание – среднее между развитием и деградацией.
С рождения и до восемнадцати лет все люди проходят процесс развития. А дальше пути расходятся по-разному на разных жизненных этапах. Деградация личности является прямым следствием болезни под названием лень…»
– Вячеслав Адамович, у меня к вам необычное предложение, – на прием к Заренкову пришел профессиональный питерский путешественник, член Русского географического общества и, кстати, выпускник архитектурно-строительного института Александр Ингилевич. – Что если нам совместно взяться за фильм с рабочим названием «По следам экспедиций Кусто»?
– Интересная идея, – согласился строитель, начисто лишенный лени.
Правда, в отличие от Кусто, с водой у Заренкова отношения складывались непросто. Еще семилетним мальчишкой, прыгая по льдинам в радостном приступе начала весны, он с головой рухнул в холодное озеро и начал тонуть. Спасли его вовремя. Но страх остался на долгие годы. С тех пор он не мог окунуться под воду. Уже в зрелом возрасте Вячеслав Адамович решил избавиться от этой фобии. Нашел инструктора, начал первые занятия дайвингом. Сначала, чтобы перебороть панику, собирал шарики со дна бассейна. Дальше – больше, пошли погружения. В разных морях, на разную глубину, и с друзьями, и в окружении стаи акул. Кстати, вид акул его не пугал. Хотя однажды прямо на глазах Заренкова одна из хищниц перекусила пополам туристку из Франции, которая, отбившись от группы, плавала у берега с маской…
Для Вячеслава Адамовича время, проведенное на глубине, стало ценной возможностью погружения в гипнотический, таинственный мир, в совершенно другую реальность!
Итак, не удивительно, что он отозвался на предложение путешественника-профессионала.
Они собрали команду, начали планировать экспедиции в разные страны, следуя дорогами популярного океанографа, который в свое время грезил об авиации, но ушел под воду и изобрел акваланг. Съемки проходили на Филиппинах, в Египте, Тунисе, на Кипре…
Заренков загорелся идеей приобрести знаменитое судно «Калипсо» – что ж оно без дела стоит в ангаре, во Франции! И ничего, что от легендарного корабля остался лишь остов, – восстановим!
Начались переговоры с Франсиной Триплет, второй женой исследователя морских глубин. Они познакомились, когда Жаку было уже почти семьдесят лет. Он летел в самолете, на борту которого Франсина работала стюардессой. Разница в возрасте – 36 лет. Но это не помешало молодой женщине родить от Кусто двух детей. Однако верной помощницей и продолжателем дела своего мужа она так и не стала.
– Хотите покупать – покупайте, – заявила она. – Пятнадцать миллионов евро. Такая будет цена.
– А ведь когда-то ирландский миллионер предоставил Кусто бывшее военное судно «Калипсо» в аренду. Годовая плата за него составляла всего один франк!
– Вы хотите его за один франк купить у меня? – злилась Франсина.
– Нет, конечно. Но судно нуждается в очень серьезном и дорогостоящем ремонте.
– Это ваши проблемы. И еще я предупреждаю, что если в вашей программе будет использоваться имя моего дорогого мужа, я вас засужу. Договор, деньги, и только тогда возможно упоминание имени Жака.
Франсина делала все, чтобы разрушить мир, который созидала ее предшественница, первая жена и верная помощница во всем, Симона Кусто.
Ну, нет, значит, нет.
В конце концов, разве это препятствие для того, чтобы жить и любить океаны?
Колыбель
Теперь два раза в год, осенью и весной, Вячеслав Заренков с творческой командой, в которую входили и режиссер, и операторы, уходил в экспедицию, улетал в дальние страны. А возвращаясь, чувствовал такую острую, почти физическую потребность встречи со своей малой Родиной, что часто поддавался этому зову и ехал домой, в Ходулы.
Дома уже не было. Да и самой деревни практически не существует. По пальцам можно пересчитать жилые хаты, а ведь в его детстве стояло не менее ста дворов. Но это Родина. На эту тему есть хорошие строки у супруги Галины: «Беларусь – ты моя колыбель, а Россия – мое становление». Так и есть, колыбель. Походит, посмотрит вокруг того места, где когда-то стоял их домик, а теперь останки фундамента, бурьяном заросшие. Он отчетливо помнит каждую ступеньку крыльца, какие и где были двери, защелку на входе, что было внутри. Этот свой дом Вячеслав по памяти написал на холсте и картину назвал «Родина», очень светлая получилась работа.
Как много он здесь делал своими руками. Приезжая из Питера в отпуск, Вячеслав вместе с отцом постепенно улучшал этот дом, делая его удобней, комфортней, красивей. Менял окна, правил крышу, ставил забор, устанавливал новые межкомнатные перегородки…
Из этого дома в школьные годы Слава ездил в город на олимпиады по алгебре, геометрии. Как бедно жили! Это только сейчас понимается. Ведь даже одежды нормальной не было. Мама заботливо подшивала для «олимпийца» парадные отцовские брюки, под брюки Слава напяливал огромные кирзовые сапоги, надевал перелицованную рубашку и ехал в таком виде в город. И, что показательно, щелкал задачки получше городских «аристократов», одетых с иголочки.
Да, было время.
А теперь дома нет. Но стоят деревья. Он гладил липу и дуб, говорил что-то с ними. Приветствовал яблоню, которую полсотни лет назад – страшно сказать! – сам прикапывал и в первый раз поливал. И часто думал, что надо бы возродить родительский дом, а может, даже всю деревню, построить неподалеку рыбную ферму или страусиную… Но не с кем и не для кого: дома – не проблема, а вот кто в них будет жить? Людей нет.
Школа
Их и в Зубревичах немного осталось, всего под четыреста человек, из них девяносто два ребенка, если считать всех, от «нуля» до восемнадцати лет. Количество жителей с каждым годом все уменьшается.
В Зубревичи, в свою школу, Вячеслав Адамович непременно заворачивает по дороге из Ходулов. Не просто заворачивает – она находится под его патронажем. С директором им всем очень повезло. Елена Александровна Ивановская двадцать пять лет работала воспитателем в детском доме. Дети, лишенные родительского попечения, по очереди, по специальному графику приходили на выходные к ней в семью, отогревались.
Елена, став директором школы, сразу позвонила Вячеславу Адамовичу, чтобы представиться.
– Очень приятно, давайте готовиться к поездке на Кипр.
Для детей из села, которые мало что видят, где бывают, это стало событием, сенсацией, шоком. Первый в их жизни полет на самолете, первая «заграница», первая настоящая гостиница, а какая еда! В восемь тридцать у них начинались экскурсии, школяры из Зубревичей исколесили весь Кипр на шикарном автобусе вдоль-поперек. За восемь дней – восемь экскурсий. Побывали и на освящении собора Андрея Первозванного, который построил их выпускник. И на концерте с раздачей мороженого. И с патриархом знакомились, и с Заренковым общались.
– Расскажите, каким спортом вы занимаетесь? Какие у вас есть увлечения, какие кружки? – все ему интересно! – В наше время мы все «болели» лыжами, коньками, летом пропадали на озере, а вы как живете сегодня?
Заренков дает все новые и новые шансы своим землякам, своим соседям по колыбели. Покупает компьютеры, готовит подарки к Новому году, оплачивает туристические поездки по другим городам…
Но, может, для кого-то из этих детей большим шансом найти свою дорогу в жизни станет связь с монастырем в Толочине. Заренков познакомил и директора школы, и учеников с его настоятельницей, игуменией Анфисой.
Игумения
Было время, когда игумения Анфиса была Антониной. Тоня Любчак росла в верующей семье. Религия всегда для нее была миром, состоянием души и… игрой. Да, в детстве она играла в Царство небесное и еще в доктора. Находила с подружками птичек, «отпевала» их и хоронила, жалела и кормила животных.
Ей было шестнадцать, когда маме приснился сон, из которого явственно следовало, кем она станет – монахиней.
Но сначала современная девушка поступила в политехнический институт. Она получила образование инженера, работала по специальности. До тех пор, пока серьезно не заболела. В состоянии клинической смерти Антонина Стаховна Любчак увидела монастырские врата и, очнувшись, стала искать их, пошла навстречу зову души.
Так Свято-Покровский женский монастырь города Толочина Витебской епархии республики Беларусь обрел свою настоятельницу.
Было время
Было время, и канцлер Великого Княжества Литовского Лев Иванович Сапега на свои деньги построил здесь, в Толочине, деревянный храм, в 1604 году. Через полторы сотни лет на его месте воздвигли храм каменный. Потом школу и жилой корпус монастыря.
В 1812 году на территории обители останавливался Наполеон Бонапарт. Здесь французский император был шокирован новостью – мост через Березину разрушен, отступать больше некуда. Великий полководец был вынужден признать свое поражение. В Свято-Покровском монастыре он провел решающее заседание штаба и отдал приказ жечь военный архив и знамена, эмблемы своих корпусов.
При отступлении французская армия сожгла и Толочин. Но монастырь уцелел, хотя его и разграбили. Добивали уже в советское время: здание монастырского корпуса было передано военкомату, а здание школы – вневедомственной охране.
Когда игумения Анфиса сюда приехала, в храме была температура плюс семь, матушки кутались в трех платках, спали одетые. Надо было браться сразу за все. И братский корпус ремонтировать, и храм спасать. Она забила тревогу, писала во все инстанции, настойчиво убеждая освободить территорию древнего монастыря. Подробную историю памятника архитектуры шестнадцатого века настоятельница излагала на пяти листах в приложении к официальным письмам. В итоге добралась и до президента Беларуси. Александр Лукашенко лично поставил на обращении матушки свою резолюцию: «Передачу данной территории монастырю считаю нецелесообразным».
В это же время одно из писем игумении уже летело в Санкт-Петербург. Его и получил Вячеслав Заренков. Он тут же приехал – это Родина, родительский дом находился всего в тридцати километрах отсюда. Как он мог не приехать?
Монастырь
Взору Вячеслава Адамовича предстало печальное зрелище. Собственно, его и не было, Толочинского женского Свято-Покровского монастыря. Монастырем игумения называла неотапливаемое здание братского корпуса, похожее на разваливающийся сарай, в котором ютились монахини. А молились они в Покровском храме с протекающей крышей, облупившейся штукатуркой, покосившимся крестом на ветхом куполе. Рядом пара-тройка домов, населенных обычными жителями града Толочина. Как положено, с поголовьем скота и птицы, с музыкой на полную громкость, машинами, шашлыками и застольями по выходным и праздникам. Здесь же, на монастырской территории, как хозяин стояло двухэтажное здание районной вневедомственной охраны. А поодаль – грязь, мусор, все навалено в кучу, не пройти, не проехать.
Итак, вход к президенту Лукашенко был перекрыт. Но Вячеслав Адамович решил обойти его с фланга – он добился встречи с министром МВД Беларуси. В ходе переговоров удалось договориться о том, что вневедомственная охрана освободит занимаемое здание… после того, как известный бизнесмен из Санкт-Петербурга построит новое, больше и лучше прежнего.
На этапе строительства аппетиты у офицерских чинов из полиции стали расти, уже и два этажа им мало – подавай четыре! Да не просто построй, а еще оснасти современным оборудованием. Снова время уходит на переговоры, на поиски компромисса…
В итоге вневедомственная охрана осталась довольна, а в освобожденном здании начались работы по организации воскресной школы. Обитателям частных домов на территории монастыря – а это три семьи – пришлось приобрести благоустроенные квартиры, как это было уже при восстановлении Иоанновского женского монастыря в Санкт-Петербурге, на Карповке.
Когда вычистили авгиевы конюшни и привели в порядок жилой корпус, взялись за храм. Начали восстанавливать его с куполов, с крыши, с мозаичного фасада. Теперь сюда можно было привезти своего друга Исаию, митрополита Тамасосского и Оринийского.
– Вячеслав, я чувствую, что людям здесь будет хорошо, – сказал владыка из Кипра. – Это настоящая духовная больница, место, где человек может отдохнуть, помолиться, помечтать о добрых делах. Здесь Божия благодать действует…
И действует Заренков. Уже построены церковная лавка, пекарня. Доделывается воскресная школа с компьютеризованными классами и кинозалом для просмотра православных фильмов. Во дворе запланирован небольшой спортивно-игровой комплекс, Валаамская ротонда с источающим чистейшую воду крестом…
Так шаг за шагом, год за годом приблизилось время расцвета древнего монастыря. Правда, получилось как в поговорке про сапожника без сапог. Строитель так и остался без дома. Вместо того, чтобы восстановить родительский дом, он восстановил монастырь на своей малой родине, в своей «колыбели». Здесь в ежедневных молитвах поминают и Софию Петровну, и Адама Алексеевича, и благотворителя храма сего, раба Божия Вячеслава.
Задачка «со звездочкой»
А молитва – великая сила. Она вразумляет врагов и конкурентов, как это было уже однажды, когда Заренкова лишили лицензии. Она усмиряет неразумных хазар и полчища печенегов, которые топчут русскую землю, собирая там, где не сеяли. Нет, речь сейчас не о бандитах. Кроме них есть преступники сертифицированные, наделенные властью, – инспектора десятков инспекций, налоговики и так далее. Бывало, в офисе Заренкова разыгрывались целые пьесы. Например, приходит пара очень серьезных налоговых инспекторов и начинается диалог, исполненный внутренней драматургии.
– Ни копейки вы не получите, – поняв, в чем дело, перебивает Вячеслав Адамович.
– Как это? Вы с Луны упали? У нас есть план, согласно ему мы обязаны выявить нарушений минимум на три миллиона рублей. После этого вы сможете нормально работать. Мы же все равно что-то да найдем у вас! Понимаете?
– Когда найдете это «что-то», тогда я подам на вас в суд, – спокойно отвечал бизнесмен. – Не на абстрактную районную налоговую инспекцию, а лично на вас. И все мои затраты вы оба оплатите лично, из своего кармана.
Это отрезвляло и заставляло задуматься. Хазары уходили в свои степи ни с чем.
Но следом шли печенеги-пожарные. Они начинали нудеть про выявленные нарушения на объектах…
– Я вас понял. Но вы план объекта на начальной стадии видели? Вы со всем соглашались? Все подписывали? А теперь говорите мне о моих нарушениях! Давайте-ка я сейчас же позвоню вашему начальству и мы обсудим лично вашу профессиональную компетенцию и моральный облик.
Это тоже действовало отрезвляюще. Их как ветром сдувало.
И с чиновниками, и с бандитами приходилось вести себя жестко. Один раз заплатишь – сядут на шею, не отскребешь.
А ведь, казалось бы, чего прощу победить коррупцию! Много Заренков думал об этом и решил задачу «со звездочкой», как говорили у них в школе. Он даже где-то в блокноте у себя зафиксировал ход рассуждений.
Первое: мотивировать чиновников на конечный результат, обозначив четкую цель их работы. Будет результат на вверенной территории – будет хорошая зарплата и наоборот. Второе: разрешительную систему надо заменить системой уведомительной. Решил открыть бизнес – поставил конкретную структуру в известность и начал работать. Иначе начинается старое как мир «дам добро – не дам», «разрешу – не разрешу». И, наконец, третье – это сменяемость власти. Несменяемость – это ржавчина всех «болтов» и «узлов», лучшая питательная среда для коррупции.
Вот так, все и просто и сложно одновременно. Но, как часто говорит Заренков, – нет такой проблемы, которую невозможно решить, если перед тобой стоит четкая ясная цель. А если нет цели, то все становится проблемой, все сложно.
Маски и люди
Конечно, есть у коррупции и еще одна проблема, чисто психологическая. Она состоит в том, что испытание деньгами и властью – самое серьезное, страшное испытание. Которое лично Заренкова не затронуло, миновало. Потому что деньги для него никогда не были самоцелью. Помните, как он хранил их? Без кошелька, по карманам, никогда не зная точно, что их у него в наличии. Настолько не ведая, что даже на госпошлину в Доме бракосочетаний ему не хватило в далеком 1970 году. Деньги ему нужны для того, чтобы закупать арматуру, бетон и кирпич. Это всего лишь материал, из которого он строит дома. И к власти Вячеслав Адамович не рвался. Не баллотировался в депутаты, не метил в теплые кресла. Потому что всегда понимал иллюзорность власти чиновников. Люди дали чиновнику определенный фронт работы – какая же это власть? Сегодня она есть, завтра – нет. Но ведь не все это понимают, отсюда и начинаются проблемы с «масками».
Сколько он встречал этих масок – людей в образе носителя власти. А когда маски падали, про этих людей все забывали мигом. Они ждали, что к ним придут, верили, что они нужны кому-то – ан нет! И сами шли к Заренкову с плетками опущенных рук: «Вячеслав, послушай, ну, помоги…»
Вот и у заместителя прокурора Юрия Приемыхова, который столько крови Заренкову попортил, маска упала с лица. Он не только не смог подняться по карьерной лестнице – он вовсе лишился работы. И пришел к Заренкову просителем.
– Возьмите меня хоть куда-нибудь…
– Зачем же вы пришли ко мне? Это вам в отдел кадров надо.
Так некогда всесильный Приемыхов устроился рядовым сторожем на один из строящихся объектов компании.
А заместитель начальника главка? Да он такую маску надел, что не подступиться! Дорос до начальника, а когда время пришло и маска упала, на него стало больно смотреть.
А сколько было начальников пожарных инспекций, которые уверовали в свое всемогущество и шли, все шли к ним на поклон. Но вот очередная рокировка, человек остается без кресла, и приходит уже не то, что без маски, а вообще без лица.
Насмотревшись таких примеров в жизни, Вячеслав Адамович решил написать рассказ или повесть под рабочим названием «Маски и люди». Идея у него четко оформилась: каждый человек, рождаясь, надевает какую-то маску. Он делает выбор, под который потом все подстраивает: я – доктор. Или политик. Или губернатор. Или писатель. Эту маску мы часто представляем как свою суть, как квинтэссенцию своего «я». Но «я» – это нечто другое. И начинается конфликт маски, выбранного нами образа, и личностной сути. Человек думает: «Губернатор – это и есть «я». Но это не так! Это не к тебе идут колонною на юбилей с дарами – это к твоей маске идут…
Вот такая зрела у Заренкова идея.
Он сидел в кресле-качалке и все думал, чем завершить это произведение. Финал – самая сложная часть, как всегда. Прикрыл глаза и стал представлять, как бы все это выглядело на сцене. В голове рождались образы: люди в масках танцуют, страсти кипят, маску пытаются сорвать, но как это больно и страшно – оказаться наедине со своим «я»!
– Да ведь это балет! – произнес Заренков. И стал обсуждать свою идею с композитором Михаилом Крыловым.
– Интересно, давайте попробуем ее реализовать, – поддержал тот.
И закрутилось. Заренков засел за либретто, начался поиск балетмейстера, выбор труппы, поездки, знакомства, переговоры с театрами…
«А какая у меня маска? – думал между тем Заренков. И тут же отвечал себе на этот простой вопрос. – Я строитель. Кажется, это слово, «СТРОИТЕЛЬ», написано у меня на лбу огромными буквами. Стоит мне выехать на объект и надеть каску, я оживаю и загораюсь. Но ведь так не может быть вечно! Подходит время, когда и каску и маску надо снимать».
Сделка жизни
За сложную и многоходовую операцию по выходу из бизнеса, из управления компанией, по запуску «Эталона» на новый виток развития Вячеславу Заренкову на телеканале РБК вручили диплом «За лучшую сделку года». И действительно, за тридцать лет работы на памяти самого Вячеслава Адамовича не было таких прецедентов. У крупных бизнесменов было всего три варианта, три способа освободиться от своей тяжкой ноши: либо в тюрьму, либо в могилу, либо банально все отберут.
Ни один из этих вариантов ему не подходил.
Три года Вячеслав Адамович готовил «лучшую сделку» – не года, а всей своей жизни – по выходу из компании. Вот это точно задача не из простых. Учитывая сверхзадачу, которую Заренков перед собой ставил: без него в компании должно быть лучше, чем с ним. Компания не должна ни то что пострадать – она не должна ощутить его ухода.
И наконец это свершилось.
В феврале 2019 года Вячеслав Адамович Заренков на пресс-конференции сделал официальное заявление о своем выходе из компании «Эталон».
Все, эта история завершена.
Достойная история, надо отметить.
За тридцать лет работы на рынке недвижимости компания возвела более трехсот домов в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Общая площадь жилой застройки составляет более восьми миллионов квадратных метров! Он как-то подсчитал, что на этих «квадратах» проживает примерно 318 тысяч человек – целый город! Или два небольших.
Но дальше компания пойдет уже без него.
Журналисты, собравшиеся в офисе на 24 этаже «Золотой гавани», буквально забросали основателя «Эталона» вопросами.
Как могут отнестись к происшедшему событию миноритарные акционеры? Да они уже отнеслись к ней положительно. Это доказывают торги за последние два дня: акции выросли почти на 15 %.
Доволен ли он стоимостью проданных акций? Доволен! Цена, за которую продан пакет, абсолютно разумна.
Почему он решил выйти из бизнеса? Потому что ему идет шестьдесят восьмой год, и работать в режиме «24×7» ему уже трудно, а работать вполсилы – вредно для бизнеса, да и не в его это характере.
Не было ли варианта передать бизнес в управление доверенным лицам, например, сыну Дмитрию, который в свое время возглавлял Совет директоров? Да, Заренков рассчитывал, что сын примет бразды правления, и это был бы вариант оптимальный. Но у Дмитрия другие приоритеты, у него на первом месте семья, а потом уже все остальное. Наверное, это правильно.
Будет ли у основателя компании свой представитель в новом Совете директоров? А зачем? Новый Совет должен быть абсолютно свободен в принятии новых решений.
Как он оценивает условия для ведения бизнеса в Санкт-Петербурге после смены губернатора и кураторов строительной отрасли? Нормально оценивает. Смена власти и губернаторов всегда влияла на тех, кто пользуется благосклонностью власти или просто рассчитывает на нее. Заренков просто делал свое дело, работал четко, соблюдая все нормы и правила.
– Вячеслав Адамович, скажите, как вы планируете распорядиться средствами, которые получите по итогам продажи акций?
– Основная часть денег будет не инвестироваться, а жертвоваться на благотворительные цели. Я выбрал для себя следующие направления: первое – это образование, второе – здравоохранение, третье – интеллектуальная собственность, интеллектуальное развитие. Четвертое – культура. Вся эта работа будет проводиться через наш фонд «Созидающий мир», который существует уже семь лет и много чего успел сделать значительного. Так что, сидеть на диване перед телевизором я точно не буду…



