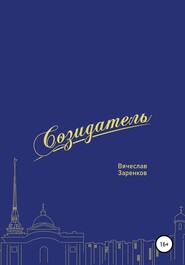 Полная версия
Полная версияСозидатель. Вячеслав Заренков
Кстати, о благотворительности
Интересно, что все благотворительные проекты у Заренкова никогда не делались деньгами компании. Всегда – только частными лицами. Во-первых, потому что компания публичная, у нее огромное количество инвесторов и акционеров по всему миру и решение о том, чтобы проявить благотворительность, неизбежно пойдет вразрез с позицией определенной части инвесторов. Их права не могут быть ущемлены. А во-вторых, хочешь сделать благое дело – сделай его! Сам, за свой счет.
Случалось, что некоторые наемные сотрудники, чтобы поднять свой личный имидж, предлагали: «А давайте мы поможем тому или этому!» Вячеслав Адамович в таких случаях отвечал: «Да ради Бога, без проблем. У вас карманы есть? Вынимайте из кармана и помогайте!»
– Но ведь компанией проще! Ну что там один миллион. Для компании немного!
– Это, может, и так. Но владелец этого миллиона – не я и не ты! А инвестор, акционер.
Когда Заренков в интервью белорусскому порталу немного рассказал о своей благотворительной деятельности, к нему хлынул поток писем забавного содержания. Эти письма в целом характеризуют распространенное представление обывателей о благотворительности, их отношение к бизнесу. Оно прямолинейно-потребительское, оно – ДАЙ!
«Уважаемый Вячеслав Адамович, я так поняла, что вы человек богатый, а я очень бедная, купите мне двухкомнатную квартиру в Минске», – читал Заренков электронную почту.
Купите компьютер. Купите ноутбук. Купите автомобиль. Ну, это, допустим, люди определенных качеств ума. Бывает намного печальнее, когда человек, кажется, неглупый начинает на тебя обижаться. Пример: помог Вячеслав Заренков жителю планеты Земля, оплатил ему дорогостоящую операцию. Оплатил реабилитационный курс в санатории. Оплатил поездку на юг к морю. И стал житель планеты подходить к Заренкову как к банкомату: дай, дай еще и еще.
– Ваша карта более недействительна. Слезьте с шеи и обратитесь к оператору совести, не мешайте работать.
На одной волне
В феврале 2015 года издатели альбома «Монастыри Кипра» обратились к Заренкову с просьбой.
– Вячеслав Адамович, было бы очень хорошо, если консультантом и редактором нашего альбома станет владыка Исаия. Попробуйте поговорить с ним об этом…
Кипрский друг Петрос взялся организовать это знаковое, как окажется впоследствии, знакомство – встречу бывшего студента Московской Духовной Академии рясофорного послушника Спиридона, а ныне – митрополита Тамасосского Исаии и бизнесмена и мецената из Санкт-Петербурга, основателя фонда «Созидающий мир» Заренкова.
Митрополит по-русски говорил превосходно. Мало того, он старался всячески помогать русским на Кипре. Тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации и нуждался в его искренней помощи. Боролся против торговли женщинами, которых против воли вовлекали здесь в проституцию, – он способствовал их возвращению домой или подыскивал достойную работу для россиянок. Он стал первым духовником российских заключенных в тюрьмах Кипра, крестил, исповедовал, причащал. И у верующих киприотов не встречал такого раскаяния, которое видел у русских преступников. Это было покаяние глубокое, по Достоевскому, оно разрушало стереотипы: мол, воры и убийцы не способны к духовному возрождению! Способны! И понимают промысел Божий, действующий в их судьбе и приводящий их к вере.
– Не осуждайте! Наша задача – не осуждать, а помочь оступившемуся человеку вернуться к правильной жизни, – говорил владыка на проповеди. – Мы должны словом любви исцелять, а не воевать словами вражды!
Первая встреча митрополита и мецената протекала легко. Они разговаривали непринужденно, владыка Исаия провел русского гостя по всей митрополии. Между прочим, показал деревянную церквушку.
– Это румыны построили. Но у меня есть мечта поставить небольшую, такую же деревянную церковь во имя всех русских святых. Я уже представляю себе ее внутреннее убранство, иконы, алтарь. Только с финансированием, как всегда, есть проблемы.
– Почему вы, владыка, говорите о русских святых?
– Они совершают многие чудеса в греческом мире, – ответил митрополит. – Например, я лично знаю одного священника, который здесь, на Кипре, попал в аварию. Врачи сказали, что он умрет, все с ним попрощались, но священнику явились преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский, и он выжил. Когда он выздоровел, и постригал в монашество своих духовных чад, то дал им имена Серафим и Сергий. А до аварии он даже ничего не знал о них, понимаете? От многих киприотов я слышал, как преподобный Серафим присутствует в их жизни. А в последнее время и святитель Лука…
Владыка так увлеченно говорил о своей мечте, что Заренков не удержался и показал ему фотографию церкви, которую он построил в Сербии. Это была небольшая, выполненная в чисто русском стиле красивая деревянная церковь. Сруб ее делался недалеко от Санкт-Петербурга, а потом на семи грузовиках везли его в Сербию и там собирали. Иконостас и всё внутреннее убранство сделали российские мастера.
Владыка загорелся.
– Очень, очень красивая, вот бы нам такую построить!
– Хорошо, мы возьмемся за это, – пообещал Заренков.
Через несколько дней он улетел в Санкт-Петербург. И три ночи спал плохо, всё думал, какой же храм построить на территории Тамасосской митрополии, чтобы это выглядело достойно для Кипра и напоминало о России так, как того заслуживает Русская Православная Церковь и ее святые угодники.
К тому времени уже был выполнен проект храма Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня в Санкт-Петербурге. Мечта отца Евгения Шогенова, казалось, вот-вот исполнится, но из-за бюрократических проволочек получить разрешение на строительство никак не удавалось. «А почему бы по этому проекту не построить храм на Кипре?» – подумал Вячеслав Адамович. И в ту же ночь написал о своей идее владыке, приложив виды этого храма.
Ранним утром из Кипра пришел ответ: «Я не верю своим глазам. Это чудо! Мы, конечно, согласны и очень благодарны вам за эту идею».
Тогда Заренков впервые отметил, что они – он и владыка Исаия, – находятся на одной частоте, на одной волне мыслей и чувств. А дальше это удивительное дежавю, что они знакомы не пару недель, а долгие-долгие годы и понимают друг друга без слов, – это ощущение только крепло и прочилось.
Отец Евгений
– Помогите на храм! – просил отец Евгений Шогенов. Фамилию свою он «привез» в Санкт-Петербург из Кабардино-Балкарии, из Нальчика, и когда лет в двенадцать в первый раз переступил порог храма во имя Дмитрия Солунского в Колымягах, еще сам не знал, что «шоген» в переводе с адыгейского языка значит «священник».
– Сейчас никак помочь не могу, отец, – ответил на просьбу один из потенциальных благотворителей отца Евгения. – Малому надо жеребца купить, дачу достроить, конюшню. Извини, не время сейчас.
Помогать или не помогать – дело личное, тонкое. Даже в среде священников есть разногласия: надо ли подавать каждому просящему? Вот Иоанн Златоуст в одном из своих трудов говорил, что когда у тебя просят, ни в коем случае нельзя размышлять, достоин ли просящий подаяния. Потому что никто не достоин! В любом человеке найдется изъян. И чем больше ты будешь думать, тем более будет причин, чтобы не дать.
Отец Евгений понимал это и просил, просил, понимая, что другого пути у него нет. Он ведь не бизнесмен, а священник. И все, что у него есть и будет – это то, что дадут или не дадут ему люди.
Он все же построил свой храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник». За сто дней на двадцати пяти сотках было воздвигнуто небольшое по размерам «временное сооружение» каркасного типа на свайно-винтовом фундаменте. Между сваями плавали утки, а вокруг – груды мусора, накопившегося за долгие годы на отшибе жилого квартала. Здесь, в этом спальном районе, чего только не было! И «точка», где проститутки стояли, и машины тут жгли, и людей убивали. Мамы с колясками обходили стороной это место.
Теперь надо было привести все в порядок. Специалисты выставили счет за благоустройство – полтора миллиона. Это вместе с забором.
Такая сумма просто в голове не укладывалась. Откуда взять деньги? Надо молиться, пусть Бог управит.
Через неделю пришел человек: «Вам помощь нужна?» Священник поделился своей проблемой. И на следующий день ему привезли полтора миллиона, наличные деньги, перетянутые цветными резинками и завернутые в пакет.
Территорию благоустроили, с рабочими рассчитались.
Теперь отец Евгений со своей матушкой мечтал построить здесь церковь в честь Воздвижения Креста Господня. Ведь крест – не боль, не страх и страдание, хотя и это тоже. Крест – это символ любви Бога к людям.
О Воздвиженском храме отец Евгений молился со своими прихожанами. По воскресеньям после Божественной литургии они совершали молебен у креста, установленного на месте будущей стройки.
– Господи, благослови нас начать строительство святого храма в честь Воздвижения Креста Твоего!
И так каждое воскресенье.
Через полтора года состоялось знакомство с Вячеславом Заренковым. Один прихожанин знал одного человека, который знал человека, знавшего известного всем основателя компании «ЛенСпецСМУ», который как раз в этот период возводил здесь, в Приморском районе, в радиусе слышимости колокольного звона, квартал «Юбилейный». Цепь замкнулась. Есть контакт.
– Вячеслав Адамович готов к вам заехать, но учтите, что у него есть всего пятнадцать минут.
В трапезной, за чаем, они проговорили часа три.
На прощание Вячеслав Адамович сказал: «Не волнуйтесь, храм мы построим».
Он ушел, а отец Евгений вспомнил алтарный возглас диакона на литургии: «Время сотворите Господеви, владыко благослови!»
Это означает, что настало время действовать Богу.
Но действует Он через людей. Мы позволяем Ему созидать через нас или не позволяем.
Не без нашей свободной воли все совершается.
У вас попросили, и вы даете – это не вы, а Бог дает вашей рукой. И во всем так. Или не так.
Был у отца Евгения один прихожанин, разведенный, очень богатый, с искрой в душе человек. Они вели переговоры о том, чтобы начать строительство. Но вдруг человек сошелся с женщиной. И когда священник в очередной раз ему позвонил, трубку сняла она.
– Вы больше мужа моего не беспокойте, – сказала она. – Мы ждем ребенка, все деньги должны идти в семью, а не на сторону.
Так и сказала – «на сторону», отделяя жирной чертой семью, которая есть «малая церковь», от Церкви Христа.
И больше отец Евгений не видел того прихожанина.
Пришло время действовать Богу, и одно из подразделений холдинга В.А. Заренкова, фирма «Эталон-проект», приступило к работе над проектом нового храма. Концепцию задавал сам Вячеслав Адамович. Думали, что выбирать: питерский стиль или псковский? Купол-маковка или как шлем?
– Надо русские купола, – сказал он. – Тут – так, а здесь нечто такое, – Вячеслав Адамович набрасывал на ватмане линии карандашом.
Отец Евгений все торопил, торопил. Мол, давайте начнем, а все вопросы с землей решатся по ходу. Но Заренков, человек опытный, на эти провокации не поддавался.
– Надо ждать, пока все окончательно не оформим. Зачем начинать строительство храма с проблем?
Время шло. Год, второй, третий, пятый! Но получить постановление правительства о выделении земельного участка никак не удавалось. Проволочки, затяжки, кадровые перестановки, дополнительные условия, изменения в земельном кодексе – казалось, этому нет конца.
Проект готов! По этому проекту – один в один, не пропадать же трудам! – Вячеслав Заренков построил храм во имя Андрея Первозванного в чужом государстве, на Кипре! А в родном Петербурге дело не двигалось с мертвой точки.
Семь лет прошло. На дворе 2016 год. И отец Евгений, видимо, уже достал Вячеслава Адамовича. Достал, но не отстал.
– 27 сентября как раз престольный праздник Воздвижения, а там и зима не за горами, – говорил он. – Давайте начнем?! Мы даже копать ничего не будем, просто привезем огромный валун, на нем установим табличку: мол, сей камень установлен на месте будущего строительства… Освятим его!
Заренков согласился. Пригласил на чин освящения высоких чиновников из министерства, правительства. Прилетел с Кипра владыка Исайя. Приехал владыка Варсонофий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
Обстановка торжественная. Настроение приподнятое. Помолились.
И вот представитель администрации зачитывает документ, в котором говорится, что ровно сегодня, 27 сентября 2016 года, на заседании правительства принято решение о выделении участка в безвозмездное пользование.
Чудо свершилось! Ведь невозможно так подгадать! Чтобы в престольный праздник Воздвижения состоялось заседание, на котором постановили выделить землю под храм Воздвижения!
Итак, это был день 27 сентября 2016 года.
Последние капли
А через месяц, 4 ноября 2016 года, в день, когда Русская православная церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери, примерно в четыре часа утра Вячеслав Адамович проснулся в своем доме на Кипре. Что за странный сон? Ему приснился медный кран в родительском доме.
В Ходулах о водопроводе никогда не мечтали. Сначала воду брали из колодца, потом пробурили скважину и установили колонки, по одной на десять жилых домов. Но мама в письмах все равно жаловалась, что руки болят и ходить за водой тяжело. Тогда Вячеслав в очередной выходной прихватил с собой пару друзей и отправился в родную деревню. Они ударно работали: выкопали траншею, проложили трубы, установили раковину. Полный дом народа собрался.
– Мама, поворачивай кран!
София Петровна, вытерев руки о фартук, осторожно повернула медную ручку краника, полилась тонкая струйка родниковой воды. Это был первый водопровод в деревне.
И вот приснилось на Кипре, что он в Ходулах. Стоит у развалин родного дома, поросших бурьяном. Отводит в сторону заросли крапивы и видит трубу, торчащую из земли, и медный кран на конце. Он поворачивает его, но вместо чистой воды в ладонь падают ржавые капли…
«Воды!»
Вячеслав Адамович привстал на кровати и решил спуститься вниз, чтоб попить. Но опять, как когда-то, – такое однажды уже случалось, – раскаленная игла пронзила грудную клетку. Так больно, так остро, что он потерял сознание. Галина проснулась от страшного звука падения.
Она вызвала «скорую», помчали в больницу. Там привели в чувство уколом и отправили в другой медицинский центр, американский. Обследовали и сказали, что «все нормально, ничего страшного». Да, шесть минут без сознания, но… «вы можете собираться домой».
Вячеслав Адамович дошел до двери и снова упал.
Операция на сердце длилась шесть часов. Как выяснилось, причина потери сознания – аритмия сердца, и справиться с ней можно только с помощью метода абляции сердечной мышцы, когда она (мышца) прижигается в определенных точках. Это кропотливая, ювелирная работа, которую опытные хирурги могут осуществить на современном оборудовании без разреза грудной клетки.
– Мы сделали все, что смогли, сказали в клинике. – Но не исключена возможность повторной операции через два-три месяца.
– А почему сделали не до конца? Так, чтобы не потребовалось повторять? – задал наивный вопрос Заренков.
– Потому что шесть часов под наркозом – это максимум. Семь часов вы бы не выдержали.
В итоге снова реанимация. Но уже в Москве.
Утром, на следующий день после операции в столичной клинике, Вячеслав Адамович проснулся здоровым.
– Как вы себя чувствуете? – спросил кардиохирург, невысокого роста, худощавый и веселый, с чувством юмора армянин.
– Все хорошо, сердца в груди даже не ощущаю.
– А мы, армяне, такие – мы сердце прикарманим себе, а пациенту об этом даже не скажем, – хирург улыбался.
– Когда мне можно домой? – поинтересовался Заренков.
– Надо еще полежать, отдохнуть.
Он ушел в сон, а когда открыл глаза, то увидел жену. Галина сидела рядом, неизвестно, как долго.
– Я ехал в Ленинград,Не знал, что ты там есть,Но ты меня ждала.Я встретил в первый разТебя среди другихИ ты меня ждала…Улыбнувшись, негромко, только для нее, произнес Вячеслав. Когда-то он сочинил эти стихи накануне Восьмого марта, возвращаясь из Лондона в Санкт-Петербург. Прямо в самолете и сочинил, в воздухе, на высоте десять тысяч метров.
Галина
– Спасибо, что живой, Слава.
– Я рад тебя видеть.
Сколько лет они уже вместе? Кажется, он знал о ней все. Знал, что где-то между Иваново и Ярославлем была станция Середа, которую позже назвали в честь земляка, писателя и революционера Дмитрия Фурманова, автора знаменитого романа «Чапаев». Символично, что Слава, так любивший фильм про Чапаева, повстречал девушку из тех мест, где родился автор романа о легендарном командарме. А потом и сам поучаствовал в съемках фильма «Чапаев-Чапаев» с режиссером Виктором Тихомировым. В их авторской версии Василий Чапаев в исполнении актера Ивана Охлобыстина не утонул в реке, а выжил и дожил до сегодняшних дней. Фильм-фантазия, фильм-оливье, в котором все перемешано густо. О нем можно спорить. Но главное – заренковский Чапаев жив и здоров, несправедливая ошибка судьбы исправлена!..
Так вот, там, в Фурманове, появилась на свет Галина. Анастасия Копрова, будущая теща Вячеслава Заренкова, родила ему жену поздновато по меркам того времени, аж в тридцать девять лет. Это был ее третий брак, Анастасии Ивановны. Первого мужа репрессировали. Вернулся он только перед войной. Его тут же призвали на фронт, где он погиб на второй год войны. От него был сын Юрий.
И второй муж погиб на войне. От него была Валя. Отцом Гали стал третий муж, фронтовик Николай Васильевич Шишов. Он форсировал Днепр, имел боевые награды и человек был неплохой. Но брак регистрировать не хотел, и в свидетельстве о рождении девочки напротив графы «отец» стояла не его фамилия, а унизительный прочерк.
Все потому что мужчин после войны на всех не хватало. Те, которые остались в живых, могли иметь и одну семью, и вторую, и больше. Они могли давать родившимся детям свою фамилию, а могли не давать, и даже не платить алименты. Таковы были реалии того времени. У Николая Шишова первая семья тоже имелась. С Анастасией Ивановной он прожил лет двенадцать и вернулся туда, к своей первой жене и выросшим детям.
А его Галя носила фамилию первого мужа своей матери – Юнисова.
В их районе не было десятилетки. Поэтому Галя, окончив восемь классов, поехала в город Иваново поступать в педучилище. Хотела стать учителем начальных классов. Перед началом вступительных экзаменов надо было сдать «музыкальный урок». Девушку завели в класс, педагог взял ноту на фортепиано, – Галя впервые увидела инструмент именно здесь! Но ни ритм, ни тональность, ни песня ей не дались.
– И хорошо, что так, – успокоила дома мать. – На какие бы деньги я учила тебя? Моя пенсия всего 52 рубля, ни на что не хватает.
Анастасия Ивановна последние годы своей трудовой жизни работала кондуктором в общественном транспорте. Она сидела на переднем сидении в вывернутом наизнанку овчинном тулупе, огромная, толстая, но очень добрая женщина.
– Не горюй, дочь, – сказала мать. – Пойдешь работать – туфли себе сможешь купить. Эх, не горюй! Эка беда – не поступила!
Настоящую беду Анастасия Ивановна знала в лицо.
Сама она родом была из Костромской губернии. Родители жили в селе, дом был в два этажа. На первом торговали, на втором жили. Продавали пряники, которые сами пекли. Деньги вкладывали то в лес, который нужен в строительстве. То в землю, на которой пахали, чтоб была своя мука для пряников. Не богато, но точно не бедно жили Анна и Иван Копровы. Рожали детей и работали, пока не пришла новая власть. Началось раскулачивание, из амбаров все выгребли, хозяйство разорили, а дом селяне подожгли из зависти.
Иван не смог этого пережить. В один час он лишился всего, что всю жизнь строил. Умом тронулся, поместили его в скорбный дом. Анна, жена его, померла вскоре. А дети пошли в люди. Анастасии тогда было четырнадцать лет. Взяли ее в соседнем селе в няньки. Работала девочка за еду. И была счастлива, когда смогла купить себе свою первую вещь – плюшевую тужурку с рукавами.
Эту тужурку она сохранила. Даже Галя ее повидала – они ею укрывали в подвале картошку, чтоб не померзла.
Анастасия в зрелых годах стала женщиной крупной. А вот родная сестра ее, Прасковья, была тоща. Она ходила целыми днями с одного конца города Фурманов на другой, не ходила, а бегала. То одна, то с попом. Они крестили детей по округе. Прасковья жила под Богом и не боялась, кто чего скажет. Анастасия дома иконы хранила, но веру никому не показывала. Да и кому это надо? В Фурманове храм переделали под овощехранилище. А потом под молочный завод. И когда тимуровский отряд, где состояла Галина, пришел сюда на экскурсию, то все объелись мороженого и от счастья так забылись, что потеряли ключ от штаба тимуровского. Никто ни слова не сказал тогда про то, что раньше здесь была церковь…
– Мама, а куда мне работать? Кто меня примет в пятнадцать лет? – вернула Галина свою мать из омута воспоминаний.
– Придумаем что-то.
Все образовалось само по себе. Женился брат, и невестка с диковинным для этой глуши именем Луиза (назвали ее так в честь героини какого-то французского фильма) сказала, что у них в процедурном кабинете есть вакансия.
Так Галя стала санитаркой в поликлинике. Приходила в самую рань, мыла полы, кипятила шприцы, фильтровала воду. К началу приема все должно быть готово. Три месяца зарабатывала она «минималку» – по тридцать семь рубликов. Купила себе туфельки на шпильке за сорок пять. При росте метр шестьдесят шпилька очень нужна. Еще бы веса прибавить, но с этим сложнее. Весила девушка меньше пятидесяти.
Потом дюймовочка устроилась на передвижную автобазу секретарем-машинисткой. Так прошло еще три года ее молодой трудовой жизни. Между делом Галя училась в вечерней школе при ткацкой фабрике и… писала стихи.
Она мечтала вырваться из маленького городка, выбиться в люди, учиться в Москве, на факультете журналистики МГУ, стать известной поэтессой. Но публикаций у Юнисовой не было, и в журналисты не взяли. Подруги предложили махнуть в Рыбинск.
– Там есть курсы, после которых направляют в Ленинград на работу!
Хоть куда-то, лишь бы сменить обстановку. Курсы готовили специалистов по обслуживанию мельниц и комбикормовых заводов. Галина получала стипендию в четырнадцать рублей. Для директора доклады печатала, за что он давал ей талоны в столовую на бесплатное питание.
По окончании курсов оказалась Юнисова в Ленинграде, на мельничном комбинате имени Кирова. Технология производства – английская. Спецодежда чистая, красивые синие комбинезоны. После работы – своя душевая. Оклад – сто четыре рубля.
Общежитие на Обуховской стороне. Нева рядом. Место потрясающее. Условия проживания барские – комната на восемь девушек, шторы на окнах, кровати по стенкам. По выходным Галина с подругой ходила кататься на коньках в парке Бабушкино. Или на стадион завода имени Ленина, там была беговая ледяная дорожка. Хватало времени и запала даже на стрелковый кружок. Юнисова стреляла из винтовки с любой позиции – стоя, с колена и лежа.
На какое-то время стихи отошли на второй план. На первом была реальная жизнь. Надо было думать, как одеться красивее – парней за Галиной много ходило. Их привлекала в этой хрупкой миниатюрной девушке ее веселость, легкость и оптимизм. Да и в подругах не было недостатка.
И однажды Соломатина Валя, бойкая девушка из Рязани, позвала Галю в общежитие, навестить брата.
Там и повстречались они. А через год подали заявление во Дворец бракосочетаний…
И вот мы во Дворце,В руках – цветы,Фамилия мояТеперь – твоя,И мы семья…Мы были молоды,Играла кровь,Мы ссорились, любя,Моя любовь!Вячеслав Адамович прекрасно понимал, что тогда, на Казанскую, 4 декабря 2016 года, он мог умереть. И думал, что даже если бы это случилось, его жизнь прошла бы не зря. Он многого добился в работе, но и в семье состоялся как муж, отец, дедушка. Однажды он записал в своем дневнике: «Человек всю жизнь ищет истину, а найдя ее, умирает. И тот, кто действительно постигает истину, умирает достойно, с покоем, а тот, кто не может ее найти, умирает в страхе все потерять».
У него не было этого страха.
Сто лет назад
Пётр Губонин к смерти относился с большим уважением. Он очень любил Гурзуф, подолгу там жил и местом своего упокоения завещал сделать это село. Заблаговременно под мраморным алтарём Успенского храма был подготовлен фамильный склеп…
Кончина его стала внезапной. На шестьдесят седьмом году жизни, 30 сентября 1894-го, грандиозного русского человека не стало. Отпевали Губонина в Москве, в храме на Пятницкой. А затем отправили тело в Гурзуф.
С великим промышленником, строителем и храмостроителем, благотворителем и меценатом прощалась Россия. Дорога от Москвы до Гурзуфа заняла больше недели. Немалую часть этого пути запаянный металлический гроб пронесли на руках. Позже рядом с Петром была похоронена и его верная супруга, Марина Севастьяновна.



