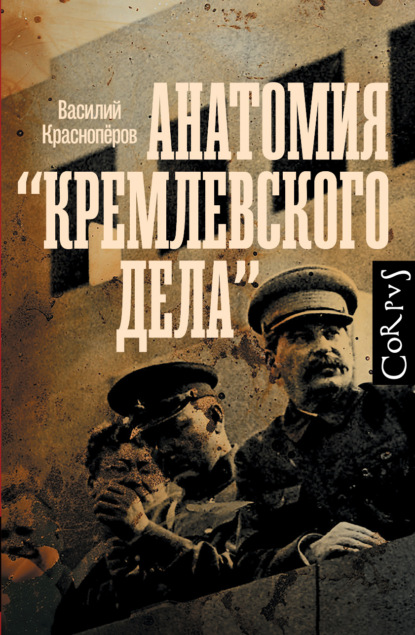
Полная версия:
Анатомия «кремлевского дела»
делопроизводителем во ВЦИКе, а затем в ЦИКе Союза с 1918 по 1927 г., а с 1927 г. я перешла на работу в Правительственную библиотеку СССР и РСФСР, где и работала по день ареста в должности сперва библиотекаря, а затем старшего библиотекаря… [На работу в Кремль] меня рекомендовал Лев Борисович Каменев, с которым я была в родстве, – была замужем за его родным братом[84].
В библиотеку Н. А. Розенфельд решила устроиться, так как захотела сменить канцелярскую работу на более квалифицированную. Она обратилась с соответствующей просьбой к М. Я. Презенту, которого знала по совместной работе в ЦИК СССР. В библиотеке Н. А. Розенфельд ведала, как это ни странно для “дворянки” и “княжны”, спецхраном, что несомненно говорит о доверии к ней со стороны начальства. В последнее время вместе с недавно принятой в библиотеку сотрудницей А. П. Егоровой (женой начальника Школы имени ВЦИК, то есть кремлевского военного командного училища, курсанты которого несли охрану Кремля) Нина Александровна занималась регистрацией и каталогизированием книг и газет, подлежащих, согласно указанию Главлита, передаче на специальное хранение.
Вероятно, Нина Розенфельд была фавориткой Енукидзе, который знал ее с 1917 года. Неизвестно, были ли между ними интимные отношения, но если и были, то, скорее всего, к началу 30‐х годов сошли на нет. С 1933 года у Енукидзе появилась новая молодая фаворитка – Елена Юрьевна Раевская. Опытная Нина Александровна понимала, что враждовать с молодой соперницей бессмысленно, будет только хуже. Поэтому она агрессии по отношению к Раевской не проявляла, и это помогло ей сохранить добрые отношения с Авелем Сафроновичем. Как следует из показаний арестованной старшей библиотекарши П. И. Гордеевой на допросе 10 февраля 1935 года,
Розенфельд и Раевская афишировали свои близкие отношения с А. С. Енукидзе. Обе говорили мне и другим сотрудникам библиотеки, что он к ним хорошо относится и что они могут через него все устроить… Мне известно, что Енукидзе устроил Раевской комнату, Розенфельд получала у него же для своего сынка-троцкиста путевки на курорт[85].
Что касается настроений Н. А. Розенфельд после 1 декабря 1934 года, то некоторое представление об этом дают показания на следствии М. В. Королькова, друга семьи Розенфельдов. Понятно, что к таким сведениям нужно подходить с крайней осторожностью, так как все сказанное арестованным на допросе изрядно искажается при отражении в протоколе (из‐за применения следователем специфических формулировок и избирательной фиксации показаний). Однако в данном случае, думается, показания близки к истине. На допросе 14 марта 1935 года Корольков вспоминал:
Когда в печати был оглашен приговор по делу Каменева и Зиновьева, – Н. А. Розенфельд, Н. Б. Розенфельд и Борис Розенфельд выражали свою радость по поводу того, что Каменев был приговорен к заключению на 5 лет… Вспоминаю такой характерный штрих – Розенфельды выражали свое возмущение тем фактом, что согласно приговору суда у Каменева было конфисковано его имущество и, в частности, его библиотека… Н. А. Розенфельд до своего ареста в разговорах со мной выражала свое опасение, что ее арестуют, когда придут арестовывать Бориса. Вспоминаю эту ее фразу почти текстуально… Этот разговор у нас с нею был наедине[86].
Отметим, что Нина Александровна оказалась совершенно права.
Семнадцатого марта 1935 года Корольков дал новые показания:
…Н. А. Розенфельд говорила мне о том, что она могла бы использовать… яд стрихнин, который она достала пару лет тому назад. Этот яд она хранила у себя в комнате – в шкафу. Она говорила также (что было незадолго до ее ареста) о том, что она использует этот яд для себя в момент, когда ее будут арестовывать… Яд она достала года два тому назад[87].
Из последней цитаты нами изъяты все фрагменты, связанные с выдуманным чекистами сюжетом о намерении Нины Александровны отравить Сталина. Думается, что после этих купюр показание Королькова стало более точно отражать трагическую реальность: с момента ареста Каменева все его родственники, близкие и дальние, в одночасье стали заложниками режима. Ожидание расправы было поистине тяжелейшим испытанием.
До октября 1934 года Нина Александровна жила с сыном в 5‐м доме Советов (Романов переулок, недалеко от Кремля), а потом (получив от Енукидзе в качестве пособия 500 рублей) переехала в дом “Кремлевский работник” на Малой Никитской улице. Оттуда ее и увезли на Лубянку. Дату ареста Н. А. Розенфельд можно попытаться подтвердить документально. М. В. Корольков на допросе 14 марта 1935 года показал о том, что 30 января узнал об аресте Нины Александровны от ее бывшего мужа; вскоре и сам он был арестован – по‐видимому, в ночь на 1 февраля 1935 года. А вот муж Е. Ю. Раевской, С. П. Раевский, на допросе 21 марта 1935 года сообщил, что
после ареста Розенфельд Н. А. жена мне сообщила об этом, причем она объяснила арест Розенфельд тем, что последняя была связана с Каменевым Л. Б.[88].
Значит, Нина Александровна была арестована раньше Лёны Раевской, то есть до 29 января 1935 года (дата ареста Лёны подтверждена документально). Поэтому логично предположить, что Розенфельд была арестована одновременно с сыном Борисом 27 января. Отметим, что в краткой справке, предваряющей протоколы допросов Нины Александровны, в качестве даты ареста Бориса почему‐то указано 31 января 1935 года. Однако, как зафиксировано в одном из протоколов его допроса, арестован он был все же 27‐го (да и сам протокол начинается с вопроса следователя: “На допросах от 28 и 29 января сего года Вы показали, что в 1928 г. Вы порвали с троцкизмом”[89]).
12
Елена (Лёна) Раевская, урожденная княжна Урусова, родилась в Москве 9 августа 1913 года (по старому стилю). Отец – Юрий Дмитриевич Урусов, представитель княжеского рода Урусовых. Перед революцией занимал должность товарища прокурора Московского окружного суда, а после февраля 1917‐го состоял и членом Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, учрежденной Временным правительством. Мать – Евдокия Евгеньевна Урусова, урожденная Салиас‐де-Турнемир. Старшая сестра – Евдокия (Эда) Урусова – актриса, впоследствии народная артистка РСФСР (дважды арестовывалась, в 1938 и 1947 годах). В семье также было два сына – Никита и Кирилл. Лёна училась в школе № 5 им. Калинина Хамовнического района (Знаменка, 12). Эта школа находилась недалеко от ее дома, расположенного по Большому Знаменскому переулку; изначально она была опытно-показательной, но к 1928 году была преобразована в простую семилетку. В 1929–1930 годах обучалась Лёна на спецкурсах иностранных языков (немецкого и английского) при школе № 25 Бауманского (тогда – Баумановского) района. С будущим мужем, Сергеем Раевским, она познакомилась в 1928 году, а в 1930 году, 13 июля, не дожидаясь 17‐летия Лёны, они с Сергеем объявили себя женихом и невестой. 20 января 1931 года обвенчались, а 27‐го официально зарегистрировали брак. В 1931 или 1932 году Лёна окончила еще и библиотечные курсы и поступила на работу в библиотеку Наркомата связи, располагавшуюся в здании Телеграфа на Тверской улице. Квартирный вопрос решили с помощью сестры отца Лёны – та уступила им одну из комнат в собственной кооперативной квартире по адресу Кропоткинский (бывший Штатный) переулок, д. 5а. 2 декабря 1931 года у супругов родился сын Кирилл. В 1932 году Лёне предложили место библиотекаря в Институте красной профессуры с более высоким окладом. В этот же год и Сергей перешел на должность инженера во Всесоюзном электротехническом институте (и даже добился в связи с этим установки в квартире телефона). Казалось бы, жизнь начала налаживаться. Однако эти события происходили на фоне “сплошной коллективизации”, вызвавшей страшный голод в ряде областей страны. В полной мере ощущался голод и в Москве. Вдобавок ко всему молодая семья столкнулась с жилищной проблемой – им по решению суда угрожало выселение из комнаты в ставшей коммунальной квартире по Кропоткинскому переулку (мужа тетки арестовало ГПУ, и хозяйка квартиры, автоматически ставшая “лишенкой”, потеряла право на жилище). Пришлось понервничать и из‐за паспортизации – опасались, что им как “классово чуждым элементам” могут не выдать паспорта и тем самым вынудят уехать из Москвы. Летом 1933 года в жизни супругов произошло событие, роковым образом изменившее их жизнь. Более полувека спустя Сергей Раевский вспоминал:
Мы еще жили на даче, когда моя жена вернулась с работы и сообщила, что библиотека Института красной профессуры ликвидируется и всех ее сотрудников распределяют по разным местам. В то время не существовало безработицы, и каждый из работников библиотеки мог получить подходящую для себя работу… Моей жене дали направление в библиотеку ЦИК СССР, расположенную в здании правительства в Кремле. Место весьма престижное, но не вполне подходящее для дочери князя Урусова. Вопрос обсуждался на семейном совете при участии моего тестя Юрия Дмитриевича Урусова. Он как арбитр высказался так: “Все зависит от решения, которое примет ЦИК, учитывая анкету, в которой будут отмечены все сведения, в том числе и происхождение. И если Лёнушку зачислят на работу, невзирая на происхождение, то тогда бояться нечего”. Юрий Дмитриевич добавил, что ему известно о ряде лиц дворянского происхождения, работающих в аппарате ЦИК[90].
Возможно, отсутствие решительных возражений Ю. Д. Урусова по поводу работы Лёны в Кремле объясняется некоторыми фактами биографии Юрия Дмитриевича и его брата Сергея Дмитриевича. Последний, несмотря на былой княжеский титул и должность товарища министра внутренних дел Временного правительства, в 1929 году добился от Президиума ВЦИК назначения ему пенсии, о чем перед Н. А. Углановым ходатайствовал сам Ю. Л. Пятаков[91]. Юрий же Дмитриевич по постановлению Президиума ВЦИК был в 1923 году в составе коллектива награжден орденом Трудового Красного Знамени за исследование Курской магнитной аномалии, а годом позже получил удостоверение о распространении на него привилегий звания “Герой труда”[92]. Так что на семейном совете вопрос с трудоустройством Лёны решился положительно. На допросе в НКВД 8 февраля 1935 года Лёна уточнила обстоятельства перехода на работу в Кремль:
Рекомендовал меня покойному [председателю месткома ЦИК СССР. – В. К.] Акопову Сурену тов. Измайлов, бывший заведующий культпропом ЦК Азербайджанской компартии, который сейчас учится в ИКП. Измайлова я знаю с 1932 г., познакомилась с ним в Москве, когда работала в библиотеке ИКП[93].
На новом месте работы Лёна, похоже, несмотря на титул “бывшей княжны”, не вполне поладила с другими представительницами “дворянского гнезда” – возможно, из‐за разницы в возрасте. Она была совсем молоденькой – на момент поступления на работу в Кремль ей едва исполнилось 20 лет. Один только этот факт вполне мог вызвать неприязнь со стороны 47‐летней Нины Розенфельд и 35‐летней Екатерины Мухановой. На допросе 10 февраля 1935 года Муханова показала:
Мне известно, что эта женщина легкого поведения; на работу в Кремль она поступила благодаря сожительству с покойным Акоповым. Работая в библиотеке, Раевская была в интимных отношениях с рядом сотрудников Кремля (Губерманом, Уваровым). Обо всем этом мне говорила Бураго[94].
А Нина Розенфельд 12 февраля 1935 года осторожно подтвердила показания Мухановой:
Действительно, в последнее время среди сотрудников Кремля было много отрицательных разговоров о поведении Раевской[95].
Разумеется, и бывшая дворянка Н. И. Бураго, сотрудница кремлевской библиотеки, арестованная по “кремлевскому делу”, вынуждена была подтвердить показания Мухановой на допросе 8 марта 1935 года:
Раевская – женщина легкого поведения и заводила широкие связи среди сотрудников кремлевских учреждений.
Ей вторила сотрудница аппарата ЦИК СССР Р. Г. Миндель, охарактеризовавшая Лёну на допросе 16 марта 1935 года следующим образом:
Раевская – бывшая княжна, сотрудница Кремлевской библиотеки, женщина легкого поведения[96].
Такая схожесть показаний говорит либо о намерении чекистов назначить Лёне Раевской определенное амплуа для дальнейшего использования в разворачивающемся на глазах сценарии, либо о действительности некоторых фактов, на которых строились показания. Кроме того, женщины (за исключением Натальи Бураго) могли испытывать по отношению к Лёне чувство ревности, воспринимая ее как возможную соперницу по влиянию на любвеобильного Енукидзе, на расположении которого зиждилось их зыбкое благополучие.
При оформлении Лёны на новую работу сама судьба, казалось, преподнесла ей грозное знамение, вняв которому она, возможно, смогла бы предотвратить трагический исход: ОГПУ выступило против ее зачисления на работу в Кремль из‐за “чуждого” соцпроисхождения, и комендант Кремля все тянул и тянул с выдачей ей постоянного пропуска в цитадель мировой революции. Но Енукидзе уже заметил ее – циковские красотки тревожились не зря. Не имея постоянного пропуска, Лёна была вынуждена все время заходить в Секретариат ЦИК, чтобы ставить штемпель на выдаваемые ей разовые пропуска. Не мог Авель Сафронович остаться равнодушным к появлению новой молодой и симпатичной сотрудницы в подведомственном ему учреждении. Он распорядился, чтобы комендант пропуск выдал вопреки настояниям чекистов, а от их предупреждений о неподходящем соцпроисхождении новой сотрудницы попросту отмахнулся. События развивались довольно быстро. Муханова рассказывала на допросе:
[Старший референт по протокольным делам Секретариата Президиума ЦИК. – В. К.] Трещалина сообщила Розенфельд, что А. С. Енукидзе понравилась Раевская, и он просил ее привезти к нему на дачу. Аналогичное приглашение от Енукидзе получила через Трещалину и Розенфельд. Это приглашение было принято, и поездка на дачу состоялась… Мне известно, что после посещения Раевской дачи А. С. Енукидзе она получила приглашение и была в правительственной ложе Большого театра, а также получала билеты на Красную площадь[97].
Похоже, однако, что первоисточником этих сведений была опять‐таки Людмила Буркова, чьи неумеренное любопытство и склонность к сплетням не знали границ и явно носили болезненный характер: на допросе, официально датированном 10 февраля, а фактически состоявшемся еще в январе, Клавдия Синелобова показывала:
От Бурковой знаю, что Раевская с Акоповым сожительствовала… Раевская вообще старалась заводить связи, которые помогли бы ей укрепить ее положение. Она в разговорах со мной ссылалась на то, что имеет влиятельных друзей, которые оказывают ей содействие в различных вопросах. Среди них называла А. С. Енукидзе. Буркова мне говорила, что Раевская сожительствует с А. С. Енукидзе и ездит к нему на дачу. Через него она получила квартиру и билет на Красную площадь в 1934 г.[98].
Имея на руках все эти показания, следователь Каган (под руководством заместителя СПО ГУГБ Г. С. Люшкова) нажал на Розенфельд, пытаясь заставить ее признаться в том, что она играла роль “сводницы в отношении Раевской”, “поставщика живого товара” для Енукидзе. Однако Нина Александровна отвергла это утверждение:
Еще раз заявляю, что близких отношений с Раевской у меня не было. Действительно, был случай, когда я с Раевской были в правительственной ложе Большого театра и были с ней в гостях у А. С. Енукидзе на даче по его приглашению[99].
Сама Лёна на допросе 8 февраля 1935 года не отрицала свою связь с Енукидзе:
Ко мне хорошо относился А. С. Енукидзе, и я рассматривала его отношение ко мне как покровительственное. Осенью или в начале зимы 1933 г. сотрудница библиотеки Розенфельд вместе с сотрудницей ЦИКа Союза Трещалиной передали мне приглашение Енукидзе А. С. поехать к нему на дачу, при этом Розенфельд заметила, что “А. С. будет мне очень рад”. После этого я несколько раз была на квартире, на даче и в служебном кабинете Енукидзе, ездила с ним в Большой театр в правительственную ложу[100].
Разумеется, теперь, при столь резко изменившемся положении, жилищно-бытовые проблемы Раевских были незамедлительно решены. Лёна рассказала следователю:
Когда у меня возникли неприятности по поводу комнаты на Кропоткинском переулке, куда я незаконно въехала, я обратилась к Енукидзе А. С., и он все урегулировал. Помню также, что когда я в 1933 г. обратилась к Енукидзе с просьбой, он дал мне билет на Красную площадь на парад в связи с октябрьскими празднествами[101].
О решении квартирного вопроса упоминает в мемуарах и муж Лёны Сергей Раевский, который либо не был посвящен в интимные подробности отношений своей жены с Енукидзе, либо не захотел поднимать эту тему в мемуарах:
Лёна подала вторичное заявление в Президиум ЦИК с просьбой выделить ей одну комнату в любом районе города, так как ее выселяют с семьей в десятидневный срок. Через несколько дней ей выдали ордер на комнату семнадцать квадратных метров на первом этаже дома № 25 по Большой Садовой улице. Мы незамедлительно туда направились. Комнату прежде занимал сотрудник ВЦИК, получивший отдельную квартиру… В это время ломовых извозчиков уже не было, грузовых такси еще не было – словом, любой переезд представлял проблему. Жене пришлось обратиться с этой просьбой в местком, и ей выделили грузовую машину[102].
Интересно, что в ордере на производство ареста и обыска квартиры Лёны Раевской указан другой адрес – Тверской-Ямской переулок, д. 12, кв. 116. Однако в 1935 году Тверской-Ямской переулок располагался параллельно Большой Садовой (на месте нынешней ул. Гашека), так что речь может идти об одном и том же адресе.
Словом, Лёна Раевская действительно сделалась новой фавориткой Енукидзе. В этом он фактически сам признался в покаянном письме Ежову от 29 мая 1935 года в преддверии июньского пленума ЦК, на котором его исключили из ВКП(б):
Я дал распоряжение о зачислении Раевской в сотрудницы библиотеки, где она уже работала несколько месяцев, проходя стаж проверки, добавив: “если против приема Раевской других данных, кроме ее социального происхождения не имеется”… Из арестованных в библиотеке сотрудников я знаю только Розенфельд, работавшую у нас еще с 1917 года, и Раевскую[103].
Особое расположение Енукидзе к Раевской подтверждается сведениями, содержащимися в показаниях секретаря Енукидзе Л. Н. Минервиной от 21 марта 1935 года:
Летом 1933 г. я случайно услышала разговор Енукидзе с [комендантом Кремля] Петерсоном о Раевской. Разговор этот вытекал из вопроса о выдаче постоянных пропусков в Кремль. Петерсон говорил Енукидзе о том, что Раевской не следовало бы давать постоянный пропуск и что вообще нужно было бы снять ее с работы в Кремле.
А также в письме коменданта Кремля Петерсона секретарю ЦК ВКП(б) Н. Ежову от 24 мая 1935 года:
Выдача постоянного пропуска Раевской по просьбе Заведующего Секретариатом ЦИК Союза вызвало у меня сомнение. Заведующий Секретариатом ЦИК Союза т. Терихов звонил мне дважды по телефону о выдаче Раевской и еще двум сотрудницам библиотеки постоянных пропусков и напоминал. Я просил личного мне подтверждения т. Енукидзе, и при личном докладе т. Енукидзе подтвердил мне о выдаче постоянного пропуска Раевской, что мною и было выполнено[104].
Настоящий же характер отношений Енукидзе и Лёны Раевской навсегда останется тайной. Сам Енукидзе, выступая на пленуме и отчаянно защищаясь от нападок однопартийцев, категорически заявил:
Я очень сожалею, что тут были притянуты вопросы личного разложения, сожительства с некоторыми и т. д. Я здесь, товарищи, совершенно откровенно вам говорю, что ни с кем из арестованных… я не сожительствовал. Абсолютно. И по‐моему, раз это было повторено здесь, то это заставляет меня еще раз перед вами это сказать[105].
По многим показаниям арестованных библиотекарш и других работниц аппарата ЦИК, Раевская искала знакомств и с другими сотрудниками кремлевских учреждений. А арестованная секретарша консультационной части Секретариата Президиума ЦИК В. А. Ельчанинова утверждала на допросе, что Е. Раевская сожительствует с консультантом комиссии по частным амнистиям Е. А. Уваровым[106].
Когда чекистское начальство решило привлечь по “кремлевскому делу” библиотекарш Правительственной библиотеки, Лёну Раевскую арестовали одной из первых. Муж Лёны Сергей Петрович, переживший Большой террор, позже вспоминал:
В семье Урусовых, если случались аресты, всегда оканчивавшиеся возвращением домой, обращались к Н. А. Семашко: дочь его, подруга Эды, всегда охотно бралась помочь. Но на этот раз она, вернувшись “оттуда”, сказала, что наткнулась на каменную стену. Никто не пожелал ее не только выслушать, но даже принять[107].
13
Анализ показаний арестованных по “кремлевскому делу” приходится проводить по доступным в настоящее время протоколам допросов (малая часть этой работы выполнена в разделе о следствии над кремлевскими уборщицами). Речь идет о протоколах, которые направлялись чекистами Сталину и Ежову. Из сопоставления протоколов, хранящихся в фонде Ежова (Ф. 671), частично в личном фонде Сталина (Ф. 558) в РГАСПИ, и тех, что опубликованы в сборнике “Лубянка. Сталин и ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936” со ссылкой на АП РФ, видно, что Ежову в начальный период следствия не присылались некоторые сопроводительные записки Ягоды к протоколам с изложением хода следствия. Это могло быть связано с тем, что Ежов подключился к следствию не с самого начала, а, по‐видимому, лишь со второй декады февраля (с 11 января по 19 февраля Ежов даже не появлялся в кабинете у Сталина в Кремле). 12 февраля 1935 года начальник СПО ГУГБ Г. А. Молчанов направил Ежову экземпляр № 6 “Сборника № 1 протоколов допросов по делу – Дорошина В. Г., Лукьянова И. П., Синелобова А. И., Мухановой Е. К. и др.”[108]. После этого Ежов стал своевременно получать копии протоколов, направляемых Сталину (но при этом все равно сопроводительные записки, предназначенные для Сталина, были более подробными, с перечислением мер, планируемых чекистами, а Ежову в качестве сопроводительных записок слали лишь перечни протоколов допросов). Понятно, что чекисты направляли “наверх” далеко не все протоколы допросов, а лишь тщательно отобранные и отредактированные. Для полного изучения “кремлевского дела” необходим доступ ко всем его документам, хранящимся в Центральном архиве ФСБ. Однако уже сейчас ничто не может нам помешать проанализировать те показания, доступ к которым не затруднен, с той оговоркой, что из‐за неполноты картины имеются серьезные затруднения в реконструкции логики следствия. К тому же целесообразность анализа “кремлевского дела” лишь по документам из фонда Ежова в РГАСПИ оправдывается тем обстоятельством, что отчеты наверх, циркулярное письмо ЦК, а впоследствии и сообщение на июньском пленуме ЦК 1935 года – то есть конечные результаты всего “дела” – вырабатывались Ежовым на основе именно этих документов.
Думается также, что при анализе следует исходить из того, что задачей следствия было отнюдь не раскрытие совершенного преступления, а его сочинение, изобретение, то есть демонстрация того, что вымышленные “хозяином” вражеские действия действительно имели место; поэтому можно констатировать, что у следствия изначально имелась определенная заданная руководством цель и, соответственно, некая, пусть на первых порах весьма нечеткая и неконкретная, схема “преступления”, под которую подгонялись показания подследственных. Эта схема уточнялась, конкретизировалась и корректировалась по ходу следствия в зависимости от получаемых следователями показаний, предсказать содержание которых целиком заранее было все‐таки невозможно.
14
Как уже говорилось, следственные действия по “кремлевскому делу” начались 20 января 1935 года, не исключено, что после совещания в кабинете у Сталина днем ранее. На совещании присутствовали нарком внутренних дел Ягода и начальник Оперода Паукер, которые вошли в кабинет в 16.10. В 16.35 к ним присоединился Каганович. В 17.00 вошли Енукидзе и комендант Кремля Петерсон, в 17.40 пришел Ворошилов. Енукидзе пробыл в кабинете всего один час. Петерсон, Ягода и Паукер задержались еще на 40 минут[109]. Возможно, именно в этот день Сталин дал команду выяснить, кто распространяет неприятные ему сплетни. Что же заставило Сталина инициировать “кремлевское дело”? Анализ донесений осведомителя о разговорах уборщиц позволяет сделать вывод, что привести его в ярость могло высказывание уборщицы Авдеевой о том, что он “убил свою жену”. Две других уборщицы лишь выразили зависть по поводу слишком роскошной, по их мнению, жизни Сталина или отрицательных черт его характера, что вождя вряд ли задело бы столь сильно. Именно Авдеева была допрошена в первую очередь и первой была арестована. Из докладной записки Ягоды № 55173 от 20 января 1935 года[110] мы знаем, что вслед за Авдеевой были намечены к аресту уборщицы Катынская и Константинова, но дальше – информационный провал. Непонятно, как именно развивались дальнейшие события. В следующей докладной записке № 55270 от 2 февраля 1935 года[111] за подписью заместителя председателя ОГПУ (sic!) Агранова со ссылкой на № 55173 приводятся дополнительные сведения: арестованы уборщицы Катынская и Константинова, а также телефонистка Кочетова и письмоносица Орлова. И неожиданно сообщается, что арестованы сотрудницы библиотеки Синелобова, Розенфельд и Раевская, причем именно от Синелобовой были получены инкриминирующие показания в отношении двух последних. Каким образом следствие вышло на Клавдию Синелобову – не сообщается. В качестве одной из версий можно осторожно предположить, что Синелобова была секретным сотрудником СПО НКВД и чекисты использовали привычную схему фабрикации “липовых” дел, жертвуя для этого своим агентом, – данная версия вполне объясняет успешное “выдвижение” беспартийной Синелобовой из уборщиц в библиотекари, над коим подтрунивал Сталин. Можно сделать еще одно предположение: Синелобова была арестована первой из сотрудников библиотеки, может быть на день раньше Розенфельд. Первый протокол ее допроса датирован 10 февраля, но по его содержанию, которое Агранов пересказал Сталину еще 2 февраля, видно, что эти показания были даны намного раньше и именно они легли в основу всех арестов, упомянутых в докладной записке Агранова № 55270.



