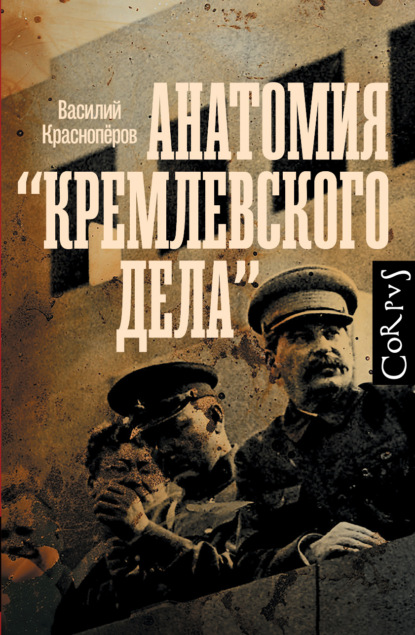
Полная версия:
Анатомия «кремлевского дела»
Шестого января Сталин разослал эту записку членам и кандидатам Политбюро, секретарю ЦК Жданову и самому Енукидзе. Енукидзе тут же сочинил ответ, который дошел до Сталина 8 января и был разослан аналогичным образом. В тот же день от Мехлиса Сталину поступила та самая брошюра о бакинских типографиях с отмеченными “сомнительными” местами. Сталин внимательно просмотрел ее и оставил свои замечания. Например, над пассажем “Сравнительно недавно на историческом фронте обнаружилось, как люди извращают историю нашей партии. Даже такие события, которые у всех еще в памяти… некоторые “историки” пытаются извратить…” – Сталин саркастически выводит: “Именно!” Или рядом с описанием встречи Енукидзе с “молодым тогда членом партии – товарищем Сталиным, Кобой или Сосо, как он тогда назывался”, – Сталин пишет на полях: “А сам был немолодой член партии?”[16] Вождь и не думал скрывать своего раздражения по поводу писаний Енукидзе, и тот понял, что нужно срочно оправдываться (Енукидзе в то время приходилось параллельно работать над проектом постановления VII съезда Советов, посвященного внесению в Конституцию СССР поправок, касающихся изменения системы порядка выборов органов власти; проект был направлен Сталину 10 января). Шестнадцатого января в “Правде” появляется пространная статья Енукидзе с очередным исправлением ошибок. Но по зловещему стечению обстоятельств в этом же номере главного партийного органа напечатаны сообщения об открывшемся 15 января 1935 года в Ленинграде процессе “Московского центра” (который 16 января и закончился) и о приговорах к различным тюремным срокам и ссылке, вынесенных Особым совещанием НКВД семидесяти восьми сторонникам Зиновьева. И все же казалось, наверное, Авелю Сафроновичу, что досадное недоразумение ликвидировано и вопрос закрыт.
Но для Енукидзе это было лишь началом большого пути – вниз.
3
Историк Юрий Жуков, получивший широкую известность благодаря апологетической концепции “иного Сталина”, связывает начало “кремлевского дела” с доносом “о существовании заговора с целью отстранения от власти узкого руководства, к которому якобы были причастны Енукидзе и Петерсон”; об этом Сталину будто бы по‐родственному сообщил его шурин Александр Сванидзе в первых числах января 1935 года[17]. Жуков, впрочем, точных ссылок на источник этих знаний не приводит, ограничиваясь туманной формулой “ЦА ФСБ”. Ввиду серьезных сомнений в добросовестности этого историка, верить ему на слово нет никаких оснований. Поэтому зададимся вопросом: что именно могло побудить А. С. Сванидзе (в то время заместителя председателя правления Внешторгбанка) донести на Енукидзе? Пожалуй, единственным поводом для написания доноса могли стать сведения, полученные Александром Семеновичем от сестры, Маро (Марии) Сванидзе, сотрудницы Секретариата Президиума ЦИК, трудившейся под началом Енукидзе (по воспоминаниям Ирины Гогуа, Маро “работала секретарем у Енукидзе по линии Грузии”[18], однако официально числилась переводчицей с 10 ноября 1928 года). Теоретически М. С. Сванидзе как секретарь-переводчица могла каким‐то образом увидеть донесения осведомителя комендатуры Кремля о слухах, распространяемых кремлевскими уборщицами, и сообщить брату о том, что Енукидзе не желает принимать мер для пресечения сплетен. Однако от сплетен уборщиц до “заговора с целью отстранения от власти” путь длинный, и проделать его в одиночку А. С. Сванидзе вряд ли бы дерзнул. Но если бы был иной повод, то и чекисты должны были бы реагировать иначе – начинать следственные действия не с арестов и допросов уборщиц, а с работы по другим “фигурантам”, которые могли быть указаны в доносе Сванидзе. Впрочем, насколько мы знаем, никто из современников публично не упоминал о том, что поводом к созданию “кремлевского дела” стал донос Сванидзе; например, Ежов в ходе многочисленных докладов о следствии по “кремлевскому делу”, говоря о его истоках, использовал нейтральные фразы вроде “стало известно”, “было обнаружено” и т. п. В любом случае в архиве Ежова никаких данных о доносе Сванидзе не имеется. Неужели факт существования доноса чекисты держали в тайне от Ежова? В это трудно поверить – ведь Ежову (чья карьера после февральского пленума 1935 года продолжала стремительный взлет к постам секретаря ЦК и председателя КПК ВКП(б)) дублировали все важнейшие документы по “кремлевскому делу”, направляемые Сталину. К тому же Ежов и сам был в приятельских отношениях с А. С. Сванидзе. Арестованный много позже по делу самого Ежова его племянник А. Н. Бабулин (который постоянно жил у Ежова с 1925 по 1935 год) рассказывал на допросе 18 апреля 1939 года:
У Ежова и его жены Евгении Соломоновны был обширный круг знакомых, с которыми они находились в приятельских отношениях и запросто их принимали в своем доме. Наиболее частыми гостями в доме Ежова были: Пятаков; быв. директор Госбанка СССР – Марьясин; быв. зав. иностранным отделом Госбанка – Сванидзе, быв. торгпред в Англии – Богомолов, редактор “Крестьянской газеты” – Урицкий Семен; Кольцов Михаил; Косарев А. В.; Рыжов с женой; Зинаида Гликина и Зинаида Кориман[19].
Судя по всему, “кремлевское дело” родилось на свет примерно в то время, когда большая статья Енукидзе с признанием ошибок была напечатана “Правдой”. Тогда же, видимо, до Сталина через НКВД дошли сведения о вялой реакции Енукидзе на антисоветские высказывания, прозвучавшие на подведомственной ему территории (особую ярость вождя, наверное, вызвали слова уборщицы Авдеевой о том, что он якобы убил свою жену). Видимо, совпадение по времени этих двух событий значительно усилило раздражение Сталина. 19 января Енукидзе и комендант Кремля Петерсон побывали в кабинете у вождя, встретившись там с Ягодой и Паукером (начальником Оперативного отдела Главного управления государственной безопасности НКВД). Тогда и последовало, по‐видимому, распоряжение Сталина шефу тайной полиции разобраться, кто же является источником подлых сплетен и не стоит ли за клеветой нечто большее (о том, что первопричиной возникновения “кремлевского дела” было именно недовольство Сталина сплетнями о его персоне, свидетельствует не прекращавшийся на протяжении всего следствия интерес чекистов к “клевете” на вождей, а также упорная и подробная фиксация этих “наветов” в протоколах допросов). Так началось следствие по делу под кодовым названием “клубок” (такие названия чекисты обычно давали агентурным делам, разработка которых предшествовала аресту лиц, по этим делам проходящих; в настоящее время неизвестно, когда именно это агентурное дело было заведено и какой круг лиц оно охватывало). Само кодовое название стало известно благодаря публикации протокола допроса Ягоды от 26 мая 1937 года, хотя уже на июньском (1935 г.) пленуме ЦК член политбюро С. В. Косиор в своем выступлении в прениях на заседании, посвященном “кремлевскому делу”, подчеркнул:
Несомненно, что здесь мы имели дело не только с одними троцкистами и зиновьевцами. В деле Кирова и здесь сейчас же протягивается рука иностранной контрразведки, шпионов, – это один общий клубок[20].
Чекисты еще и потому рьяно взялись за дело, что уже давно точили зуб на Енукидзе, который не только зачастую игнорировал их “сигналы” в отношении тех или иных работников Секретариата ЦИК, но, как жаловался Ягода на июньском пленуме 1935 года, еще и “завел в Кремле свое параллельное “ГПУ”, и как только выявлял нашего агента, он немедленно выгонял его”[21]. Некоторые исследователи считают, что интерес Ягоды заключался в стремлении переподчинить себе охрану Кремля, которая с давних пор находилась в ведении коменданта Р. А. Петерсона (впрочем, еще в 1925 году именно Дзержинский предложил подчинить охрану всех без изъятия помещений Кремля исключительно Петерсону). К тому же, когда самого Ягоду допрашивали в НКВД 26 мая 1937 года, он признался:
Я сообщил тогда же в ЦК, что Петерсон подслушивает правительственные разговоры по кремлевским телефонам (кабинет Петерсона находился рядом с телефонной станцией Кремля). Узнал я об этом из агентурных материалов, и мне вовсе не хотелось, чтобы и мои разговоры по телефонам контролировались Петерсоном[22].
Однако где тут причина, где следствие и как развивались дальнейшие события, к сожалению, доподлинно не известно, и ход событий прослеживается лишь фрагментарно. Вот что рассказывал об истоках “кремлевского дела” Н. И. Ежов на июньском пленуме ЦК:
В начале текущего года было обнаружено, что ряд служащих Секретариата ЦИК СССР и комендатуры Кремля систематически распространяет контрреволюционную клевету с целью дискредитации руководителей партии – Сталина, Молотова, Калинина, Ворошилова. Острие этой клеветы было направлено прежде всего против товарища Сталина. Характер распространяемой клеветы не вызывал сомнений в том, что она исходит из среды наиболее политически враждебных нам элементов и имеет своей целью создать обстановку озлобленности вокруг товарища Сталина. Комендант Кремля тов. Петерсон, который получил сведения о лицах, распространявших эту клевету, доложил о них тов. Енукидзе. Вам известно, что тов. Енукидзе фактически отвечал за весь порядок в Кремле, в том числе и за охрану. Сообщениям Петерсона он не придал никакого серьезного значения и отнесся к ним самым преступным, недопустимым для коммуниста, легкомысленным образом. Совершенно случайно все эти сведения дошли до Политбюро ЦК. ЦК предложил тщательно расследовать все эти факты, совершенно правильно считая, что за ними кроются более серьезные вещи[23]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Иосиф Сталин в объятиях семьи. Сборник документов. Родина, edition q, Берлин, Чикаго, Токио, Москва, 1993, с. 182.
2
Иосиф Сталин в объятиях семьи. Сборник документов. Родина, edition q, Берлин, Чикаго, Токио, Москва, 1993, с. 186–187.
3
Троцкий Л. Д.Портреты революционеров. М.: Московский рабочий, 1991. С. 146.
4
Советское руководство. Переписка.1928–1941 гг. М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 1999, с. 240.
5
Советское руководство. Переписка.1928–1941гг. М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 1999, с. 301.
6
Правда, № 336, 7 декабря 1934 г., с. 2.
7
Там же. С. 1.
8
Там же. С. 2.
9
Там же.
10
Там же.
11
Там же. С. 4.
12
Lenoe, Matthew E.The Kirov Murder and Soviet History. Yale University Press. New Haven and London. 2010. Документ 109. Pp. 567–568.
13
РГАНИ. Ф. 6. Оп. 13. Д. 25. Л. 119.
14
Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов (Россия. XX век. Документы). Под общ. ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. Л. В. Максименков. М.: МФД, Материк, 2005. с. 351–355.
15
На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924–1953гг.). Справочник. М.: Новый хронограф, 2008, с. 148.
16
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 728. Л. 67–107.
17
Жуков Ю. Н.Иной Сталин. М.: Вагриус, 2005, с. 175–176.
18
Червакова И.Песочные часы: История жизни Ирины Гогуа в восьми кассетах, письмах и комментариях. Дружба народов, 1997, № 4, с. 59–104; № 5, с. 75–119. Электронное издание, https://vgulage.name/books/gogua-i-k-pesochnye-chasy-avtor-chervakova-i/, с. 21.
19
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 375. Л. 63–64.
20
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 542. Л. 104.
21
Там же. Л. 178.
22
Генрих Ягода. Сборник документов. Казань, 1997, с. 191.
23
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 542. Л. 57.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



