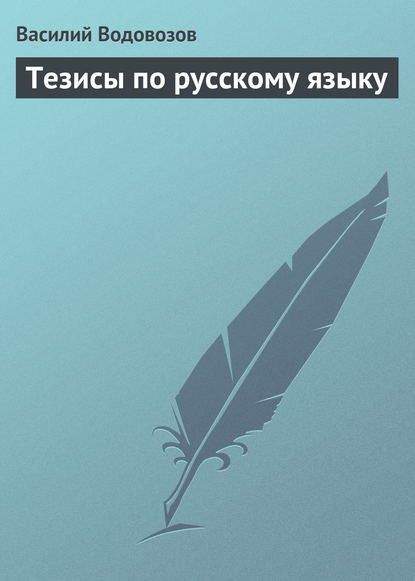 Полная версия
Полная версияТезисы по русскому языку
1. При объяснении природы внешней легче всего усвоить те логические понятия о роде и виде, целом и частях, количестве и качестве и проч., которые ведут к определению частей речи. В конце первого курса я уже полагаю возможным перейти к названиям этих частей и кратко объяснить самый состав суждения, чтобы потом при изучении языка уже слишком не развлекать этими логическими мудростями: при знакомстве с живыми предметами сама логика является живым знанием; при отвлеченном объяснении форм речи она может обратиться в самую мелочную схоластику. Все эти разборы по вопросам: кого? что? какой? куда? – покажутся страшно сухи, если мы наперед не познакомим с живыми действиями и отношениями предметов.
2. Под впечатлениями природы внешней образуется первоначальный, образный язык человека. Постоянно оживляя в душе эти впечатления, мы тем самым облегчим изучение живых форм: грамматика явится не отвлеченною наукой, а прямо выходящею из жизни народной. Это особенно важно в отношении к русскому языку, который ближе других к своему естественному, природному состоянию.
3. Наконец, как мы уже заметили, с чтением статей, имеющих предметом описания природы внешней, идет параллельно чтение народных сказок, песен, басен или других стихотворений легкого содержания. Первое чтение необходимо как приготовление ко второму. Замечу здесь, что статьи как первого, так и второго рода должны быть по возможности приноровлены к знакомству с нашею природою и с нашим народным бытом.
Остается еще один вопрос: может ли учитель русского языка заниматься подобными объяснениями природы? Мне кажется, что не стоило бы большого труда приобресть столько сведений, сколько нужно для этих объяснений. Ведь так или иначе, а в низших классах все равно придется делать наглядные толкования, хоть бы и при вещественном разборе. Хорошая книга, принятая в руководство, могла бы очень облегчить труд преподавателя, и его занятие было бы для него самого несравненно приятнее, чем постоянно дергать только за логические нитки: кто? что? какой? куда? когда? – мало объясняя сущность тех предметов, о которых говорится.
В. Мы до сих пор говорили только о занятиях приготовительного курса; теперь переходим собственно к русскому языку и словесности. Нам замечали, что не следует отделять этих двух предметов. Конечно, язык есть орудие мысли; без языка не существовало бы и словесности. Но разве возможно ограничить словесность одним изучением языка? Да и язык невозможно понять, не вникнув в идеи, им выраженные. Следовательно, оба предмета, имеющие два разных названия – грамматики и словесности, – разделяются сами собою. Изучая произведения русской литературы, мы обратим внимание и на язык; самое чтение их уже есть изучение языка; но все-таки словесность не есть только лингвистика и даже не одна теория слога. Какую же цель назначить при преподавании этих предметов? Одни говорят, что целью преподавания будет развить дар слова. Другие ставят на первом плане развитие логических способностей в учащемся или развитие в нем эстетического чувства. Третьи просят обратить преимущественное внимание на развитие нравственных начал и т. д. Все это прекрасно. Но мы думаем, что цель в преподавании русского языка и литературы можно выразить гораздо проще: цель эта – познакомить с русским языком и литературою. Стремясь к ней правильным практическим методом, мы достигнем всех других целей. Науку, даже школьную, нельзя насиловать; нельзя смотреть на нее только как на средство к достижению чего-либо, или, говоря правильнее, она только и может быть верным средством к всестороннему развитию, когда служит сама себе целью. Сообразно педагогическим потребностям факты ее различно перестанавливаются; но мы не можем объяснять ничего другого, кроме того, что заключается в этих фактах. Странно, например, если бы, имея целью логическое развитие, мы стали на основании языка строить утонченную логическую систему, объяснять только логическую связь мыслей в сочинениях. Кончилось бы тем, что мы не познакомились бы как следует ни с русским языком, ни с характером сочинений. Странно, если бы мы стали искать особенного изящества слога у Нестора или по причине отсутствия этого изящества опустили совсем Нестора. Поэтому я думаю, что преподавание русского языка и литературы должно быть основано на реальных началах, и вот мой второй тезис. Слово реальный, которое я здесь употребляю не в совсем обыкновенном смысле, может возбудить недоразумения, и потому спешу объяснить его. Под «реальным» я разумею здесь не одно знание внешнего, видимого мира, а также все, что от него исходит, что в созданиях мысли человеческой имеет прямое к нему отношение. В этом смысле много говорили и о реализме в философии и о реализме в литературе. Таковы и поэтические идеалы у лучших писателей, потому что действительная жизнь была основанием их творчества. Впрочем, я, пожалуй, откажусь от моего слова, если оно запутывает дело. Но признаюсь, что другого не умел прибрать: слово фактический напоминает только о пустом набивании головы фактами. Названием реального в преподавании я хотел определить и его направление и выбор фактов. Я хотел этим сказать, что необходимо основывать все объяснения на фактах, прямо указываемых содержанием науки, которую объясняем. Так, объясняя русский язык, я обращу главное внимание на его коренные, действительные свойства, выказывающие мне живую физиономию народа; знакомя с сочинениями, я отыщу в них не только личную мысль автора, но и влияние всей окружающей среды его: природы, общества, жизни. Таким образом, и на чисто фантастическое создание я смотрю с реальной точки зрения, объясняя, сколько в нем было необходимости жить, чтоб выражать факты действительной жизни. Для объяснений я избираю преимущественно народную литературу и тех из писателей, в которых глубже и шире выразилась общественная и общечеловеческая жизнь народа. Для меня Жуковский реальнее какого-нибудь мелкого обличителя: хотя наша общественная жизнь и не нашла в нем своего органа, все-таки он выработал много живых сторон нашего языка, он первый перенес нашу мысль на общечеловеческую почву переводами из Шиллера, Байрона, Гомера, а в реальном отношении этих авторов к природе, к современной им жизни и к своему народу никто не усомнится. Жуковский имеет для нас значение настолько, насколько он передал Шиллера, Байрона, Гомера и проч. Опытные педагоги возражали мне, что словом реальный я распространяю предмет литературы до бесконечности и, наконец, даже смешиваю ее с историей. Я хотел этим словом определить вообще точку зрения на предмет, вообще характер преподавания, а не пределы, в которых оно должно заключаться. Пределы определяются самым успехом преподавания, развитием воспитанников, временем, определенным для курса. Я первый готов восстать против тех программ, которыми предписывают во что бы то ни стало пройти все огромное содержание науки, не соображаясь с результатами такого забивания памяти. С другой стороны, гимназия не университет: в ней довольно познакомить с самым существенным, не делая бесконечных критических толкований над каким-нибудь одним фактом. Избирая самое существенное, мы можем донельзя ограничивать предмет преподавания. Если представится много замечательных фактов, мы изберем те, с которыми сами наиболее знакомы. В литературе главное – определить дух известной эпохи, известное направление мысли: изберу ли я для этого «Песнь о Горе-Злочастии», или другую какую-нибудь народную песнь о горе (их так много) – все равно. Но я не могу обойти таких значительных фактов, как произведения Курбского и записки Котошихина: эти сочинения единственные в своем роде и ярче других характеризуют данную эпоху. Принадлежат ли в силу реального направления литературе такие сочинения, как «Русская правда», «Судебник», «Стоглав» и проч.? Без сомнения, принадлежат, хотя форма их и не художественная. Но они выражают одну сторону жизни – юридические отношения народа. Их уже потому нельзя подробно объяснять в гимназии, что они специально входят в сферу науки, с которой воспитанники совершенно незнакомы. Но если бы преподаватель сумел в немногих живых чертах представить их общее значение в кругу других явлений народной мысли, мы бы очень порадовались этому. Уже прошло время, когда литературу ограничивали одним изящным да идеальным. Если она есть выражение народной мысли, то должна выражать эту мысль всесторонне. Но в гимназии невозможно подробно толковать о той или другой отрасли народного развития: довольно указать общий его характер и ту среду жизни, которая имела на него влияние. Объяснив отношение литературного факта к жизни, мы сделаем все, чего можно от нас требовать. Так и в сочинениях духовной литературы мы укажем только их общественное значение, не входя в подробное толкование богословских идей, которые в них развиты: из многословных томов Шевырева явится несколько живых страниц. Так и в Котошихине мы не будем изъяснять государственное устройство, которое он излагает; мы изберем только некоторые факты, вообще характеризующие век и личность автора, например, его описание жизни бояр и проч. Этим уже прямо история литературы отличается от истории политической, хотя обе соприкасаются между собою: первая изъясняет дух сочинений, движение народной и общественной жизни, в них выраженное; вторая занимается политическими событиями и общественным устройством. По различию фактов различно и содержание, хотя обе они имеют предметом народную жизнь.
Слово реальный, мной употребленное, возбуждало сильное опасение. Чтоб ограничить предмет преподавания, мне предлагали употребить слово эстетический, художественный или даже реально-эстетическое, реально-художественное направление. Я спорю не за слова, а за сущность дела: одним словом, конечно, нельзя ничего определить вполне. Не думаю, чтоб понятие об эстетическом было определеннее. Справедливо замечали, что необходимо развить вкус, что словесность более других знаний имеет на это средства. Словесность по самому реальному направлению, мной защищаемому, не может от этого отказаться, потому что в нее входят создания поэтического творчества; но можно ли остановиться на этой одной стороне произведений или она уже все исчерпывает? В таком случае, что же эстетика? Какие ее начала? «Евгений Онегин» Пушкина, конечно, прекрасное произведение. Пушкин представил в нем характер разочарованного героя: вы объясните здесь, насколько этот тип выражает известное состояние общества, насколько тут выразилось влияние Байрона. В характере Татьяны вы также отличите, что дано ей природою и что развивалось под влиянием общества. Вы объясните, отчего Онегин, прежде такой равнодушный, под конец влюбился в Татьяну, отчего Татьяна, прежде так страстно любившая Онегина, потом его отвергает. Все это будут вопросы общественные, психологические, нравственные. Вы, в заключение, скажете, что Пушкин умел все это прекрасно соединить вместе и прекрасно выразить – вот и вся эстетика. Любопытно бы знать, много ли мы скажем о деятельности Ломоносова и даже Державина, разбирая их только с эстетической точки зрения? Слово художественный несколько определеннее. Под ним разумеют известное совершенство формы; художественными могут быть не одни поэтические, но и прозаические сочинения; но если этим думают определить выбор фактов, то, мне кажется, очень ошибаются. По современным понятиям, художественность состоит в простом, ясном, стройном и живом изображении предмета и в отделке языка, соответственной такому изображению. К этому нельзя ничего прибавить. Если скажут, что художественность состоит в наибольшем реальном отношении к жизни и Гоголь художественнее Пушкина, то я скажу, что Кантемир художественнее Дельвига, а Нестор, Котошихин и все без исключения народные песни служат образцами художественности. Мы придем, наконец, к заключению, что этого свойства надо отыскивать там, где менее всего об этом заботились. Если прибавят к моему определению, что художественность состоит в идеальных образах, в идеальном представлении жизни, то этим совершенно несправедливо исключат все прозаические сочинения, и сам Маколей будет нехудожествен. Итак, остановимся на нашем первом определении. В силу его, необходимо решить, что все сочинения Дельвига, Козлова, Языкова, Баратынского, как они ни слабы в некоторых отношениях, все-таки художественнее сочинений Державина; следовательно, придется, пожалуй, говорить о всех этих сочинениях, не сказав ни слова о Державине. Бедный Ломоносов, Кантемир да и вся древняя литература уйдут со сцены. Но таким образом нельзя определять художественность в историческом смысле. Каждый век, каждый писатель имел об ней свое понятие. Мы можем назвать это понятие ложным, но не можем уничтожить его как факт, как действительное явление, вышедшее из развития самой жизни. Итак, смотря с исторической точки зрения, мы найдем чрезвычайно много художественности в речах и посланиях духовных, в житиях и проч., а, определив художественное направление как цель преподавания, мы и будем ими заниматься преимущественно перед летописями и народными песнями, которые если по нашим понятиям иногда и являются художественными, то ненамеренно. Впрочем, из всех определений художественности, которые дадут мне с целью ограничить выбор фактов в преподавании, я скорее всего согласился бы разуметь под этим словом поэтические произведения. Если нет никакой возможности сделать выбор разнообразнее, то, нечего делать, познакомим основательно хоть с историей поэзии: опустим все летописи и другие исторические памятники, опустим Ломоносова (исключая его оды), Карамзина (исключая его стихотворения и повести) и проч. Мы все-таки придем к некоторым общим результатам в развитии народной мысли, объясним настоящие идеалы жизни, в отличие от признаков, которыми в разное время увлекались писатели. Но и тут я сомневаюсь, достаточно ли определит слово художественный цель преподавания? Ведь художественность Гоголя я могу объяснить уже по отрывкам из хрестоматии, а взяв какую-нибудь целую его повесть, я вполне растолкую красоту его созданий. К чему мне объяснять все его направление, все идеи, которыми он становится представителем нового движения в литературе? Я знаю, что ни один из преподавателей, понимающих современные требования науки, не ограничится этим; но не встречаем ли мы беспрестанно рукописных курсов словесности, в которых многословно и крайне отвлеченно толкуется об изящном, об идеале, об искусствах, курсов, которые воспитанники заучивают наизусть, чтобы при случае блеснуть отборною фразою, а иногда даже и без этой пользы. Мы все восстаем против риторики и схоластики, а не чувствуем, как она одолевает нас самих в пустом желании порисоваться своим красноречием, не основанным на знании фактов. Витая в области умозрения, мы являемся как будто властелинами своей мысли, и это нас обманывает; опускаясь к факту, мы становимся тружениками, и тяжелые крылья долго нас не поднимают. Но согласимся, что уж лучше простое, обстоятельное знакомство с фактом, чем все эти непонятные детям отвлеченности. Вот еще причина, по которой я счел необходимым сказать, что преподавание русского языка и словесности должно иметь в гимназии реальное направление.
С. Метод, которому мы следуем, должен быть практический, а именно сравнительный, конечно, не в ученом смысле этого слова: все ученые слова, в применении к преподаванию, несколько изменяют свое значение. Можно бы, пожалуй, назвать его аналитическим: но слово сравнительный точнее определяет то, что я хочу сказать. Мы сравниваем преимущественно реальные факты: анализировать же можно и отвлеченные понятия, не выходя из отвлеченностей. Притом последнее слово напоминает грамматический анализ, логический анализ, что очень часто означает у нас скучнейший разбор слов, возбуждающий зевоту и в воспитанниках, и в преподавателе. Сравнительный метод постепенно переходит, насколько это возможно при развитии учащихся, в исторический. Тут опять я не разумею какой-нибудь особенной ученой мудрости. Сначала, при чтении басен Крылова, мы, например, встречаем: «Голубушка, как хороша! какие перышки, какой носок» и проч. Я задам воспитанникам прибрать из разных мест прочтенных басен слова с подобными окончаниями (а у Крылова их очень много) и заметить смысл каждого на своем месте. Потом они еще придумают сами несколько подобных названий. Уменьшительные и ласкательные я таким же образом сравниваю с увеличительными. Впоследствии, когда они довольно ознакомятся с иностранными языками, я возьму для сравнения подобные же формы из французского и немецкого. Это, кажется, еще не значит, что я буду им толковать Боппа. Когда при чтении отрывков из летописей воспитанники узнают, например, форму прошедшего времени, я объясню им и в русской грамматике прошедшее время: читал, сказал, имеющее вместо окончаний лиц окончания родовые. Так из самого же языка объясняется его логика. Впоследствии, при чтении памятников из различных эпох, они могут в большей мере узнать исторические изменения языка, чем сколько это нужно для первоначального изучения русской грамматики. То же самое в преподавании литературы. Сначала я делаю сравнение отдельных статей для объяснения взгляда писателя и разных форм изложения: описания швейцарской природы у Жуковского и Карамзина, описания Кавказа у Пушкина и Лермонтова, перевод одной и той же басни из Лафонтена у Сумарокова, Хемницера и Крылова, у Дмитриева и Крылова, историческое изложение в одних и тех же отрывках у Нестора (или Курбского), у Карамзина, Соловьева и проч. Здесь уж я касаюсь и некоторых исторических изменений во взгляде. Сравнительный и исторический методы применяются полнее в истории иностранной и русской литературы. Сказав вообще мое мнение о направлении и методе преподавания, я перехожу к более частным тезисам.
D. «Русская грамматика учит русскому языку». Да простят меня за это школьное правило, выраженное школьным слогом. Я хочу этим сказать, что русская грамматика, держась живой разговорной и народной, отчасти летописной речи, должна действительно объяснять коренные свойства русского языка. Мы начнем не с определения, что такое речь или слово, а с изучения наиболее живых форм речи. У Крылова беспрестанно встречаются подобные выражения: тихохонько медведя толк ногой; чудес палата; Лисицыны слова, вещуньння голова, мишенькин совет; что за страсть; вот невидаль мышей… ни стать ни сесть, ни перечесть; отколе ни возьмись и проч. Нам надобно подумать о том, чтоб за логическими построениями не укрылись какие-нибудь из подобных форм, чтоб соединяемая с грамматикою логика была именно логика русского языка. Все краткие учебники языка, у нас изданные, неудовлетворительны в этом отношении: прежде всего заботятся о логических определениях, а знакомство с коренными свойствами русской речи считают какою-то роскошью. Мы бы желали постепенно ввести в грамматику знакомство с этими свойствами, которые происходят из живого наглядного представления предметов. Этим показали бы мы, что грамматика не сухой предмет, а имеющий близкое отношение к жизни. Так во втором классе при чтении, сравнении и разборе можно бы, например, объяснить разные названия, означающие величину и малость, грубость и ласку: домище, домина, домик, домичек, домишко, соловушко, головушка, солнышко, сердечушко, деревушка и деревенька, дитятко и детеныш (останыш), лошаденка, салопишко и проч. Мы обратим внимание на эти названия и в предметах умственных: умок, умишко, душонка и душенька, хотеньице, здоровьецо, волюшка, негушка и проч. Сравним с ними слова, служащие для выражения ласки: душа, свет, солнце красное, мать, например: свет-быстрая речка; мать сыра земля, мать дубровушка и проч.
В сравнение с существительными поставим прилагательные, означающие степени качества, с предлогами: раз и пре – разудалый, предобрый, пречерный; с окончаниями: стый (тый), хонек, шенек, оватый, енький, например, плечистый, глазастый, чернехонек, белешенек, красноватый, красненький. Подобные же степени в наречиях: близехонько, близенько, темненько, мелко-намелко, раным-рано, давным-давно, впробел, впрочернь, искрас-на-белый и проч. Степени в глаголах, многократная и однократная: сиживал, хаживал, брякнул, сверкнул – и особенно сокращенные: шасть, хлоп, щелк, хвать, толк и проч. После этого можно объяснить и происхождение слов: а) в названиях предметов чувственных: белок, желток, ожерелье (от жерло), перчатка (от перст), народные: ширь, глубь, высь и проч.; b) некоторые названия предметов от чувственных действий: плетень от плести, сбитень от сбивать, свиток от вить, крыло от крыть, шило от шить и проч.; с) названия предметов действующих: мебельщик, плясун, лгун, пастух, читатель, мучитель и проч.; d) отеческие; е) прилагательные притяжательные и их замену существительными и проч.
Во всех этих упражнениях мы имеем дело преимущественно с предметами чувственными или одушевленными и не должны утомлять детей заучиванием окончаний: на первый раз довольно только указывать эти окончания, учить, как отделять их и приискивать по ним примеры. Система же окончаний объясняется в следующем классе.
Вслед за тем можно истолковать значение наиболее простых слов переносных: темя и подошва горы, ножка у стола, ручка, горлышко, носик у чайника; дождь идет, вода бежит, солнце садится, ветер воет; золотое солнце, бархатный луг, железная грудь и т. д.
Объясняя, как одушевляется природа присутствием человека, можно упомянуть и о происхождении родовых названий. По этому случаю мы прочтем несколько песен, в которых олицетворяются: соловей, сокол, лебедь, кукушка, роза и проч., расскажем несколько прекрасных народных преданий об этих предметах. Потом мы перейдем к изучению постоянных эпитетов в народных песнях, так живо и реально обозначающих предмет, быт народа и самый взгляд его на природу: частый дождик, темный лес, сине море, шелкова мурава, сизый голубь, буйный ветер, чисто поле, ретиво сердце, дума крепкая и проч.
От простых эпитетов мы перейдем к сложным: перелетная птица, перекатное солнце, окатная жемчужина, чужедальная сторонушка, горемычная доля, белотонкий шатер, белопуховый снежок, мохноногенький голубь.
Мы остановимся на объяснении слов сложных, избрав наперед самые простые: сума-сшедший, хлеб-соль, ноч-лег, рукоделье, рукопись. В производных сложных словах и также в безличных формах, столь часто встречающихся в русском языке (виднеет, светает, чернеется; тише едешь, дальше будешь), на первый план выступает признак – сказуемое и, объясняя их смысл, мы объясним состав предложения: семя, что посеяно, что сеют; шило, чем шьют; лгун, кто лжет; сумасшедший, кто сошел с ума; рукоделье, что делают рукою; рукой подать, что очень близко; ни дать ни взять, что очень похоже. Судить, собственно, не значит придавать признак предмету, а выделять признак, по нашему понятию, уже заключающийся в предмете, разбирать предмет по его признакам.
Я определил здесь только в общих чертах, какие могут быть занятия языком во втором классе, их можно несравненно более разнообразить и можно привести их в некоторую систему, впрочем не чувствительно для воспитанников.
В третьем и четвертом классе мы разбираем более трудные метафоры в названиях отвлеченных, мы объясняем переход от названий чувственных к умственным, касаясь отчасти истории языка: лукавый (от лука, кривизна), внушать (класть в уши), понять (от глагола ять, взять), восхищение (от восхитить, уносить вверх); мрачить и морочить; русские: двинуть, волочить, полонить, заблудиться – и славянские: двигнуть (подвиг), влачить, пленить, заблуждаться, ядро и недро и т. д. При чтении мы обратим особенное внимание на различие слов русских и славянских: лоб и чело, рот и уста, щеки и ланиты, здравствуй и здорово, золото и злато и проч.; объясним, как иногда те и другие формы употребляются ныне в совершенно различном значении, например прах и порох. (В «Слове о полку Игоревом»: порос и поля покрывают.) Тут же мы приступим к толкованию синонимов, начав с самых простых и наглядных: свет, блеск, сияние, мерцание; стук, треск, гром, грохот, шепот, шелест, шум и проч. В объяснении синонимов особенно помогают народные песни, столь богатые этими выражениями: например, снаряжалася, убиралася; хороша-пригожа уродилася; веточка приманчивая, прилюбчивая; расскакались, расплясались, разыгрались, распотешились; у чужого роду-племени; свашенька немилостивая, нежалостивая; избит, изранен, исколот весь; тоска – кручина – гореваньице.



