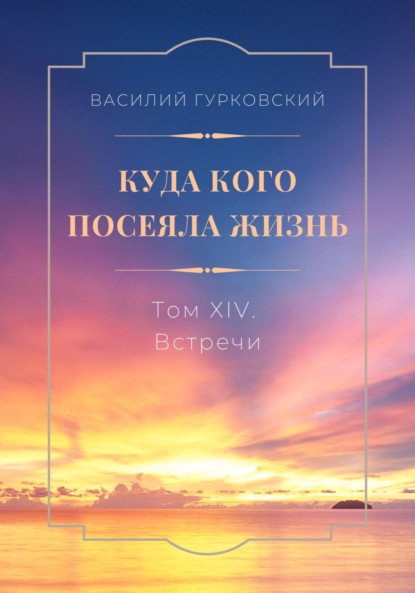
Полная версия:
Куда кого посеяла жизнь. Том 14. Встречи
Я уверен, что новый Брынковянский монастырь уже много лет работает, но тогда только начали поднимать стены. Когда, рассказывал дальше архимандрит, он почувствовал, что его скоро "уйдут" с поста председателя уездного Совета, не без помощи завистников и угодников, окружавших в то время верховную власть, которые по четным числам возносили Чаушеску, а по нечетным делали все, чтобы его опорочить, он начал думать, как жить дальше. Идти вверх – дорога заказана, идти вниз – гордость не позволяет, да и в честь чего. Выехать за рубеж – кому там нужен, ну, возможно, примут на уборку улиц или еще какую-то грязную и тяжелую работу. Одно время даже растерялся, пить начал. И тут подвернулся один старый знакомый монах. Он и посоветовал, несмотря на все грехи, очиститься от них, обратившись к Богу. Монах понимал, что истинное очищение вряд ли возможно, но если переломить себя и стать на путь иного понимания жизни, почувствовать нужность людям, тягу к добру и милосердию – может все получиться. Здесь все будет зависеть только от себя самого. А какое замечательное место пока свободно – сам Брынковянский монастырь. И хоть от него осталось только название, место это святое, а свято место пусто не бывает. Советую тебе взять под себя этот монастырь, уверен, что не пожалеешь. Начинать будешь не с нуля, там еще присутствует дух святой, и не только.
Архимандрит рассказал, как вложил все свои сбережения и сбережения всех родственников, в восстановление практически уничтоженного монастырского хозяйства. Собирал верных людей, в основном, молодежь, постепенно организовал коллектив – и верующих, и здравомыслящих, и верных ему и монастырю людей. Когда восстанавливали часовню, оказалось, что двое молодых монахов окончили художественную школу, и довольно неплохо рисуют. Они восстановили росписи стен, сделали интерьер и даже попробовали писать иконы, для себя, для нужд монастыря. Получилось.
Архимандрит вспомнил, что несколько лет назад у него был то ли сон, то ли видение ночью, и как будто кто-то ему подсказал, что есть у него (архимандрита) два главных источника будущего благополучия – вода из святого источника и иконы. Это его две золотые жилы. А что было делать? Прихода нет, никаких финансовых поступлений нет, одни расходы. Завели свое подсобное хозяйство, дабы прокормиться, а как развиваться? За счет чего?
Он решил попробовать продавать иконы. Иконы этого монастыря – особенные. Если русская иконопись базировалась на дереве, то брынковянская – на стекле. Икона пишется прямо на стекле, причем как бы наизнанку, с тем, чтобы с лицевой стороны изображение было четким и ясным, как бы выглядывало из стекла. Занятие это оказалось сверх трудным, дело доходило до того, что несколько иконописцев периодически попадали в психбольницы, но дело пошло. Первые десять икон, выставленные на каком-то конкурсе в Бухаресте, имели оглушительный успех и ушли с аукциона по невиданным для соцреализма ценам. Постепенно образовалась своя неповторимая школа, монастырские иконы, и как религиозные, и как художественные произведения, стали желанными на любом солидном аукционе или выставке.
"Сегодня, образно говоря, – смеялся архимандрит, – я везу на выставку чемодан икон, а возвращаюсь с чемоданом долларов. Вот так и пошло. Сегодня из 27 человек нашей монастырской семьи – 8 художников, да пара учеников. И они нас вполне устраивают. Мы не делаем церковный ширпотреб, мы производим иконы-картины".
В небольшой пристройке нам показали "святая святых" – коллекцию икон, где-то около сотни. В центре экспозиции – большая икона, где в лучах солнца – славы, на фоне удивительной природы возвышался тогдашний вождь румын, тот самый несчастный Николае Чаушеску. Выполненная в стиле иконы, картина действительно впечатляла. "Мы выполнили две таких работы, показали Чаушеску, естественно, как картины с подтекстом. Он одну выбрал себе, другая висит здесь. Потом он сам к нам приехал, все посмотрел, одобрил, дал соответствующие указания своим идеологам, и с тех пор я стал по-настоящему хозяином своего дела, – продолжал архимандрит, – теперь у меня, хотя и маленький, но свой вертолет. В Брашове стоит в постоянной готовности. Есть машина немецкая, я на ней добираюсь до Брашова, а там -на вертолете – до Бухареста. Дальше – куда надо. Когда Чаушеску посещал монастырь, я уже, как духовное лицо (он же меня прекрасно знал еще по уездному Совету), сказал ему то, что боялись говорить другие. Я сказал, что, на мой взгляд, власть, т.е. компартия, воюя с религией, с той, настоящей, веками устоявшейся, а не с отдельными сектами, совершает очень большую ошибку. Пока мы с партией воюем, третьи силы, причем, явно недружественные к обеим сторонам, используют ситуацию и потихоньку отнимают у нас паству, особенно молодых людей. Скоро это нам аукнется».
«И что вы думаете? Вождь со мной согласился. Может быть, за столом, в гостях, но согласился", – закончил архимандрит.
Много лет прошло с тех пор. Нет тех вождей, не знаю, живы ли участники этих моих встреч, но я и сегодня помню слова того "монаха поневоле" и готов подписаться под ними сейчас. Ради мощи государства, ради блага людей и мира, можно идти навстречу, чем-то поступаясь, любым силам, лишь бы цели у них были про государственные, и все они работали в одном направлении.
Если Брынковянский монастырь и сегодня здравствует и остается в нашей вере, – я ему и его посетителям-прихожанам желаю многие лета.
Но наше турне с министром продолжалось. Из всех десятков встреч на разных уровнях, хотел бы выделить еще один эпизод, суть которого, легла в название этой были.
Мы находились в северном уезде Сучава. Это – зона интенсивного картофелеводства,. Министру позвонили из Бухареста и сообщили, что поезда, наконец-то, пошли, и наши билеты прокомпостированы на софийский поезд завтра в ночь.
"Ну, слава Богу, – сказал мой сопровождающий, – рано утром двинем на Брашов, а там – в Бухарест, а то от всех этих "встреч" сердце начало покалывать".
Я деликатно промолчал, хотя не знал, кто из нас был больше рад этому известию.
Но авантюрный характер министра не дал нам спокойно, безо всяких "встреч", добраться в Бухарест. В районе Брашова, он вдруг заявил: "Съезжай с трассы, сейчас навестим мое родное село. Давно там уже не был, да и достали меня земляки до предела".
Заехали в село, небогатое, люди бедно одеты, на улицах – единичные прохожие. Министр вышел возле примарии, зашел туда без меня, через минуту вышел возбужденный и показал, куда ехать.
Какое-то деревянное хранилище на сваях, человек двадцать мужиков пересыпают картофель из мешков в отсеки-хранилища.
Мы подошли. Увидев именитого земляка, к нам потянулись мужики, стали полукругом метрах в пяти, поздоровались. Возраста разного, были и ровесники министра.
А он, без подготовки, сразу на них набросился: такие сякие (ну, какой там у румын мат, так – детский лепет), меня из-за вас не только Чаушеску, меня любой партработник в Бухаресте позорит, мол, как это так, в твоем родном селе нет коммуны? В одном селе на всю Румынию! Это не позор? Как вы вообще живете без коммуны? Вот ты, сосед мой, Ионел, как ты живешь без коммуны? Расскажи!
Сосед снял фуражку и начал медленно говорить, как будто специально для меня: "А вот ты объясни. Мы в мае собираем черешню, раннюю, потом вишню – везем в Брашов, продаем, пьем немного цуйки. Едем домой, спим с женой. Потом собираем абрикосы, персики, опять продаем, пьем и спим с женой. Потом…"
"Хватит!, – закричал министр, – потом скажешь, что копаете картошку!"
"Да, это у нас главное. Копаем картошку, везем в Брашов, продаем, пьем много цуйки, едем домой – и долго спим с женой, аж пока черешня снова поспеет," – закончил Ион.
Я еле сдержался, отвернулся и закашлялся, иначе бы обязательно рассмеялся.
"А пошли вы…, – по-русски выругался министр, – жалко, что я спешу, и гость у меня из месесер. Я еще приеду. Поехали, Василий".
Мы долго ехали молча. Где-то перед Брашовым, он спросил; "Ты все понял?" "Все," —честно ответил я. Мы приехали в Брашов, пересели в машину министра, уже с водителем забрали наших специалистов и отправились через хребет в Бухарест. Никто больше не проронил ни слова .
К поезду министр приехал, попрощаться. Поблагодарил за все – и за дело, и за песни под баян, и за веселые истории, которых у нас, россиян, конечно, больше, чем у румын. Я тоже поблагодарил его за все, а главное – за то, что по-новому узнал эту страну, где тоже живут такие же люди, которым не всегда везло на верховную власть, но они-то в этом не виноваты.
А без коммуны на селе жить можно, только КАК?
Хороша страна Болгария
Для кого-то этот материал покажется «преданьем старины глубокой», а для меня –это было, как будто вчера….
Ровно 40 лет назад, в начале лета 1982 года, меня пригласил первый секретарь Слободзейского райкома партии, Проценко В.А. и сообщил, что , согласно доведенного «свыше» распоряжения, в порядке международных культурных связей, и в целях обмена опытом, от нашего района будет направлена рабочая делегация в Болгарию, в количестве трех человек –Цыбульский Ф.С., в то время –начальник районного управления сельского хозяйства, курирующего совхозы района, одна передовая доярка из колхоза им. Мичурина, Анна Кожемяченко – и я, в то время –заместитель председателя райсовета колхозов по экономике. Возглавлять делегацию , бюро райкома партии решило поручить мне.
Естественно, предложение было приказом и обжалованию не подлежало. Да и что тут было обжаловать –работа есть работа, надо- так надо. Мы же не гулять туда поедем.
Я посчитал тогда, что поручив возглавить делегацию от такого района, как наш, да еще за рубеж, пусть даже и в Болгарию, меня, таким образом, проверяли на прочность. Всего несколько месяцев прошло, как я возглавил аграрную экономическую службу района и, поэтому выбор меня, наверняка, был не случайным.
Имея определенный опыт комсомольско-партийной работы, понимал, что все это не так просто, как кажется со стороны. Быть старшим в отправляемой за рубеж группе, значит нести ответственность не только за каждое сказанное слово, но и за каждое действие ВСЕХ её членов. А это уже чревато…
Я хорошо знал Федота Спиридоновича Цыбульского, почти ежедневно с ним общался по разным вопросам, а вот Анну из Ближнего Хутора, практически не знал. Видел несколько раз на различных мероприятиях, но не общался. Ну, придется познакомиться, нам две недели быть в одной команде. В этом плане –проблем не ожидалось.
Итак, -мы знали –кто едет, куда мы едем и когда едем. Естественно -готовились. И нам было что представить, кому угодно, в любой стране, большой или маленькой, передовой или отсталой. Наш район в то время, по праву лидировал среди других аграрных районов всего Советского Союза, по многим производственным показателям и экономической мощи. Можно сказать, что в плане «физической» части – наша группа была полностью готова….Но оставалась еще часть «Моральная». Стыдно было ехать в гости с пустыми руками….
Ну что мы могли тогда повезти в подарок?. Я долго об этом думал и никак не мог определиться окончательно. Потом решил поднять «планку» на высший уровень. Стоял у меня в кабинете белый гипсовый бюст В.И. Ленина. Я ему придал соответствующий моменту вид, в Тирасполе, в мастерской, сделали красивую металлическую табличку с надписью: «Братскому НПК им. Г.Димитрова, от Слободзейского района Молдавской ССР». Табличку прикрепили к бюсту. Получилось очень неплохо. С подарком определились. На большее –ни фантазии, ни возможностей, не хватило….
Через пару дней, меня вызвали в ЦК Компартии Молдавии, на инструктаж по поводу поездки за рубеж. В отдел организационно-партийной работы, где проводился инструктаж, я опоздал на полчаса. «Что, опять скажешь, что машина сломалась?!»-язвительно спросил заведующий отделом. Я ничего ему не ответил, просто подозвал к окну. Внизу, сзади здания ЦК, стояла моя машина с четырьмя спущенными колесами….
Просто не могу не вспомнить об этой дикой ситуации. На работе у меня была служебная машина , «ЖИГУЛИ», первой модели и первого выпуска. Её у кого-то реквизировали и «подарили» совету колхозов. Это была единственная служебная машина такой марки в районе. Было ей уже более 10 лет, часто ломалась. Ни одной, даже маленькой запасной части для такой марки машин, в Сельхозснабе не было. Чтобы заменить какую-нибудь сломавшуюся мелочь, надо было идти в частный автосервис, и покупать дополнительно еще десяток чего-то ненужного.
Особенно проблемными были автопокрышки. На этих Жигулях, все пять колес, были «лысыми» и тонкими, как газетная бумага. Не то, что гвоздь, а любой острый камешек, выводил колесо из строя. Ни один водитель не хотел на этой машине работать. Бывали дни, когда я по 5-6 раз перебортировал пробитые колеса, был даже «рекорд» в один день-11 раз!
Причем –я же камеры не клеил! А зажимал пробитые отверстия копейками. В багажнике машины имелось десятка три 3-х копеечных монет, они лучше всего подходили для таких целей. С помощью плоскогубцев – я их сгибал и ремонтировал камеры. Так получилось и в тот день, когда меня вызвали в ЦК. Пока доехал до Кишинева – трижды (в белом костюме!) перебортировал колеса. С высоты возраста, могу сказать, что такое могло быть только в нашей стране. Какой бы я там не был, хороший или плохой, но возглавлял экономическую службу района, который производил продукции на 150 миллионов настоящих советских рублей, получая при этом 50 миллионов рублей прибыли в год и…каждый день занимался пробитыми колесами.
И меня позорят за опоздание на такой важный инструктаж, за несознательность….
На семинаре мне напомнили все 10 заповедей из морального кодекса строителя коммунизма, добавили часть похожих заповедей из закона Божьего –типа- Не пей, Не убий, не прелюбодействуй и т.п. и добавили стандартное в данном случае предупреждение – не петь «Хороша страна Болгария, а Россия –лучше всех!», мол болгары этого не любят.
После того инструктажа, мне, честно говоря, расхотелось ехать за рубеж, но меня об этом никто не собирался спрашивать….
Наш город Тирасполь, очень удачно вписывался в нашу предстоящую поездку. Поезд Москва-София, проходил именно через Тирасполь. В Тирасполе –сели в вагон, в Софии -вышли. Красота! Тем более лето. В Софии пересели на Пловдивский поезд и после обеда -были на месте!.
Хорошо, что это была Болгария! Начали искать способы доставки нас в НПК им.Г.Димитрова. Вначале -ничего не получалось. Дело в том, что мы произносим аббревиатуру НПК –ЭН-ПЭ-КА, а болгары это же произносят – НЕ-ПЕ-КА. Пока мы эти нюансы выяснили –пару часов ушло. Но потом разобрались, созвонились и прибыли в офис комплекса.
В те времена, главной организационной (рабочей) структурой в Болгарии, были АПК (Агро-производственные Комплексы) и отдельно – Научно-Производственные Комплексы, в один из которых, мы и прибыли с визитом. НПК им. Димитрова в Пловдиве, был тогда одним из ведущих в стране, не зря его Генеральный директор, Герой Болгарии, был одновременно и заместителем министра сельского хозяйства.
В состав НПК, входили два научно-исследовательских института (Овощеводства и Садоводства) и ряд опытно-производственных хозяйств.
Когда нас привезли в офис НПК, Генеральный вышел нам навстречу и пригласил к себе в кабинет, спросил, как доехали и задал еще пару вопросов, применительно к текущему моменту.
Я доложил, кто мы, кого представляем и, какая перед нами была поставлена задача (дома). Естественно , представился сам и представил своих коллег по делегации.
Генеральный, кратко охарактеризовал предлагаемую ими программу нашего пребывания, сказал, что могут быть какие-то небольшие коррективы, по ходу визита, но о них мы будем извещены заранее.
Потом сказал, что ждет нас завтра на расширенной совместной встрече со специалистами НПК, а пока предложил поехать и устроиться в гостинице.
Поселили нас в приличной гостинице –«Ленинград». Выделили всем по отдельной комнате, но мы с Федей (Федотом Спиридоновичем, мы тогда называли друг друга по имени), попросили, чтобы нам выделили на двоих двухместный номер, зачем нам такой шик. Хозяева согласились. Так мы и жили весь период пребывания в Пловдиве, мы –вдвоем –Аня – в отдельной комнате.
На следующий день, в приемном зале, состоялась наша первая рабочая встреча с руководством НПК.
Директор выступил с информацией об НПК в целом, потом остановился на отдельных направлениях –научных, исследовательских и производственных, познакомив таким образом нас со структурой этой солидной организации, видами деятельности и достижениями НПК по ведущим направлениям.
В ответной информации, я рассказал о районе, который мы представляем, о системе межхозяйственной кооперации, освоенной в Молдавии, в том числе в нашем районе, по механизации, электрификации, химизации, мелиорации, орошению и других направлений, о новой системе внедрения межхозяйственных севооборотов и контактной работе с НИИ овощеводства и орошаемого земледелия, который расположен на территории района.
Директора и ведущих специалистов Комплекса заинтересовало внедрение межхозяйственных севооборотов и есть ли в этом рациональное зерно. Мы –разъяснили и привели конкретные примеры. Убедили.
При ответах на вопросы, в беседу вступил Цыбульский Ф.С.. Мы с ним, не сговариваясь, приняли на себя такое разделение труда:– у меня вопросы экономики, организации, управления и все, что с этим связано, у него –вопросы производства, технологических процессов, селекции, семеноводства и всего, что связано с этими направлениями. По прошествии времени, да и в то время, могу заверить читателя, что наш с ним «тандем», не подкачал ни разу, ни по какому направлению и даже –без направлений….
В нашей «тройке», как бы это странно не звучало, Аня играла- роль «коренного», опорного, если так можно выразиться. Она была флажком, символом нашей группы. Никто её о технологии доения коров не расспрашивал, плодоовощеводов это не интересовало. Для нас она была –просто замечательной, трудолюбивой и порядочной девушкой, «нашей Аней», для болгар –она была символом всего основного работающего класса нашего района, показателем того, что в Слободзее живут и работают не только экономисты и агрономы, как мы с Федей, а еще и те, кто своими руками производит все то, чем наш район гордится.
Представляя Аню в местах нашего появления, специалисты НПК не говорили, что она передовая доярка в нашем районе или что-нибудь подобное, а обязательно подчеркивали, что она -ОРДЕНОНОСЕЦ! Наверное, потому, что в Болгарии тоже было много достойных женщин, а вот орденоносцев – мало…..
Программа нашего посещения НПК, была очень насыщена, но разумно построена. Каждый день пребывания делился как бы на две части половину дня мы тратили на ознакомление с работой НПК, а вторую половину –на ознакомление с замечательным городом Пловдивом и его окрестностями. Такое удачное сочетание –не утомляло и не надоедало, наоборот- привлекало своим разнообразием.
Наиболее важные, по мнению хозяев, направления, к примеру оба НИИ –Овощеводства и Садоводства, представлял сам генеральный директор, кстати очень грамотный, порядочный и понимающий специалист и Человек. Сам ученый агроном, он нашел себе такого же понимающего собеседника, как наш Федот Спиридонович, и они активно и по-деловому обсуждали различные технологические и сопутствующие этому вопросы, отлично понимая друг друга.
При посещении НИИ овощеводства (он расположен на западной окраине Пловдива), меня больше всего заинтересовала не высокая культура земледелия, в нашем НИИ была не хуже, а привлекло внимание два момента- впервые увидел сладкий перец, не привычной для меня по крайней мере, формы – небольшой куст и плоды остроносые, большим букетом и носиками вверх, а не вниз, как обычно у сладкого перца с овальными плодами.
Но главное, что я увидел там- система капельного орошения. Я о ней слышал, читал. Но вживую не видел. Глядя на тонкие трубочки, по которым дозировано и по определенному времени, под корень растения поступает вода, я естественно, со стыдом и горечью вспомнил, как мы, у себя в районе, относимся к этому самому «орошению». Мы же «богатые», у нас воды –целый Днестр, лей хоть по колена, пока трактор с дождевалкой, не забуксует. Сколько раз приходилось принимать на себя негатив, вмешиваясь в ситуацию, когда идет проливной дождь, вода и так стоит по всему полю, а поливные агрегаты вовсю работают, потому что поливальщики не хотят терять зарплату….Бывали дни, когда масса воды в основном -просто перекачивалась, из Днестра- в Днестр….
Мы, конечно, не «хвалились» своими районными бедами, а только «достижениями». От нас, да и от тех же болгар в то время, требовали ПРОДУКЦИЮ, а во что она обходилась в экономическом плане – никого не интересовало. За снижение себестоимости и экономическую эффективность, орденов и машин не давали, только- за ВАЛ.
В НИИ садоводства (он –находится на восточной окраине города), нас чем-то особым не удивили, кроме разработанного у них набора приспособлений для уборки фруктов. Директором там был не садовод, а инженер-конструктор, под его руководством и была разработана новая система уборки.
Упрощенно это выглядело так- снизу, с опорой на ствол дерева, устанавливался большой , на всю площадь под деревом, конусообразный своеобразный «зонтик» из прочной ткани, острием вниз. Затем к дереву подъезжает небольшой трактор со специальным вибратором, работающим от вала отбора мощности трактора. Вибратор специальным устройством, захватывает дерево, включается вращение, вибратор буквально трясет дерево, несчастные плоды (по идее и заверению конструктора), падают в тот зонт-приемник, затем пересыпаются в транспортное средство.
Нам показывали сам процесс, на живом молодом дереве, но без плодов, было только начало лета и трясти было нечего.
Мы с Федей тогда выразили сомнение в применении такого устройства . Понятно, что стрясти плоды вполне возможно, тем более, с молодого дерева, но, что будет потом с САМИМ деревом?!. После такой тряски у него обязательно нарушится физическая связь с грунтом и на том его жизнь, может не с первого захода, обязательно станет проблемной. Автор изобретения, он же директор НИИ, уверял нас, что наши опасения напрасны. Не убедил. И вряд ли такое «новшество» где-то применялось позже в самой Болгарии….
Не буду в хронологическом порядке освещать все наши встречи и посещения отдельных направлений , научных и производственных участков НПК. Все, что было запрограммировано радушными хозяевами в этом направлении –было исполнено. Мы не просто созерцали нам представленное –мы работали, обсуждали, предлагали, рассказывали, как те или иные подобные действия осуществляются у нас, и по-хорошему высказывали свое мнение, чем больше располагали к себе тех специалистов, которые с нами занимались.
Они тоже не упали с неба и мы, понятное дело, были у них не первые гости, но по ходу наших встреч, они явно почувствовали, что мы не просто «гости», как раньше ерничали отдельные шутники – приехавшие «по обману опытом», а мы простые, понимающие люди, с которыми можно и приятно общаться.
Расскажу об отдельных моментах наших «непроизводственных» встреч. Болгария- красивая страна, с горами, покрытыми лесом, с сотнями разных речек, текущих с гор –к Дунаю, и к морю. Красив и приятен сам город Пловдив, в котором мы жили.
Он стоит, как бы на трех горах, разбросанных недалеко друг от друга. На одной из них, самой высокой, стоит памятник русским солдатам-освободителям, известный, как памятник солдату «Алеше». К памятнику есть дорога, и мы поднимались по ней. Я стоял у постамента, каменный сапог солдата, находился на уровне моей головы, протянул руку и погладил тот сапог на память…
От этого памятника, открывается прекрасный вид на весь Пловдив и его окрестности. И сам памятник виден за десятки километров. Знаковое такое, Святое место.
Посчастливилось нам побывать и в знаменитом Бачковском монастыре, что в 30 километрах от Пловдива. Удивительно красивое труднодоступное место, в котором разместился этот второй по величине, но, скорее всего –первый по значимости, монастырь, которому во время нашего посещения, было 899 лет!. Особенно запомнилось само место вообще, обилие замечательных фресок в византийском стиле, вкуснейшая родниковая вода, постоянно изливающаяся с обеих сторон при главном входе, и огромный зал музей – столовая, сохранившаяся с прежних времен, где стены и потолок украшены замечательными фресками, вдоль почти всего зала стоит длинный стол, а по обеим сторонам его такие же длинные скамейки. Здесь прежде справляли трапезу монастырские послушники.
Очень приятно поразил меня и старый Пловдив. Уютные удобные, в основном небольшие дома, оригинальные балконы с подпорками от стен, нехитрая полезная домашняя утварь прежних времен, как-то по- домашнему, по-дружески , притягивает взор и навевает какие-то приятные воспоминания из нашего детства.
Приятный город Пловдив, второй по величине в Болгарии, есть там, что посмотреть и запомнить.



