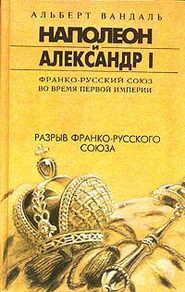 Полная версия
Полная версияРазрыв франко-русского союза
Однако, она не сочла себя побежденной и прибегла к последней надежде. Дело в том, что, объясняя причины, заставившие его перейти на сторону Франции, король сделал оговорку. Возвращаясь к одной из своих излюбленных тем, он дал понять, что все изменилось бы в его глазах, если бы Австрия, по примеру царя, тоже согласилась защитить его от нападения, и, поддержав его левое крыло, поставила вторую подпорку под его колеблющуюся монархию. Гарденберг, думавший, что имеет основание не отчаиваться в Австрии, поймал его на слове. Он предложил обратиться к Вене с отчаянным воззванием о помощи, и, в конце концов, лихорадочные споры свелись к принятию решения, благодаря которому все осталось в неопределенном положении и которое, ничего не предрешая, задерживало окончательно решение короля. Совещания с Сен-Марзаном возобновились 6 ноября. Решено было так: приступить к более серьезным разговорам с Францией, дабы в случае необходимости сохранить за собой возможность заключить с ней союз. Тем временем Шарнгорст должен был снова пуститься в путь и через Силезию пробраться к австрийской границе. Путешествуя с еще большей, чем в предыдущую поездку, таинственностью, избегая больших дорог, делая крюки и объезды, чтобы не попасться на глаза французских шпионов, скрываясь под чужим именем, переряживаясь и гримируясь на всевозможные лады, он должен был незаметно проскользнуть в Вену. Там он откровенно расскажет австрийцам о затруднениях и об ужасном положении Пруссии, доверит им, полагаясь на их скромность, русские предложения, выяснит значение и недочеты этих предложений и будет умолять императора Франца согласиться на взаимно-оборонительный договор между обоим и германскими дворами. Теперь решение зависело уже не от Петербурга, а от Вены, куда за ним и должен был поехать странствующий ради правого дела рыцарь[339].
Фридрих-Вильгельм согласился на этот шаг ради очищения своей совести, чтобы доказать, что не пренебрег никаким средством избавиться от ненавистного союза. В глубине души он не ждал ничего хорошего от Австрии, да и вообще ни от кого. В своем беспросветном пессимизме он смотрел яснее на вещи, чем его пылкие и экзальтированные приближенные. Он более чем достаточно поплатился за эгоизм кабинетов, чтобы поверять, что в минуту глубокой скорби Пруссия добьется чего-нибудь в Вене, конечно, не считая пустых соболезнований. Вообще жестокосердная судьба отучила его верить в счастье. Он находил, что во всех его начинаниях его преследовал злой рок, и теперь предвидел самый неблагоприятный исход дела.
Как ни мрачны были его предположения, все-таки они не доходили до такой степени, чтобы он мог предвидеть висевшую уже несколько дней над его головой опасность – самую большую и самую ужасную, какая когда-либо угрожала его короне и династии. Наполеон, все более убеждавшийся в том, что Пруссия его обманывает, что она по-прежнему продолжает военные приготовления, потерял, наконец, терпение. Он занялся тем, чтобы привести в исполнение свои угрозы.
Первые донесения Лефевра не доставили ему ни малейшего удовольствия. Приехав в Кольберг, французский ревизор заметил у властей явную наклонность, по возможности, все скрыть от него. Однако, несмотря на предписанные предосторожности, он застал рабочих за работой; заметил в большом количестве солдат, массы людей и материалов; видел выраставшие из земли вокруг крепостных стен редуты.[340]
В то же время наши агенты, проживавшие на побережье, доносили ему о непрерывных работах по снабжению крепости провиантом и оружием. Один из них донес о проезде нескольких тяжелых повозок; каждая из них была запряжена девятью лошадьми и везла по направлению к Кольбергу огромный ящик, будто бы наполненный товарами, а между тем в каждом из этих ящиков была тщательно уложена и скрыта под деревянной оболочкой пушка – на что имеются доказательства.[341] Таким образом, все, кто ни наблюдал за Пруссией, ловили ее с поличным в обманных деяниях. Сверх того, узнав о прекращении переговоров с Сен-Марзаном и не зная еще о их возобновлении; император Наполеон вынес из этих затяжек впечатление, которое вполне оправдывало его раздражение и недоверие. Около того же времени до него дошло известие о выдающейся победе русских на Дунае под Рушуком, что окончательно вывело его из себя. Его гнев вылился в яростных возгласах по адресу этих “собак, этих подлецов турок”[342], давших себя побить, но под влиянием обсуждения последствий этой победы, император перенес свой гнев на Пруссию. Думая, что турки понесли более тяжелое поражение, что они больше пали духом, чем это было в действительности, считая, что теперь уже невозможно помешать их миру с царем, он боялся, чтобы русские, развязав себе руки на Восток, не решились броситься в Германию и не начали войны, подстрекнув к восстанию Пруссию, которая, обманывая его, протягивает им руку. Чтобы отнять у русских эту опору, он задумал уничтожить ее с корнем, покончив с Пруссией, ибо она непременно хочет погибнуть. “Я вижу, – говорил он, – сколько недобросовестности в прусском кабинете; я так мало верю ему, что, думаю, невозможно будет помешать его гибели”.[343] И, не принимая еще окончательного решения, он принимает меры к нападению. Ввиду того, что в настоящее время Пруссия лучше вооружена, чем два месяца тому назад, и, может быть, окажет более серьезное сопротивление. он уже не хочет предоставить это дело самостоятельному руководству Даву. 14 ноября, возвратясь из путешествия, он приглашает маршала подготовить заблаговременно и представить на его одобрение план военных операций, задача которых – внезапно напасть на Пруссию и сразу же овладеть королем, двором, правительством, администрацией и армией.[344]
Маршал всегда свято исполнял приказания. Тем более теперь, когда дело шло об изыскании средств разрушить такое государство, как Пруссия, которую он считал лживой, вероломной, всегда готовой воспользоваться малейшей неудачей нашего оружия, чтобы схватить нас за горло. Он приложил к данной ему задаче все силы ума, с давних пор освоившегося с жестокостями и хитростями войны. В нем не шевельнулось ни малейшего угрызения совести при выполнении задачи, возложенной на его преданность и его патриотизм. Для нас должно быть предметом скорби, что жестокие средства, которые он предлагал применить, не возмутили его, не вызвали колебаний в его великой душе. Составив и выработав до мелочей план внезапного нападения на Пруссию и ее уничтожения, он 25 ноября отправил его императору: то был ужасный план.
В день, определенный заранее, дивизия Фриана c конными егерями Бордезуля, дивизия Гюдена с двумя кирасирскими дивизиями и несколькими резервными частями, и дивизии Морана и Компана с тем, что будет к ним прибавлено, охватят со всех сторон прусскую территорию. Дивизия Фриана, выступив из Мекленбурга, где она стояла по квартирам, бросится на Штеттин и на линию Одера. Дивизия Гюдена, выйдя из Магдебурга, окружит Шпандау и все истребит в Берлине. Дивизия Морана и Компана будут действовать в промежутке между дивизиями Фриана и Гюдена, вестфальские отряды примут участие во всех движениях. Чтобы не вызывать сразу же слишком большой тревоги, приказано будет сказать в Берлине, что русские вторглись в Польшу и что, вследствие этого, французские войска занимают прусскую территорию, имея в виду двинуться против них. “Можно даже будет поручить толковому офицеру передать на словах эти уверения, а, чтобы вернее заставить поверить, он сам будет введен в обман.[345]
Вслед за тем в Штеттин прибудет и сам маршал с частью 5-ой дивизии, Дезе и лично будет руководить делом разгрома. “Пруссакам не дадут соединиться. Все войска и отдельные отряды будут разоружены, обозы захвачены. Властям будут даны строгие приказания: не допускать скопления отпускных (людей, уволенных в отпуск), рекрут и рабочих”. В то же время, даже в тот же или на другой день по нашем вступлении, Понятовский выступит со всеми своими полками из Торна, двинется вниз по Висле и присоединится к вышедшей из Данцига дивизии Гранжана с тем, чтобы, сомкнув круг, помешать бегству и прервать все отношения между восточными провинциями и попавшим в тиски центром Прусской монархии.
До момента приведения в исполнение приговора все будет держаться в строжайшем секрете. “Этот секрет будет открыт только в последнюю минуту, – продолжал маршал, – и то только тем, кому знать надлежит. Я думаю принять меры, чтобы ввести в заблуждение о цели похода даже дивизии Фриана, Морана, Гюдена, Компана и др. Войска узнают истинную цель похода только в тот день, когда план разоружения прусской армии уже будет приводиться в исполнение. Саксонцы получат приказ двинуться на Глогау только в тот день, когда мы будем почти на Одере. До тех пор повсюду будет царить величайшее спокойствие, и это спокойствие в значительной степени поможет ввести в обман пруссаков. Я бы предложил взять от саксонцев два или три кавалерийских полка, один или два пехотных, и одну или две батареи легкой артиллерии и употребить их для охраны путей из Берлина в Саксонию, для задержания всех, кто захочет спастись этим путем, даже частных лиц, у которых с особой заботливостью будут отбираться бумаги. Это даст возможность захватить многих агитаторов и забрать бумаги, которые дадут верные сведения об их планах. Это войско войдет как можно скорее в сообщение с колонной генерала Гюдена и будет действовать смотря по обстоятельствам: завладеет Кроссеном и т. д.”.
“Я должен установить предположение, что король может быть захвачен врасплох в Берлине. Взятие в плен короля будет иметь настолько важное значение, что, по-моему, не следует упускать этого случая.
“Осмеливаюсь просить распоряжений Вашего Величества относительно всех проживающих в Берлине иностранных послов; присутствие этих господ всегда чрезвычайно вредно”.
“Предлагаю задерживать всех иностранных курьеров, которые едут в Петербург или возвращаются оттуда, и, соблюдением всевозможных приличий, отбирать у них депеши”.
“Я избегаю, Государь, посвящать кого бы то ни было в этот план, так что даже князь Понятовский узнает о нем только при получении приказаний; и не потому, чтобы не доверял ему,– я считаю его честным и преданным Вашему Величеству человеком, – но письмо может валяться, а в Польше много очень ловких женщин”.
“Можно надеяться, что результатом этого плана будет полный разгром и что никто в Пруссии не будет знать, ни что ему делать, ни в каком положении дела, так как почти все курьеры будут перехвачены”.
“Чтобы избегнуть со стороны гарнизона всякого поползновения к сопротивлению, можно на всякий случай потщательнее сфабриковать фальшивый договор, в котором будет сказано, что король, решив действовать в тесном единении с Францией, согласился отдать на время в наше распоряжение крепости, крепостные сооружения и укрепленные пункты своей монархии. Возможно, что, по предъявлении этой бумаги, перед нами откроются все двери, и все средства будут отданы в наше распоряжение. Можно будет уверить прусские войска, что их отведут в Силезию и там возвратят их повелителю. Они узнают о своей участи и поймут, что они в плену только тогда, когда отдадутся в наши руки”.
“Я прекрасно знаю, прибавляет маршал, что ни в одном слове этого проекта нет и следа законности; но это будет только платеж прусскому правительству его же монетой. Поэтому-то я и предлагаю его, а также и потому, что он выполнит желание Вашего Величества– как можно выгоднее начать дело. Возможно, что Ваше Величество отвергнет большинство изложенных в этом проекте мыслей, в особенности, мысли, относящиеся к фальшивому договору; но это можно изменить. Во мне зародилась эта мысль вследствие подобного же рода хитрости, к которой пруссаки прибегли в Майнце. Они сочинили от имени генерала Кюстена к коменданту крепости приказ сдаться на капитуляцию на наилучших условиях, так как нельзя надеяться на выручку. Сознаю, что это месть немного жестокая, но ее можно смягчить при выполнении дела”.
IV
К счастью для своей славы, Наполеон отклонил этот план. Через несколько дней после того, как он потребовал от Даву, чтобы тот сообщил ему свои мысли, он узнал, что берлинский кабинет снова открыл совещания и готов принять в принципе наши условия; это было лучшей отметкой в его активе. Лефевр, продолжавший свой объезд, посетив после Кольберга Пиллау и Грауденц, доносил, что в работах произошло некоторое замедление и что люди собирались и обучались уже с меньшей энергией; ему даже показалось, что общество устало, что в умах заметна наклонность не идти против неизбежного и допускается идея вполне отдаться на волю Франции.[346] В первый раз – это собственные слова Наполеона, сказанные князю Шварценбергу – император нашел, что Пруссия, “как будто хочет исправиться” [347], и он написал брату Жерому, “что в случае войны, она, без сомнения, пойдет с нами”.[348] Поэтому, он еще раз решил не прибегать к крутым мерам в Германии и пощадить Пруссию, но не спускать с нее глаз. Не отказываясь от решения сломить ее при малейшем подозрительном движении, он снова приложил старания привлечь ее мирным путем на свою сторону и приказал двинуть вперед переговоры о союзе.
15 декабря, в целом ряде новых инструкций Сен-Марзану герцог Бассано точнее определил условия соглашения и форму, какую надлежало им придать. В виду того, что император все еще притворялся, что считает себя в союзе с Александром, и ставил себе в заслугу, что явно не нарушает тильзитского договора, следовало соглашению с Пруссией придать такой вид, будто оно направлено против Англии; будто договору надлежит точнее определить обязанности обеих сторон в морской войне. За этим, подлежащим огласке соглашением должно было скрываться другое секретно заключенное соглашение, временной союзный договор против пограничных с Францией и Пруссией государств; наконец, этот второй акт должен был прикрыть третий, еще более секретный, которым бы устанавливалось содействие Пруссии против России.
В последнем отношении Наполеон допускал известные облегчения. Прусские войска, вместо того, чтобы рассеяться по рядам великой армии, должны были насколько возможно сохранить свою индивидуальность. Весьма слабый гарнизон допускался в Потсдам, так как король мог сделать его местом своего пребывания. На этих основах Сен-Марзану приказано было вести переговоры с прусскими министрами, выслушать их возражения, в случае надобности уступить им по некоторым второстепенным вопросам мало-помалу, не торопясь, установить с ними текст трех актов и затем представить на одобрение императора. Около этого же времени император вызвал Круземарка в Тюльери и торжественным, решительным тоном раскрыл пред ним свою мысль и оборотную сторону медали – свое искреннее желание сговориться с Пруссией и свое решение безжалостно покарать ее, если не добьется от нее безусловной преданности и полнейшего послушания. Он сказал, подчеркивая каждое слово, что никогда не думал разрушать Пруссию и лишать династию престола из принципа. “Я предпочитаю видеть в Берлине короля, а не своего брата”.[349] Условия, продолжал он, переданные от его имени, представляют истинное выражение его желаний; но раз Пруссия вступит с ним в обязательство, он не потерпит ни затаенной мысли, ни малодушия, ни нарушения данных обязательств. Он не из тех союзников, которых бросают и к которым снова возвращаются в зависимости от колебаний военного счастья, и король сделает опасную ошибку, если вздумает последовать примеру Фридриха II, который, во время войны за австрийское наследство, переходил из одного лагеря в другой. Горе Пруссии, если она снова за жалкую и нечистую игру, и впадет в те роковые заблуждения, из-за которых гибнут королевства!
Когда это беспощадное предостережение раздалось в Берлине, где Сен-Марзан уже двинул вперед переговоры, от Шарнгорста не было еще никаких определенных известий; его миссия в Вене затягивалась, не приводя ни к какому результату. Меттерних начал с возражений по поводу выбора Шарнгорста эмиссаром. Он указал на то, что Шарнгорст слывет членом революционных сект, которые, под видом любви к отечеству, скрывают свои разрушительные стремления. Конечно, австрийская щепетильность ужаснулась при мысли о возможности общения с таким человеком. Только благодаря влиянию британских агентов удалось Шарнгорсту, приехавшему в Вену при таких условиях, войти в сношения с министром иностранных дел. Меттерних, хотя и высказывался против него, тем не менее, на первых порах принял его хорошо, и счел нужным дать ему некоторую надежду. У него были свои причины – вскоре увидят какие – не разрушать слишком рано надежд Пруссии, а держать ее известное время в неопределенном положении. Он пообещал изучить вопрос и в продолжение нескольких недель занимал Шарнгорста сладкими речами. Затем встречи с главою австрийского правительства становились все реже, и на последнем свидании, 26 декабря, просьба Пруссии была окончательно отклонена, что сделало пруссака “невыразимо несчастным”. В оправдание своего отказа Его Императорское Величество сослался на расстройство финансов и на затруднительное положение внутри страны, которые не позволяют ему ставить себя в предосудительное положение ради интересов Пруссии.[350]
Переписка в условных выражениях прусского правительства с Шарнгорстом уже вызвала в Берлине предчувствие этого ужасного разочарования. События оправдали короля, не оправдав министра; они отняли у Гарденберга последний аргумент против французского союза. Однако, мысль стать под ненавистное знамя, сражаться в угоду притеснителю, вселяла пруссакам такой ужас, что январь месяц подходил уже к концу, а они все еще не могли решиться на этот шаг. Гарденберг все еще смотрел в сторону Вены, и молил о каком-нибудь указании, которое дало бы ему луч надежды. Он то затягивал, то прерывал совещания с Сен-Марзаном, и, боясь вывести из терпения нашего посланника, дрожащей рукой писал ему письма, уверяя его, что в этих проволочках нет злого умысла.
Наконец, когда, по возвращении Шарнгорста, ясно обрисовалось равнодушное отношение Австрии, когда вполне выяснилось, что тщетно стучались и в эту – последнюю дверь, Пруссия покорилась своей участи, склонила голову и позволила надеть на себя ярмо. 29 января 1812 г. Сен-Марзан получил уведомление, что король и его министры отказываются оспаривать наши требования. Они соглашались на все условия, какие императору угодно будет предписать им, выражая при этом надежду, что великодушный монарх, движимый благородными чувствами, по собственному побуждению, милостиво дарует им некоторое облегчение. Король выразил желание, чтобы количество наличного состава его войск не было ограничено сорока двумя тысячами человек; чтобы Франция, по занятии гарнизоном Берлина, не пропускала через него корпуса, которые выступят в поход против России, чтобы она избавила прусскую столицу от этой чересчур большой тяготы; главным же его желанием было получить известное облегчение в уплате невнесенной военной контрибуции. Но ни одно из этих пожеланий не было выставлено, как условие союза, согласие на который давалось во всяком случае. Пруссия уже не вела переговоров, она просила и умоляла.[351] В первых числах февраля Наполеон понял, что она отдается ему, как существо, потерявшее силу и волю; ему оставалось только протянуть руку, чтобы овладеть ею.
Тогда он занялся Австрией. Соглашение с нею в общих чертах было намечено около года тому назад. С тех пор и до настоящего времени серьезных разговоров не заводили, а только кокетничали, довольствуясь больше намеками. Теперь, по мнению Наполеона, пришло время упрочить отношения и, не подписывая пока договора, заручиться союзом. 17 декабря он открылся Шварценбергу. Довольно разговоров, сказал он австрийскому посланнику: время начинать переговоры; пора ясно изложить обоюдные обязательства и заменить [352]“болтовню” делами и итогами.
Приглашение императора объясниться не поставило Шварценберга в затруднительное положение, ибо двор его только что снабдил его инструкциями, что дало ему возможность не только ответить на наши предложения, но, в случае необходимости, и предупредить их. В ту минуту, когда император с ясными словами обратился к венскому двору, тот шел уже к нему навстречу. И, нужно прибавить, что это движение, сверх всякого ожидания несчастной Пруссии, было ускорено миссией Шарнгорста.
По призыву на помощь из Берлина, по отчаянному воплю Пруссии, Меттерних мог определить, до какой опасности, до какого ужаса она дошла. Он понял, что Пруссия накануне отчаянных решений; что задерганная двумя оспаривающими ее друг у друга императорами она готова броситься на шею тому или другому. Австрийцам существенно важно было не дать этому событию захватить себя врасплох. Меттерних думал так: если Пруссия заключит союз с Россией, если она обопрется на нее, чтобы дать отпор требованиям Франции, Наполеон непременно нападет на нее. По всей вероятности, он с первого же удара раздавит и разнесет ее вдребезги. В таком случае Австрия проявит к ней теплое участие, прольет слезу по поводу постигшего ее великого бедствия. Но, отдав долг приличиям, не следует ли выступить с претензиями на наследство соседки? В течение целого столетия Пруссия росла и округляла свои владения за счет соседей. В останках этого, созданного грабежами государства все признают и найдут свое добро. Разве нет у Австрии основания напомнить, что Силезия незаконно была отнята у нее Фридрихом II, и что, по праву собственности, она должна вернуться к прежнему владельцу. Но, чтобы с успехом потребовать возврата Силезии, Австрии следует заранее втереться в милость верховного распределителя земель и провинций. Договор о союзе с императором даст ей право явиться на раздел Пруссии. С другой стороны, если Пруссия будет искать спасения в покорности и заключит союз с Францией, прежде чем это сделает Австрия, император Наполеон, заручившись одним из двух немецких государств, будет менее нуждаться в другом и предложит ему не столь выгодные условия. Конкуренция Пруссии понизит цену на союз с Австрией; австрийский двор может остаться позади, так сказать, за флагом. Вот почему, как при первом так и при втором предположении австрийский двор должен как можно скорее войти в соглашение с Наполеоном и занять в Тюльери вполне определенное положение.[353] 28 ноября Меттерних пригласил Шварценберга упредить Пруссию, и, явившись к императору, откровенно заговорить о союзе; сам же решил на некоторое время поддерживать несбыточные надежды Шарнгорста и оттянуть решительные шаги Пруссии. Вот благодаря чему Наполеон, приступив с австрийским посланником к обсуждению вопроса о союзе, нашел в нем человека, уже снабженного инструкциями.
На совещании 17 декабря легко пришли к соглашению. Австрия обязалась действовать заодно с нами против России. Она согласилась выставить вспомогательный корпус. За это Наполеон гарантировал ей, если бы она того пожелала, обмен Галиции на Иллирийские провинции в том случае, если результатом войны будет возрождение Польши. Кроме того, он позволял ей надеяться на приобретение на Дунае – в тех румынских княжествах, которые он считал потерянными Турцией, и глухо намекнул на улучшение границ со стороны Германии. Что же касается Силезии, о которой было упомянуто только вскользь, то он не прочь был вернуть ее Австрии при малейшей попытке Пруссии уклониться в сторону и кинуться в пропасть[354]. Получив уведомление об этом совещании и его результатах, Меттерних предоставил Шварценбергу полную свободу заключить союз и снабдил его полномочиями. Наполеон вскоре убедился, что венский двор, подобно берлинскому, ждет для заключения договора только его соизволения и готов дать свою подпись, когда ему будет угодно.
Таким образом, на громадной шахматной доске Центральной Европы, где завязалась игра различных сил, все устроилось, благодаря целому ряду шагов, приведших к результатам, как раз обратным тем, каких желали достигнуть Россия и Пруссия. Так как русский император, движимый политическими и стратегическими соображениями, не решился взять на себя защиту Пруссии в том виде, как она того желала, и не согласился слишком далеко забираться в Германию, Пруссия, с отчаяния, кинулась к Австрии с просьбой о совете и помощи, ища у нее точки опоры. В свою очередь и Австрия испугалась, как бы ее соседка не выкинула какого-нибудь безрассудного поступка, который мог и ее поставить в нежелательное положение. Видя, как с поразительной быстротой надвигаются важные события, и желая их использовать, она не нашла иного способа, как сговориться с тем, кому, по-видимому, суждено было управлять ими. Она помчалась к императору и смиренно предложила ему свои услуги.
V
Не получая обратно из Берлина конвенции от 17 октября с королевской ратификацией, Александр понял, что у Фридриха-Вильгельма не хватило мужества довести до конца свой проект – восстать против Наполеона и попытать счастье в войне. Не допуская еще полной измены Пруссии, царь сравнительно легко примирялся с решением слабовольного короля, которое позволяло ему вернуться к избранному им плану, т. е. к плану оборонительной войны, на который он возлагал столько надежд. Поэтому он ничего не сделал, чтобы оказать давление на решения Пруссии. Он снова застыл в неподвижной позе; он спокойно выслушивал подозрительные просьбы Наполеона и отвечал на них пренебрежительным молчанием. Но окружающие его не так-то легко мирились с мыслью о войне, в которой России приходилось ставить на карту свою судьбу, и мы сейчас увидим, что страшные тревоги Пруссии совпали с достойной внимания попыткой наладить возобновление переговоров между императорами и создать благоприятные условия для соглашения. Это было личным делом одного русского; честь эта принадлежит тому самому графу Нессельроде, первые выдающиеся шаги которого предвещали блестящую карьеру.



