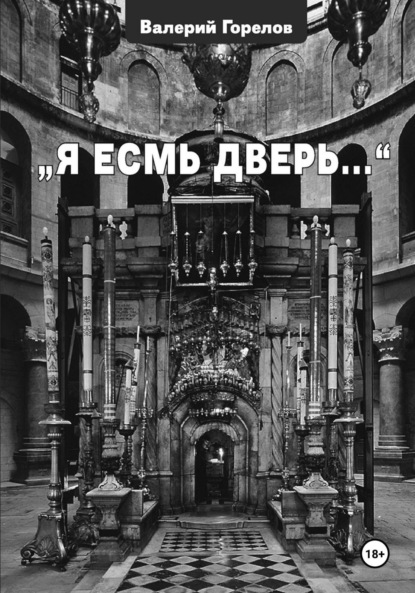
Полная версия:
Я есмь дверь…
Отца и маму Вани волоколамского похоронила община. Он тоже было приехал попрощаться, но вовремя сбежал. Искали парня по фамилии Победоносцев. Оплеванному уполномоченному явно было мало двух жизней. Василий с Варварой уже стали привыкать к этому парню. Он был очень начитанный и по возрасту прямо подходил им в сыновья. Они даже не решались сказать, о чем думают, а думали, что хорошо бы, чтобы у него отчество было Васильевич. Варвара и вовсе мечтала: если у него будет фамилия Панфилов, для нее наступит какое-то искупление за прошедшее и потерянное. В тот год поменять фамилию и отчество было обычной процедурой. Людей принуждали отказываться от родителей, что было какой-то гарантией выживания. Вот так и стали они жить вместе, как полноценная семья. Как бы уже и впроголодь, но по-человечески.
* * *
А старший лейтенант Иван Иванович, 22-х лет от роду, уже вторые сутки лежал на нижней полке плацкарта и старался размышлять на темы приятные и легкие. Он даже окна не расшторил, чтобы не грустить от зимних видов замерзающей природы. Иван временами дремал, когда вагон притормаживал, и вагоны громыхали друг об друга. В полусне ему виделось, что это крупнокалиберные пули бились о крылья и фюзеляж самолета. Уже где-то на полпути провидение прислало ему интересного собеседника, по которому было непонятно, то ли освободился он уже из лагеря по истечении срока, то ли перебирался из одного лагеря в другой. Мужчина был в телогрейке лагерного покроя, такой же казенной шапке, но при этом с черной бородой с густой проседью. Говорил он грамотно и интересно, и, по всей видимости, нуждался в собеседнике. Голубые петлицы с крыльями на форме Ивана, возможно, подвигли его поговорить о небесах, и он рассказал историю – не то религиозную, не то криминальную. Сейчас все предпочитали общаться на любые темы, но только не говорить о том, что происходит в реальном времени.
Дядька, похоже, был прилично и давно простужен. Он швыркал из граненого стакана кипяток и при этом шмыгал носом, но все это ему не мешало говорить. Первое, что он спросил, знает ли его собеседник историю жизни Иоанна Крестителя. Иван не знал. Но тому, собственно, неинтересен был его ответ. Он начал излагать. Так вот, эта евангелистская и историческая фигура пострадала за правду и попала в немилость к иудейскому царю Ироду. А этот злодей на свой манер и распорядился его жизнью, а верней, жизнью его распорядилась женщина, попросив царя преподнести голову этого героя ей в подарок. Вот чем закончились изобличения царствующих праведников.
– А вот на Святой земле, – продолжал рассказчик. – На месте рождения Иисуса лежит четырнадцатиконечная звезда, и вот мудрецы считают, что она сотворена из того самого серебряного подноса, на котором была принесена в дар голова праведника.
Для Ивана все это прозвучало как сказка о злодее Кощее и добром богатыре-правдолюбце, который всегда рядом. Случайный попутчик закончил свой рассказ и даже не намекнул, в чем мудрость и мораль этой истории. Он встал, блеснул черными глазами и уже больше не появился. Наверное, где-то вышел в сибирской ночи.
Пройдет много лет, и Иван вспомнит ту дорожную историю и поймет ее мудрость и мораль. А пока он ехал совершать подвиги, как того требовали время и Отчизна. С него еще много потребуют, и много будет исполнено. А когда и не будет исполнено, то получится как в сказке: он превратится в «деревянного» героя, которому вместо золотого ключика и букваря с картинками предложат примерить терновый венец мученика. Это и будет духовный подвиг, и за него придет воздаяние.
* * *
А в самом центре Москвы, на Лубянке, приводили в исполнение смертные приговоры, трупы сотен расстрелянных вывозили в заранее приготовленные ямы. Даже с видимостью законности было покончено. Истерические приступы любви к вождю сменялись дикими вспышками ярости к мнимым врагам. На месте взрыва Храма Христа Спасителя зияла огромная яма, а кругом все с жаром рассказывали, что тут будет небоскреб высотой 500 метров, увенчанный стометровой статуей вождя рабочего класса всего мира. И будет эта статуя из чистого серебра. Они испытывали радость и трепет, что эта статуя будет выше колокольни Ивана Великого. Эта фигура станет грандиозным маяком и изменит сам пейзаж планеты – на карте мира исчезнут границы государств. Эту идею выдвинул Киров еще в 1922-м году. Тут на память приходит ассоциация со строительством Вавилонской башни, когда люди хотели возвысить себя, и, как сказано в Библии, – «сделать себе имя». И если Ваал все-таки был в Москве, то, несомненно, он в этом проекте участвовал, и только ему до конца понятна роль в нем «серебра окаянного».
В Москве, погружавшейся в полумрак, магазины выглядели, как бараки. Выставленные в витринах товары имели вид плесневелый. Никакой рекламы нигде не было, да и зачем? Везде один хозяин – государство. Только Большой театр процветал, репрессии и чистки 1937-го года его почти не коснулись. Это был театр вождя, который считал себя покровителем изящных искусств.
За тем самым тяжеленным шкафом, где когда-то Баскаков хранил свои сокровища, оказался еще и заделанный тонкой фанерой дверной проем. Они его наполовину разобрали, и получился удобный лаз, сообщавший два помещения коммунального рая. Теперь они могли свободно общаться, и иногда туда могла проникать Варвара, чтобы делать какую-то уборку. Ваня рвался найти хоть какую-нибудь работу, чтобы не сидеть на шее этих добрых людей. Он съездил в родной Волоколамск и привез оттуда две связки книг. Они теперь их втроем читали. Иногда гуляли по Мясницкой, но не Кирова, от Чистых прудов и до Красных ворот. Если погода не совсем пасмурная была, то ловили на Чистых прудах золотых карасей, целовали их и отпускали назад, а еще катались на трамвайчике по Москве-реке. Ни Василий, ни Варвара не думали, что такая жизнь бывает. Это когда твое же добро для тебя оборачивается счастьем жить.
К началу ноября на башнях Кремля были установлены новые светящиеся рубиновые звезды. В основном они были на подшипниках и могли поворачиваться, как флюгер. А по улице Серафимовича передвигали дом номер пять.
Василию удалось устроить Ивана на работу в механическую мастерскую, счищать с заготовок и металлических балок грязь и ржавчину. Ванечка тому был несказанно рад и со всей ответственностью взялся за эту тяжелую и грязную работу. Помимо этого, его приняли в ФЗУ, где учеба сочеталась с работой на предприятии. В Москве, хотя очереди за хлебом никуда не делись, и множества товара в открытой торговле не было, они находились в нормативных списках. Выживать в столице стало легче. Но все хотели знать свое будущее, ибо каждого угнетали предчувствия. УГРО дозналось, что в одном из домов некая Е. Сайфер занимается предсказаниями. Она, бывало, в день принимала по триста человек и за сеансы брала серебром. Предсказательница созналась, что обманывала доверчивых людей во время сеансов. У нее было найдено 20 тысяч рублей и 20 килограмм серебра. 19 ноября 1937-го года ее расстреляли на Бутовском полигоне. Об этом сообщила газета «Правда» от 4 ноября 1937-го года. Прочитав эту заметку, Варвара сказала одно слово: «Поделом». Непонятно, к кому это относилось: то ли к обманутым, то ли к гадалкам.
* * *
Хабаровск встретил Ивана холодным туманом и безветрием. Но и в такой погоде его форменный кожаный плащ и фуражка с голубым околышем были совсем непригодны. В любом случае его должны были в дорогу соответственно приодеть. С вокзала до аэропорта он по-молодецки добрался маршрутным автобусом. Молодая кондукторша не сводила с него глаз и даже плату за проезд не сразу решилась взять. Уж больно для местного населения он выглядел необычно. В аэропорту он быстро нашел, кого нужно. Там сверились с его бумагами, дали на время шапку и повели в самый дальний угол аэропортовского поля, где стоял и грелся уже два дня приписанный ему Р-5.
Биплан стоял на лыжах точно таких же, на которых в 1934-м году садились на лед чукотского моря, чтобы спасти экспедицию Шмидта. Среди тех летчиков был и Водопьянов, маршрутом которого придется лететь старшему лейтенанту военной авиации Ивану Панфилову, и лететь одному. Самолет был гражданской модификации, без пулеметов. Иван был очень хорошо знаком с возможностями этой машины. Он на такой налетал немало часов. Иван залез в кабину. Радовали две вещи – низкий уровень вибрации работающего на холостых двигателя и отличное прозрачное лобовое стекло, что нелишне иметь при такой погоде. Полоса разбега примерно 500 метров была ровной и хорошо притоптанной.
В теплой столовой за горячим супом и котлетой местные летчики не сводили глаз с его Красной Звезды на гимнастерке. Эта награда была точным признаком участия в войне в Испании. В общих чертах все было так, как ему и представлялось. Сначала Николаевск-на-Амуре, а потом северный Сахалин. Проект полета был гражданский, а он еще более волнительный, чем военный. Вылет завтра в 10 часов, прогноз погоды благоприятный, его потолок полета от 500 до 1500 метров, маршрут по местным ориентирам и, конечно, компасу и карте. Сложность была в том, что полная заправка давала 800 км расстояния, а покрыть надо было 650 км, так что отворачивания и загибы надо было свести к минимуму, учитывая еще и увеличенный расход топлива в таких морозных местах. Прибыть к месту назначения он должен был не меньше, чем за четыре часа, то есть к самому обеду. Там его уже ждали с пельменями из калуги.
Отоспавшись за неделю в поезде, Иван долго не мог уснуть, понимая, что за ним там следят из Москвы, и его возвращение в бомбардировочную авиацию во многом будет определяться вот этими, совсем не военными, перелетами, которые были очень нужны бурно развивающимся дальневосточным регионам.
Утро точно повторило вчерашнюю картину морозом, легким туманом и безветрием. Обмундирование село как надо и даже чуть с запасом под свободу движения. А волчьи унты – то было вообще нечто. Гражданских летчиков в таких условиях явно не обижали, если в дорогу сунули еще пачку печенья и плитку шоколада «Красный Октябрь». Провожали в дорогу человек восемь, в основном молодые летчики и механики. Самолет вручную развернули, Иван дал обороты, он поскользил по снежному насту, примерно метров через 350 оторвался от земли и, покачав крыльями, полетел по руслу Амура, который, как диковинный змей, извивался к северо-востоку, к Татарскому проливу. Термос с каким-то пахучим, явно не пролетарским чаем, да еще сдобренный брусникой, стоял рядом. Солнце светило ярко, но не грело. Ваня был в приподнятом, можно сказать, даже бойком настроении. Р-5 считался хоть и мелким, а бомбардировщиком. Но сейчас он летел не бомбить, а прокладывать новые маршруты по своей стране. Все вокруг блистало серебром: и земля внизу, и редкие облака, и даже ледяной воздух внизу казался видимым. А то, что по этим разведанным маршрутам погонят этапы каторжников, – Ваня считал, что это его не касается. Он просто солдат и его дело – верой и правдой служить. Так он думал тогда, на высоте 1000 метров над пустынной и дикой территорией, которая тоже была его страной. А что и те, кто будет его встречать, и те, кто готовит праздничный обед, тоже в большинстве своем вынужденные переселенцы, а не романтики больших странствий, он знать не мог.
* * *
Не имея возможности ни изменить свою судьбу, ни распорядиться ей, дети, попавшие в водоворот социальных катаклизмов, оказались самыми бесправными жертвами. Многие были лишены детства, радости, своих настоящих имен и дат рождений, а зачастую – и жизни. Неделю как тихо-тихо в своем углу умерла слепая бабушка, но схоронить ее по христианским обычаям было некому. Мама настолько ослабела, что даже в свое рванье самостоятельно не могла облачиться. Машенька до того исхудала, что шаталась при каждом шаге. Она носила маме водички, когда та просила и когда не просила. В этом доме уже давно не было не то, что куска хлеба, но даже свекольных и картофельных очисток. Голод, как чудовище, зажевывал своих жертв. А ведь у них когда-то и школа была, Машенька туда ходила учиться грамоте, а сейчас от голода она уже плохо соображала. Ей казалось, что за окном весна, и скоро у нее день рождения, а его вроде как и не было, а вот день смерти скребся в двери.
Из письма вождя: «С точки зрения социалистической идеологии, как когда-то капитализм разбил феодализм, создав государство в защиту частной собственности, так и социализм не сможет утвердить новое общество, если не объявит общественную собственность священной и неприкосновенной». Так и родился в августе 1932-го года «Указ 7-8», он же «Закон о трех колосках», и начал на местах неукоснительно исполняться. К этому прилагалось распоряжение, запрещающее менять место жительства. Тем самым была установлена «голодная блокада».
Сегодня с утра в село опять ворвался грузовик, чтобы что-нибудь отобрать. Слышны были истошные крики, и раза два пальнули. Это называлось «изымать излишки» крестьянского труда. Похоже, они уже знали, куда идти, и тут не обходилось без наводчиков и христопродавцев. Мама, сколько было сил, обняла Машеньку и благословила: «Беги, доченька, на колхозное поле, наломай стеблей пшеницы, да стой с ними у дороги, когда эти демоны будут возвращаться, чтобы тебя увидели. А увидят – не беги, убьют. Пусть тебя арестуют и увезут. Тут шансов выжить нет». Она это сказала без единой слезинки, не было их, все выплакала. И Машенька пошла на заклание на милость чудовищу. Бежать она не могла, шла, шатаясь, на тоненьких как стебельки ножках. А две ее тоненькие косички свисали как ручейки страданий.
Девочке было 13 лет от роду. Ее увидели и, конечно же, арестовали. Связали руки и ноги стеблями еще совсем незрелой пшеницы, и закинули в кузов грузовика как свою добычу. В кузове лежали 1,5 мешка уже запревшей пшеницы и плесневелого гороха, и она – расхитительница социалистической собственности. Маша свернулась калачиком на перегнившей соломе и пыталась клевать, как воробушек, со своих тоненьких ручек, закованных жесткими стеблями, вперемешку с колосками незрелые зернышки кормилицы-пшеницы.
Ее с еще тремя подростками в тот же день осудили, и каждому дали одинаково – по три года, как малолетним расхитителям социалистической собственности. Но вечером накормили чем-то жидким, пахнущим мертвечиной. А когда еще солнышко не взошло, их повезли на телеге к месту отбытия наказания. Конвойный с винтовкой шел за телегой, а возничий в шинели красноармейца все время бубнил одну и ту же песню о пригоршне серебра. Местом доставки груза оказалась детская колония имени Розы Люксембург, которая размещалась в Иверском монастыре. Здесь Машу по физическому состоянию посчитали «дефективной» и признали правильным решение изъять ее из здорового общества. Заключение было таким: «дохлая воровка». И определена она была в учреждение особого типа для несовершеннолетних преступников, где должна была обучаться квалифицированным видам труда. Ничего более враждебного детству придумать было нельзя. Выбор был между голодной смертью и принудительным трудом.
В этом карательном учреждении Машенька и отбыла почти весь свой срок. Она все время болела, и толку от нее в решении задач социалистического строительства практически не было. От нее с удовольствием избавились, когда в трущобы коммун стали брать не только ребят, но и девочек. Так она оказалась в Болшевской трудовой коммуне им. Ягоды. Здесь Машенька чуть поправила свое здоровье и окончила семь классов. Но все это продолжалось недолго. В 1937-м году Генрих Ягода был снят с должности и арестован. Он был обвинен в связи с царской охранкой, воровстве и растратах. И пресс опустился на трудовую коммуну его имени. Начали с тех, кто появился тут по приговору суда, и у кого срок приговора истек. Их вывезли за 100 км от Москвы и выкинули у стен какого-то монастыря. Она зиму прожила приживалицей в монастыре на самой грязной работе, а к весне свалилась в горячке и потеряла память. Ее живую, видимо, постеснялись закопать, а подкинули с оказией в Москву и посадили у стены бывшего императорского телеграфа.
А Василий Баскаков теперь работал по снабжению ФЗУ. От работы с продуктами, на удивление начальства, он отказался и теперь занимался тем, что собирал по городу старую одежду, да белье возил в прачечную, а потом сам его и выдавал ученикам ФЗУ. Кроме того, он заведовал расходными материалами мастерских. В тот вечер месяца нисан он возвращался с работы в хорошем настроении. Сегодня он долго общался с Ванечкой, тому нравилось учиться, и о нем все отзывались с положительной стороны. Василий в тот день подумал, что если бы у него был сын, он хотел бы, чтобы тот был похож на Ванечку. Еще он с оказией купил совсем свежих коровьих костей, а значит, Варя заварит сегодня похлебку с пшеном и галушками.
Мясницкая (Кирова) была полупустой, редкие прохожие шли скорым шагом, и казалось, ничего вокруг не видели. А он заметил у стены бывшего императорского почтамта что-то уже совсем странное. Подойдя поближе, он разобрал, что в тачке, похоже, из лагерного инвентаря, находилась детская фигурка в какой-то монашеской сутане. Она протягивала тоненькую ручку с надеждой на подаяние, а рядом лежала маленькая собачка неизвестной породы и издавала не то писки, не то стоны.
Собака была вся в московской грязи, а ручка ребенка была тоненькая и трясущаяся. Он положил в нее какие-то копейки, и ручка не спряталась под черное рубище, а просто упала, видимо, ей эту мелочь было удержать не под силу. Василий все стоял и стоял рядом, потом взял за ручки тачку и повез. Колесо вихляло из стороны в сторону и ужасно скрипело, и было страшно смотреть, как ползет сзади та самая собачка. Василий взял ее на руки и посадил рядом в тачку. Он когда-то служил Мамоне, а теперь под скрип этой лагерной тачки уходил в вечность.
* * *
Николаевск-на-Амуре ожидался, и по времени появился, на полосе горизонта. Когда-то это поселение было крайней точкой пребывания русских на Дальнем Востоке и портом на реке Амур. Первое поселение Николаевского поста состояло из шести человек, а первым строением стала якутская изба – ураса. В 1857-м году тут уже проживало более 1500 человек. После освобождения города от японских интервентов здесь была установлена советская власть, и он стал центром Николаевского округа Дальневосточного края. В 1934-м году город назначили центром Нижнеамурской области; а Ивана уже, похоже, обнаружили. Рация энергично затрещала. Взамен второго члена экипажа на самолете была установлена РСБ «Двина» весом 56 кг, но она только защелкала, а визуально было видно сигнальные кроваво-красные флаги на фоне белого льда Амура-батюшки. Иван повел самолет на снижение и через полчаса уже тормозил по льду, поднимая столбы ледовой пыли в прозрачный морозный воздух.
Повстречали его прямо торжественно, разве что хлеб-соль не принесли. Иван был смущен, но и горд за себя, за всех летчиков и за всю свою советскую родину. Его прямо круто, на ГАЗ-М1 (эмка), повезли в клуб, видимо, с расчетом на длительную речь во славу авиации, но у него не очень получилось. Комсомолки и юные авиаторы смотрели на Ваню восторженными глазами. Лицо его постепенно отходило от мороза, и на щеке четко обозначился шрам в виде большой запятой. Люди, наверное, принимали его вместе с Красной Звездой за испанский след. Сославшись на усталость и пообещав, что летчик все расскажет завтра о своем перелете и вообще о себе, главный исполнитель встречи повел его на обед. В столовой тоже было много народу, но все больше из доверенных лиц и руководящих должностей. От водки Ваня отказался, но, похоже, что он был один такой. Принесли огромный таз дымящихся пельменей. Это было просто чудо из чудес, да еще и с уксусом, и с настоящей горчицей. Местные из этого перелета хотели сделать праздник, и, кажется, праздник получился. Тут Ивану подарили серебряный знак «Добролет». Вроде как у истоков создания этого общества стоял сам В.И. Ленин. Но были новости и не очень хорошие, хотя для Ивана приемлемые.
По плану перелета он должен был лететь на Александровск-Сахалинский, до которого было 268 км. Но метеорологи давали нехороший прогноз. Через сутки должно было забуранить, и сколько это продлится, никто сказать не мог. Но на северах погода должна была оставаться стабильно хорошей. Так что была возможность слетать в Оху, а этот маршрут интересовал «Добролет» очень даже. В Оху летал Водопьянов, но с Александровска. А у Ивана была возможность первому пролететь 156 км до Охи, и он был рад такому повороту событий. Проблема была
в том, что взлетать нужно будет уже завтра с утра, что, конечно, было даже для молодого и здорового старшего лейтенанта ВВС СССР непросто. Но наши трудностей не боятся, и он распорядился готовить на утро самолет. Его решение всех собравшихся за столом не то чтобы обрадовало, но и не насторожило.
Утром были вчерашние пельмени, но, как-то по-особенному, они стали еще вкуснее. Был еще стакан сметаны и термосок чая с клюквой. Погода по-вчерашнему была ясная и морозная, но чуть ветреная, а значит – на порядок холоднее. Народу с утра было совсем мало, только те, кто был необходим. И они отлично справились. Из выхлопных труб валил дым вперемешку с каплями конденсата, двигатель сморкался ровно и уверенно. Надо сказать, что Иван достаточно хорошо выспался и был готов к часовому перелету по маршруту, еще не хоженому.
Самолет немного покачивало порывами ветра с пролива, но на высоте 500 метров все успокоилось. Иван с охоткой выпил кислого и ароматного чая из термоса, пельмени требовали. Пейзаж под крылом мало изменился по сравнению с подлетом к Николаевску, но вот уже и белая полоска Татарского пролива. А дальше опять – пересыпанный снегом хвойный нестройный лес, перемешанный с хвойными же кустарниками, имя которых – стланик. Полоска берега приближалась, и вот уже на ней обрисовалось пять рыжих, огромных баков-резервуаров. Это был главный ориентир на вход в залив Уркт, где и была посадочная площадка. Замелькали красные флажки, и самолет пошел на посадку в самом северном районе Сахалина.
Прием тут был очень будничный и совсем не похожий на предыдущий. Самолет затащили ближе к берегу двумя упряжками оленей. Таких животных Иван видел только в книжках с русскими сказками. Машина потихоньку двигалась к низкому берегу, где находилось еще человек пять, и стояло несколько саней с рогатыми тонконогими тягловыми животными. Метрах в двухстах стоял автомобиль, до которого пришлось идти пешком. Кто-то стоял у берега и что-то грузил в запряженные оленями сани. Вольно-невольно он увидел, что они делали. Там грузили какие-то вмерзшие в куски льда человеческие останки. Как ему потом объяснили какие-то местные ответственные работники, когда сегодня зачищали площадку под посадку, то обнаружили три человеческих тела. Те пропали еще в ноябре, когда на заливе стояла шуга, похоже, сети ставили и утонули.
Ответственный работник, видимо, был смущен, что в такой невеселой обстановке встречает самолет с материка, но что-то исправить уже было поздно. Самые близкие строения барачного типа звались пятым лагпунктом, и, похоже, они имели какое-то специальное назначение. Рядом с этой территорией расположилась вереница странных одноэтажных построек, круглых и с остроконечными крышами. Минут через 20 небыстрой езды его доставили в здание опять странной архитектурной принадлежности. Там он снял с себя все теплое, долго постоял под горячим душем и был приглашен на обед. Водки ему не предлагали, похоже, из какого-то социального страха, зато накормили отменным рыбным супом из больших голов неизвестной ему рыбы.
Он пока еще не знал, что изменятся прогнозы погоды, и ему завтра опять надо улетать. И, конечно, знать не мог, что ему еще раз придется вернуться на эту землю. Неведомо, что потеряешь, а что обрящешь.
* * *
Груз в тачке был почти невесомым. Сама тачка, вроде как была из чугуна, хотя на самом деле сколочена из дерева, того самого, что растет на северах и называется лиственницей. В тех краях из нее мастерят номерные столбики на могилы для спецконтингента. Они не гнили, но были очень занозливые. Но Василий ни разу не остановился передохнуть, чтобы не терять ту тягловую силу, что толкала его вперед и вперед. Черный сверток вместе с собакой он занес в квартиру на руках, тачка осталась во дворе. Он все это положил на пол, и тут случилось чудо. Куча тряпья зашевелилась, и из нее восстала девочка, как будто бы сотканная из солнечных лучей и золотых нитей. Образ ее был свят, чист и светел, с глазами неба синее. Наверное, так приходит искупление.
Девочка посмотрела на них секунду и рухнула на пол, снова став бесформенной кучей тряпья, из которой торчали детские ножки с почерневшими ступнями. А собачка умирала, она была вся в ранах и увечьях, но еще пыталась служить. Так, наверное, она служила за медный грошик. А глаза свои заплаканные, собачьи, не сводила с Василия. И там был только один вопрос:
– Ведь вы нас не прогоните? Мы ведь не игрушки, мы – живые.
Но прошла минута, собачка глубоко выдохнула и вроде как околела. Василий отнес ее и уложил на тряпочку под кушетку. А та самая тачка как будто бы прижилась во дворе дома, похоже, навсегда.

