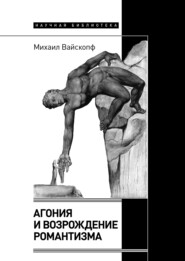скачать книгу бесплатно
Анастасия вся, и телом, и душою, была какая-то дивная. С малолетства ее Провидение наложило на нее печать чудесного. Когда она родилась, упала звезда над домом; на груди у нее было родимое пятнышко, похожее на крест в сердце. Десятилетней снились палаты и сады, видом не виданные на земле, и лица красоты неописанной, и голоса, которые пели, и гусли-самогуды, которые играли, будто над ее сердцем, так хорошо, так умильно, что и рассказать не можно. А когда она, во время этих сновидений, просыпалась, то чувствовала у ног своих легкое бремя, и казалось, что кто-то лежит у них, свернув белые крылья. И было ей сладко и страшно, и вмиг все исчезало. Часто задумывалась она, часто грустила, сама не зная о чем. Нередко, простершись перед иконою Божией Матери, плакала, но эти слезы старалась утаить от людей, как святыню, которую невидимо посылали ей свыше.
Благовещенская символика характерно осложняется тем, что обладатель белых крыльев близок к отождествлению с самим Иисусом: упоминание про «легкое бремя» – отчетливая реминисценция евангельского стиха «Бремя Мое легко» (Мф. 11: 30).
Беда набожной девушки в том, что юноша, которого она полюбила – врач Антон Эренштейн – немец, а значит «нехристь», «басурман». Поселили его у отца героини, на нижнем этаже, под самой ее светелкой. Вскоре потрясенная Анастасия узнает в нем крылатого райского гостя из своих отроческих видений:
Нередко прибегает она к Божией Матери, молит ее спасти от сетей лукавого. Минуты две-три спокойно, и опять образ пригожего иноземца, словно живой, перед нею, сидит с нею рядом, держит ее руку в своей. Сомкнула ли глаза? то же самое неземное существо, которое видела в сонных грезах детства, то самое, только с очами, с улыбкою немчина, лежит у ног ее, сложив белые крылья.
В эти девичьи страхи – наподобие тех, что традиция предписывала Марии, – вплетается уже знакомый нам образ лиры, тема творческого призвания, только перенесенного здесь с героини на ее возлюбленного:
Часто слышит она очаровательные звуки (Антон играл на лютне). Это самые те небесные голоса, те гусли-самогуды, которые в сладких видениях ее детства так сладко пели над сердцем ее.
Однако Антон и сам влюбляется в соседку, причем тоже по мистическому наитию – еще не видя ее в лицо. Посредническая миссия возлагается на «малютку», обрусевшего итальянского мальчика Андрюшу, крестника Анастасии, которого она любит и ласкает, как родная мать; но так же нежно опекает его Антон. В итоге между всеми героями складывается «магический тройственный союз» (поддержанный, добавим, и аллитерационной магией имен). Андрюша словно предстает общим сыном Анастасии и Антона. Разделенные обстоятельствами влюбленные до поры не встречаются, но узнают друг о друге из восторженных рассказов «малютки», который, в свою очередь, обожает обоих. Каждый из них транслирует через него свое чувство, осыпая «малютку» лобзаниями, адресованными, по сути, соседу (педофильский аспект этих нежностей остается вне нашей темы): «Анастасия дарит на прощание своего крестника сладким поцелуем и невольно атласною ручкою осеняет его крестом. Не хотела ли передать то и другое иноземцу?» В другой раз герой сетует, «почему нет с ним Андрюши, чтобы поговорить с ним о прекрасной Анастасии, перенять от него поцелуи ее, благословения и вновь скрепить этот тройственный союз».
И он действительно тут же скрепляется, а «крест» Анастасии действительно будет передан иноземцу. «Магический тройственный союз» станет романтической версией Троицы:
Андрюша на помине легок. Нынче его предупреждает разнородное щебетание и чирикание птиц <…> В руках держит он торжественный трофей нынешнего дня – огромную клетку со множеством пернатых <…>
– Окно, отвори окно! – кричит в восхищении малютка. – Разве не знаешь? ныне Благовещение. <…> Слышишь, как они празднуют свободу свою, как они благовестят?.. Нынче выпускают на волю крылатых узников, ныне выпускают из тюрьмы и людей, которые содержатся там за долги. <…> Ступайте и вы благовестить, – промолвил он. <…> Только на дне клетки, за особенною перегородкою, осталась одна птичка. <…>
Антон… посмотрел ему в глаза, как бы упрашивая за бедного пленника. Малютка, с быстротою молнии, понял его.
– Правда, – промолвил он, – певец веселил меня так долго, тем скорее и выпустить его надо. Но этому пускай даст свободу моя крестная мать: он так пригож. <…>
Через несколько минут Антон услышал, что вверху, в светлице над ним, отворяют окно. <…> Сперва мелькнула белая ручка, из которой выпорхнула пташка, а потом обрисовалось лицо женщины (он в жизнь свою ничего прекраснее не видывал), и потом пал на все его существо тяжкий, волшебный взор карих очей. И мигом исчезло прекрасное видение.
Облик героини совершенно открыто стилизован под Мадонну как архетип женского романтического образа:
Что видел он? Земное ли существо или жителя неба? <…> В нем соединена и красота земная, и красота небесная, доброта, ум, чистота, сила души. Им славословит он природу, человечество, Бога; оно союз его с Русью, ковчег жизни его и его смерти.
Подобно Мадонне, это и новая Ева, которая возвращает Адаму его невинность, предшествовавшую грехопадению. Понятно, почему нижеследующие строки возмутили цензора, препятствовавшего их публикации:
Любовь его чиста, как первый день первого человека. <…> Ничего не желает он, кроме того чтобы видеть Анастасию, только смотреть на нее, как ангелы смотрят целые веки, погруженные в море блаженства.
Итак, спиритуально-орнитологическая символика Благовещения распределена тут между всеми членами «тройственного союза». «Малютка» в функции Святого Духа и вестника знаменательно соотнесен с «пташкой», которую по его почину выпускает на волю Анастасия. В другом эпизоде из этого странного варианта filioque Анастасия вместо голубя посылает прекрасному иноземцу перо попугая – дар более экзотический и тоже иноземный (вероятно, кому-то из наших читателей припомнится «Простая душа» Флобера), а лилию заменяет предпасхальной веткой:
Антон, возвращаясь к себе, находит на крыльце брошенную сверху ветку, перо попугая. <…> Он понимает, откуда дары, он понимает эту немую беседу и, счастливый, дорожит ею выше всех милостей Ивана Васильевича.
И наконец, мечтая утвердить его брачный «союз с Русью», то есть обратить героя в православие, Анастасия передает возлюбленному (опять-таки через Андрюшу) свой крест – главное свое достояние:
Что дороже тельника (креста, носимого на теле, на груди) могло быть для нее? <…> Этот святой талисман, залог чистоты ее мыслей и ее чувств, обручал ее с распятым Господом[175 - Лажечников И. И. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1963. С. 381–382, 458, 460–462, 501.].
Так свершается иное – духовное и телесное – обручение, в котором Антон напрямую замещает жениха-Иисуса.
Однако, сообразно и внешним обстоятельствам мрачного Средневековья, и внутренней предрасположенности русского романтизма к уныло эскапистским финалам, до свадьбы дело так и не доходит: Антон погибает, а его Анастасия кончает с собой, уповая на загробный брак с милым.
Зато героиня дебютной повести Елены Ган «Идеал» (1837), трагически разочаровавшись в земной любви к поэту, напротив, заменила его небесным женихом – Иисусом. В нем, наконец, «она нашла цель жизни», «разгадала тайну жизни» – но цель эта вынесена за ее пределы, а вся «тайна жизни» состоит в ее бездушной пустоте.
Метафизической ностальгией такого рода пропитано вообще все творчество Ган. В ее предсмертной, незаконченной и бесконечно печальной повести «Напрасный дар» (1842) выведена юная мечтательница Анюта, затерянная в степной глуши, изнывающая от нищеты, непосильного труда и затравленная косной, нелепой средой. По счастью, у нее появляется пожилой наставник и преданный друг – ученый немец с символическим именем Гейльфрейнд. Он обучает Анюту всем премудростям естествознания, но, оберегая ее душевный покой, всячески скрывает от нее мир искусства. Анюта не имеет никакого представления о поэзии, ибо книги поэтов хранятся в тех шкафах, которые Гейльфрейнд запретил ей открывать. Однако шестнадцатилетняя девушка, пресытившись мертвой рассудочностью науки, ищет пищи для души. Ее охватывает странное томление, непонятное ей самой, но внятное для романтического читателя:
То были не призраки, не идеи, не звуки, – легче веяния весеннего, прозрачнее эфира <…> Однако ж они виделись, слышались, чувствовались ей, были с нею, в ней, вокруг нее…
Тотчас преподносится обычный для благовещенской гаммы триединый набор образов, сочетающих в себе небесного жениха с сыном, а того – с ангелом (который, однако, по-отцовски опекает самое героиню уже как «младенца»):
но виделись, как видится страстно любящей душе приближение любимого <…> слышались, как слышится порой тоскующей матери последний вздох сына (мотив Mater Dolorosa. – М. В.) <…> чувствовались, как чувствуется младенцу присутствие его ангела-хранителя.
И все же этот комплексный призрак ни в одной из своих частей не получает у Ган персонификации, а возлюбленного ее героине заменит поэзия, хотя и заряженная эротическими импульсами. Последующая сцена ориентирована не на само Благовещение, а, как легко заметить, на его негативный прообраз – драму грехопадения из Быт. 3, только переосмысленную в благовещенском – или, скорее, псевдохристианском – ключе. Соответственно, воплощением эстетического эроса, измаявшего девушку, предстает не «ангел», а искуситель – коварный антипод и предшественник Гавриила, принесший смерть человечеству. Ночью в библиотеке Анюта предается тревожным и тоскливым раздумьям:
Кто скажет мне хоть название змия, который, впившись в грудь, сосет кровь, сосет мои жизненные соки, и вместо их вливает в жилы яд непонятных стремлений, желаний, порывов?
Запретный плод в книгохранилище окружают демоноподобные заместители ветхозаветного змия – лепные изображения фавнов; как и тождественные им сатиры, в ренессансной и барочной аллегорике они обозначали именно вожделение (кстати, змея была одним из атрибутов сатира). Героиня не в силах побороть соблазна, манящего ее за порог земной жизни:
– Нет, видно не на земле найти мне спокойствие, – говорит она в унынии. – <…> Сатиры, скалясь по-прежнему, с отвратительною улыбкою смотрят на нее, а черные шкафы, неподвижные и таинственные, стоят рядами вокруг… Анюта невольно останавливает на них свое внимание. «Что-то скрывается в них?» – шепнула ей искусительная мысль. Какой пагубой грозил ей Гейльфрейнд, если она откроет хоть одну книгу, погребенную на этих полках? <…> И ключ повернулся в замке одного из запрещенных шкафов; заржавленные петли скрипнули, Анюта, встрепенувшись, отступила назад… Но ее взоры уже с жадностью прильнули к заглавиям книг.
Вместе с тем эти серпентические символы явственно отдают здесь учением офитов, ибо причащают ее надмирному гнозису. Прочитанные впервые стихи ошеломляют девушку, преображая всю ее личность; она познает тайну иного, духовного бытия: «Где ж она была? Что видела? Кто говорил с нею? <…> Так вот оно, вот небо, о котором грезила, тоскуя, душа ее». И постигая в поэзии это царство небесное, героиня в упоении возглашает:
Жизнь, я не боюсь твоей пустоты! Судьба, мне не страшны твои гонения, – у меня есть приют, есть рай, есть еще и для меня счастье на земле…
Это, конечно, парафраз ап. Павла:
Смерть, где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Кор. 15:55), —
но кардинальное различие заключается в том, что героиня торжествует победу не над смертью, а над жизнью. Торжество, впрочем, окажется преждевременным.
Поэзия духовно оплодотворяет Анюту, «пробуждая зародыш песнопения в собственной душе ее», – зародыш, которому скоро предстоит вырасти в «дитя» творческих порывов. Гейльфрейнд, восхищенный ее «чудесным даром», усердно пытается помочь начинающей поэтессе, переслав ее стихи в Петербург. Кое-какие столичные знатоки и впрямь готовы признать ее «гением», «второю Елизаветою Кульман». Однако все усилия тщетны, издать книгу не на что, признание не приходит. С горя и отчаяния старик умирает – а перед кончиной убеждает Анюту благоразумно «побороть эту силу мечтательную», отвергая тем самым ее веру в то, будто в поэзии она сможет найти приют на земле: «Небесного не осуществить на земле, – говорит он, – ни истинному счастью, ни истинно прекрасному нет на ней приюта!.. Не зови же, не жди неземного совершенства. Ты найдешь его – там!..»
«Туда» и устремлены отныне все взоры измученной и уже смертельно больной героини. Однажды, в весенний «большой праздник», на всенощной в храме она возносит Творцу жаркую мольбу: «Призови к себе… скорее… Пора, пора» – «и в эту самую минуту, как бы оканчивая ее молитву, в церкви раздалось пение: „изведи из темницы душу мою“». Вскоре Анюте суждено будет умереть, а о том, что ее стихи наконец напечатаны и вызвали в столице восторженный отклик, она узнает лишь на смертном одре.
Ее «чудесный дар» и впрямь оказался «даром напрасным», как и гласило название повести. Но это заглавие – еще и прямая цитата из пушкинского «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?».
Ветхозаветная Ева была «матерью всех живущих» и олицетворением самой жизни. Новая – романтическая – Ева мечтает лишь о ее прекращении. Благой вестью для нее стала весть о смерти.
* * *
Через несколько лет у последней повести Ган нашлись примечательные, в том числе полемические, отголоски. Уже в 1846 году ее офитский мотив Аполлон Григорьев переосмыслил в радикально негативном ключе. В стихотворении «Всеведенье поэта» ветхозаветному Змею-Искусителю он приписал и злосчастную волю к бытию, и сексуальное пробуждение девочки, увлажняющее ее взор. Поэт видит,
<…> как глядится в влаге той
Творящий душу дух иной…
И как он взглядом будит в ней
И призывает к бытию
На дне сокрытую змею,
Змею страданий и страстей —
Змею страдания и зла…[176 - См.: Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 75–76.]
С другой стороны, Тургенев в рассказе 1856 года «Фауст» как раз подхватил основную коллизию «Напрасного дара»: запрет на чтение поэтических сочинений и трагические последствия нарушения этого запрета для героини.
История Анюты вобрала в себя, как известно, и многое из безрадостной судьбы самой Елены Ган – ее лучшие годы тоже прошли в провинциальной глуши, а первые литературные опыты встречали презрение и насмешку (да и умерла она всего в 29 лет). Но помимо индивидуально-биографических схождений, имелись и другие – более широкого, социального свойства. Бедствия героини, ненужность ее дара в значительной мере предопределялись общей невостребованностью женского творчества в тогдашней России, о чем с горечью говорит Анюте ее учитель. По словам Гейльфрейнда, одаренная женщина здесь обречена
прозябать в пустыне, в неизвестности, далеко от света, от всех великих образцов, от всех средств к учению, которого так жаждет душа ее, оттого только, что она женщина!.. И напрасен дар ее, напрасны все порывы… заброшенная судьбою в глушь, она, как преступник, отверженный обществом, не вырвется более ни к свету, ни к жизни; без общества, без впечатлений, без сочувствия, не видя и не слыша ничего достойного себя, она истлеет в мраке, истомится сердцем, притупится умом, увянет, заглохнет, зачерствеет <…> в особенности здесь, в стороне почти дикой и непросвещенной, где женщина-поэт, женщина-писатель покажется всем чудным и даже страшным зверем.
Именно эта скорбная участь и постигла Анюту:
Да, ее прекрасные грезы, ее блаженные сны… все рассеялось <…> Как рано блекло это нежное создание, не знавшее расцвета на негостеприимной земле[177 - Ган Е. А. Полное собрание сочинений Е. А. Ган (Зенеиды Р-вой). СПб.: Н. Ф. Мертц, 1905. С. 738–753, 775–776. (Перепечатка в одном томе издания 1848 г.)].
В конце 1840-х годов Тютчев написал стихотворение «Русской женщине» (опубликованное сперва под осторожным названием «Моей землячке»), где повторил эти безнадежные сетования:
Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы.
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои…
И жизнь твоя пройдет незримо.
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней, беспредельной мгле…
Резюмирующие три строки навеяны, помимо самой повести Ган (рассеявшиеся грезы, жизнь, «истлевающая в мраке»), диалогом Платона «Федон» (70а) – а именно отвергаемым там опасением, будто душа человека после его смерти рассеивается, «как дым». В целом же тютчевское стихотворение можно считать своего рода эпитафией героине «Напрасного дара» – как и всем ее бесчисленным прототипам, затерянным во тьме.
2005, 2013
Часть 2. Голубая тюрьма: Очерки о Фете
Борьба за Афанасия Фета
В 2007–2008 годах в журнале «Наше наследие» С. В. Шумихин напечатал, со своими ценными комментариями, корпус писем Г. П. Блока Б. А. Садовскому, датированных 1921–1922 годами. Значительная часть материала посвящена Фету, которого оба они боготворили. Инициатором переписки был Георгий Блок[178 - Фет, Блок и Садовской. Письма Г. П. Блока к Б. А. Садовскому. 1921–1922 / Вступ. статья, публ. и примеч. С. В. Шумихина // Наше наследие. 2007. № 83–84; 2008. № 85.] (двоюродный брат А. А. Блока). Углубившись в изучение Фета, он надумал заручиться помощью признанного знатока темы, к тому же человека, идеологически ему близкого. Письма Садовского пока не найдены.
Обоих корреспондентов, как и прочих поклонников Фета, прежде всего интриговала тайна его национального происхождения. Во вступительной статье Шумихин заметил по этому поводу:
До последних лет национальность одного из крупнейших русских поэтов оставалась предметом споров не чисто теоретических. Перед этим вопросом неизбежно останавливались все исследователи; и тогда, и позже он вызывал горячие прения.
Подразумевается гипотетическое еврейство Фета, которое на протяжении целого столетия чрезвычайно тревожило почитателей его дара. Важную роль здесь, без всякого сомнения, сыграло знаменитое стихотворение молодого еще поэта:
Когда мои мечты за гранью прошлых дней,
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как древний иудей
На рубеже земли обетованной.
Почти наверняка эта проблема занимала и Шумихина. Предваряя публикацию, он туманно заметил, что «национальная или расовая принадлежность автора далеко не всегда прямолинейно определяет его творчество (достаточно вспомнить о предках Пушкина)», – и с несколько наигранным недоумением прибавил, что «по отношению к Фету этот аспект почему-то приобрел неправомерно большое значение». Публикуемый им материал служит наилучшей тому иллюстрацией, о чем пишет и сам исследователь: «Очень подробно обсуждается Блоком и Садовским, говоря современным слогом, „пятый пункт“ анкеты Фета. Увы, антисемитская жилка в те годы активно пульсировала у обоих, и умолчать об этом было бы неверно. Получив первое письмо от Блока, Садовской прежде всего счел необходимым справиться у Б. Л. Модзалевского, ариец ли написавший ему. Невесту себе он просил найти непременно также арийского происхождения», – а вдобавок наделенную изяществом и прочими мыслимыми и немыслимыми достоинствами. Некоторую пикантность, добавим от себя, этим матримониальным изыскам придает то обстоятельство, что Садовской давно уже болел сифилисом, причем в крайне тяжелой форме, а потому сомнительно, чтобы подобный брак осчастливил его расово чистую супругу, если бы и нашлась таковая.
Как бы то ни было, начинающий фетовед вполне одобряет расовую бдительность старшего коллеги: «Думаю, что на Вашем месте я тоже стал бы наводить подобные справки», – и приводит свою краткую родословную, якобы доказывающую, что и он, Блок, – ариец. Только тогда успокоенный адресат стал отвечать на его вопросы. Уже первый из них, естественно, включал в себя и такой пункт: «Откуда (у Фета. – М. В.) еврейская кровь?» – и эта волнующая тема отныне проходит сквозь всю переписку.
Для Садовского все усугублялось тем, что Фета он считал величайшим русским поэтом, едва ли не равным Пушкину, а в зачине одной из своих статей 1910 года даже возгласил: «Сам по себе тот факт, что Россия целиком прозевала Фета, – страшен: он заставляет усумниться в праве нашем на национальное бытие»[179 - Садовской Б. А. А. Фет // Садовской Б. Лебединые клики: [Сб.]. М.: Сов. писатель, 1990. С. 379.]. При такой экстатической оценке понятна и его обостренная чуткость к чистоте крови – велась борьба за расовые приоритеты[180 - Не лишено интереса, что уже Аполлон Григорьев, всюду отыскивавший национальную доминанту в творчестве того или иного художника, в обзоре «Русская литература в 1852 году» приписывал Фету «причуды больного эгоизма» и ту же самую субъективную «капризность», которую он находит потом у «поэтов фаланги Гейне» (Григорьев А. Литературная критика. М.: Худож. лит., 1967. С. 100; Григорьев А. Соч.: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. С. 262. См. там же комментарии Б. Егорова, С. 463, 486).]. Но проблема чрезвычайно интриговала и людей, далеких от протонацистских воззрений. Напомню в самых общих чертах о главных этапах ее развития.
Уже вскоре после смерти Фета в печать проникает сообщение о том, что его мать была еврейкой. Так, в 1898 году фраза «покойная его мать была немкой еврейского происхождения» появилась в воспоминаниях Я. П. Полонского[181 - Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания // Полонский Я. П. Проза. М.: Сов. Россия, 1988. С. 412.]. Весомость его словам придавал тот факт, что мемуарист прекрасно знал Фета, который, в свою очередь, однажды напомнил ему об их «постоянных дружеских, или лучше сказать, братских отношениях в течение сорока лет; ты один из четырех человек, которым я в жизни говорю ты»[182 - Письмо Полонскому от 26 декабря 1887 г. // А. А. Фет и его литературное окружение: В 2 кн. / Отв. ред. Т. Г. Динесман. М.: ИМЛИ РАН, 2008. (Литературное наследство / Российская акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Т. 103). Кн. 1. С. 615. Далее в тексте ссылки на т. 103: Кн. 1, 2008 – ЛН 1; Кн. 2, 2011 – ЛН 2). См. также в письме Фета к К. Р. от 16 января 1888 года: «Мы с Полонским по-прежнему братья по душе» (Там же. Кн. 2. М., 2011. С. 666).]. Через год известный тургеневед Н. Гутьяр вслед за Полонским тоже назвал ее «немкой еврейского происхождения»[183 - Гутьяр Н. М. И. С. Тургенев и А. А. Фет // Вестник Европы. Т. 6. 1899. С. 316.] (в 1907 году он повторит это определение в книге о Тургеневе). Позднее, в декабре 1920 года, отвечая на запрос Г. Блока, сестра Софьи Андреевны Толстой Т. А. Кузминская заявила: «Он всю жизнь страдал, что он не Шеншин, как его братья, которые признавали его за брата, а незаконный сын еврейки Фет»[184 - Кузминская Т. А. Об А. А. Фете. Письмо с ответами на вопросы Г. П. Блока, датированное 9 декабря 1920 г. / Публ. Н. П. Пузина // Русская литература. 1968. № 2. С. 171.]. Так считал и сам Лев Николаевич. Седьмого апреля 1921 года Г. Блок делится своей тревогой с Садовским:
И недаром же все, кто знал Фета, утверждают, что у него была еврейка-мать. То же повторяет и Толстой, знавший его еще очень молодым и экспансивным и имевший, может быть, случай слышать что-нибудь по этому поводу от самого Фета.
Среди ранних произведений Фета имеется стихотворение «Блудница» – одно из нечастых у него обращений к Евангелию. Созданное не позднее марта 1843 года, оно сохранилось лишь в письме В. П. Боткина А. А. Краевскому, редактору «Отечественных записок». Это вариация на тему Ин. 8: 3–11, где повествуется, как Иисус спас от казни женщину, уличенную в прелюбодеянии:
Но Он на крик не отвечал,
Вопрос лукавый проникая,
И на песке, главу склоняя,
Перстом задумчиво писал.
Во прахе, тяжело дыша,
Она, жена-прелюбодейка,
Золотовласая еврейка
Пред ним, грешна и хороша.
Ее плеча обнажены,
Глаза прекрасные закрыты,
Персты прозрачные омыты
Слезами горькими жены.
И понял Он, как ей сродно,
Как увлекательно паденье:
Так юной пальме наслажденье
И смерть – дыхание одно.
Комментируя стихотворение, В. А. Лукина отмечает, что оно «было написано под впечатлением от картины, которую Краевский переслал Боткину в конце 1842 года» и которая привела в восхищение адресата[185 - Фет А. А. Материалы и исследования. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2010. С. 463.]. Бог весть, о какой картине шла речь – таких было несметное множество. Вся эта история нанизана, однако, на ось другого – лишь молчаливо подразумеваемого здесь – сюжета. Ведь Краевский, подаривший картину Боткину, был и сам сыном «блудницы» – так что эта живописная иллюстрация к Евангелию служила как бы завуалированной апологией его собственной матери. Но и в глазах Фета картина стала импульсом для той же болезненной темы, развернутой в его стихотворении, которое он через Боткина передал Краевскому. Последний, однако, его не напечатал – как никогда больше не пытался напечатать его и сам Фет (оно вышло лишь после его смерти). Как видим, еврейскую «жену-прелюбодейку» он оправдывал здесь ее неодолимой тягой к «наслажденью» – что, очевидно, слишком отчетливо наводило на мысль о его собственной матери, некогда сбежавшей от мужа с возлюбленным. Да и строки о смерти, сопряженной с наслаждением, были уже тогда чудовищно неуместны – несчастная Шарлотта-Елизавета умирала от рака[186 - «Когда в 1842 г., кончивши курс, я приехал в Новоселки, – говорит Фет в своих мемуарах, – то застал мать в предсмертных томлениях восемь лет промучившего ее рака» (см.: Фет А. А. Мои воспоминания. 1848–1889 / [Соч.] А. Фета. Ч. 1–2. М.: тип. А. И. Мамонтова и К°, 1890. С. 272–273. Далее – МВ).]. Позднее в письме к И. Борисову он назвал ее «неслыханной страдалицей» и помянул «те пути тернистые, которыми шла мать до холодной утробы земли» (ЛН 1: 102).
Так или иначе, у поклонников Фета сложилась своеобразная дихотомия – теория двух национальных полюсов в личности Афанасия Афанасьевича. Трактовались они довольно прихотливо, в зависимости от предпочтений того или иного автора. В ценной и во многом новаторской книге 1916 года о Фете «Радость земли» Д. Дарский, веривший в отцовство А. Н. Шеншина, пишет:
«Страдалица-мать», дочь «туманной» Германии, полуеврейка по крови, привила своему сыну идеалистическое тяготение к запредельному, к сверхземному и ту пустынную меланхолию, которая так впиталась в исконно гонимую, скорбную расу. Но сверх того Фет был и Шеншин, наследственный потомок необозримого ряда кровных землевладельцев, пахарей и усадебных владык[187 - См. Дарский Д. С. «Радость земли»: Исследование лирики Фета. М.: Ф. К. Некрасов, 1916. С. 33. Любопытно, что эту дихотомию поддержал и не слишком расположенный к евреям В. Розанов в рецензии на статью Дарского, предшествовавшей выходу его книги: «У Фета мать была еврейка и отец русский, – одна измученная и несчастная, другой – сильный и властный человек» (Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995. С. 616).].
Совершенно другое впечатление поэт произвел на Г. А. Рачинского, в 1929 году поведавшего Садовскому: «Мне казалось, что я вижу мудрого, спокойного талмудиста. И в то же время чувствовался старый барин»[188 - Цит. по: Письма Г. П. Блока к Б. А. Садовскому. О Г. Блоке в контексте фетоведения см.: Аксеенко Е. М. Материалы А. А. Фета в Пушкинском доме // А. А. Фет. Материалы и исследования. Вып. I. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2010. С. 474–493.]. В кругу Толстого еврейская компонента, напротив, вызывала отчетливое неприятие, о котором я расскажу позже; но сыном помещика Шеншина его здесь, конечно, не считали.
Скорее всего, однако, Шарлотта-Елизавета Беккер, мать поэта, не была еврейкой. Известно зато мнение, что евреем был подлинный отец поэта. Как предполагает А. Я. Сыркин, она, будучи замужем, забеременела от какого-то заезжего еврея, а влюбившийся в нее Шеншин с согласия разъяренного супруга и за денежный выкуп взял ее к себе, прикрыв грех женитьбой.
В воспоминаниях, изданных в 1937 году, И. Грабарь, называя ее «красавицей-еврейкой», а отца – «кенигсбергским корчмарем», ссылается затем на рассказ своего приятеля, известного коллекционера, прекрасного знатока жизни и творчества Фета Н. Н. Черногубова. Твердо решив выведать происхождение любимого автора, тот «поехал к нелюдимому Фету в его имение, сумел завоевать его полное расположение и пробыл там целое лето <…>». Он бывал у Фета после этого еще не раз, был даже в день его смерти и присутствовал на похоронах. Черногубов знал, что у Афанасия Афанасьевича давно уже был таинственный конверт, лежавший всегда под его подушкой, с надписью: «Вскрыть после моей смерти». В нем, по догадкам Черногубова, должна была находиться окончательная разгадка происхождения поэта. Конверт после смерти действительно был вскрыт родными, после чего его вложили в гроб, тоже под подушку, но Черногубов не знал его содержания. У него хватило решимости достать конверт и ознакомиться с его содержанием. То было письмо матери поэта, на конверте которого стояли те же слова: «Вскрыть после моей смерти»[189 - См. Грабарь И. Э. Моя жизнь: Автомонография. М.; Л.: Искусство, 1937. С. 252–255. Благодарю Марка Кипниса за это и ряд других ценных указаний.].
Несколько иную историю насчет рокового письма, вложенного в гроб, приводит Илья Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь»:
Поэт Фет, Афанасий Афанасьевич Шеншин, кроме хороших стихов, писал еще нехорошие статьи в журнале Каткова. Он обличал нигилистов и евреев, в которых видел первопричину зла. Племянник Фета, Н. П. Пузин, рассказывал мне, что поэт из письма-завещания своей покойной матери узнал, что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, что Фет завещал похоронить письмо вместе с ним <…> После революции кто-то вскрыл гроб и нашел письмо[190 - Эренбург И. И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. М.: Сов. писатель, 1990. Т. 1. С. 52–53.].
В этом апокрифе настораживает его неверный зачин: на деле Фет вовсе не видел в евреях «первопричины зла» и не участвовал ни в каких антисемитских кампаниях; да и М. Н. Катков, при всем своем консерватизме, был противником юдофобии. К тому же катковский «Русский вестник» печатал Фета неохотно, и отношения были крайне далеки от идиллии.
Всегдашнее расположение Фета к частной инициативе, колоритно сочетавшееся с заемными дворянскими амбициями (см. ниже), даже заставило его укоризненно противопоставить еврейскую торговую сметку плачевной бездарности, лени и легкомыслию «нашего дворянства»[191 - Письмо к С. А. Толстой от 23 января 1888 г. // ЛН 2. С. 159.]. Вообще по российским меркам его отношение к евреям носит, так сказать, среднестатистический характер. По большей части он отзывается о них вполне нейтрально либо слегка неприязненно, с нормативной иронией[192 - См. например: Фет А. А. Ранние годы моей жизни. М.: т-во тип. А. И. Мамонтова, 1893. С. 318, 470 (далее – РГ); а также упоминание о «жиде-ростовщике», которому Полонский заложил когда-то свой фланелевый халат (ЛН 1. С. 669).]; а кое-где не без симпатии – например, повествуя об умной еврейке, содержавшей хорошую гостиницу, где столовались офицеры (РГ: 369 и др.).
Как очень многие русские поэты, он обожал Гейне, ненавистного для немецких антисемитов, а Льву Толстому с умилением писал о композиторе-еврее: «Жена набренькивает чудные мелодии Мендельсона, а мне хочется плакать»[193 - Письмо от 19 октября 1862 г. // Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М.: Худож. лит., 1978. Т. 1. С. 357. (Далее: Пер. 1/2.)]. Вспоминая о своих ранних годах, Фет рассказывает, как в Москве «отец» завез его в гости к своему дальнему родственнику С. Н. Шеншину, чьим «постоянным чтением» был Капфиг (Capefigue): имеется в виду его весьма юдофильская «Философическая история иудеев от упадка племени Маккавеев до нашего времени»[194 - Капфиг Ж. Б. Философическая история иудеев со времени упадка племени Маккавеев до наших времен / Соч. Капефига; пер. с фр. Константин Пуговин. Ч. 1–2. СПб.: тип. Деп. внеш. торговли, 1837; 2-е изд. – 1846. Подробнее о рецепции этого труда в России см. по указателю в моей книге «Покрывало Моисея: Еврейская тема в эпоху романтизма» (М.; Иерусалим, 2008).]. При этом С. Шеншин покровительствовал малолетним братьям Рубинштейнам, которые у него дома «блистательно играли» на рояле и «с которыми позднее мне случалось встречаться не раз в период их славы» (РГ: 173–174). В письме к С. А. Толстой от 14 апреля 1890 г. Фет доходит до пафоса: «Нельзя человека, не целующего рук у Рубинштейна, убедить в гениальности последнего» (ЛН 2: 197).
Культурологический антисемитизм вагнеровского типа в его переписке проявляется значительно реже, чем, допустим, в продукции Я. Полонского либо И. Гончарова, и явно ориентирован на вкусы корреспондента. Ср. в курьезно льстивом послании Фета к его сиятельному эпигону и покровителю К. Р. (как все Романовы, тот не выносил евреев): читая стихи великого князя, «дышишь живительною свежестью и забываешь искусственные микстуры современной жидовской поэзии» (подразумевались Надсон и Фруг, к которым Фет оптом прибавит затем Фофанова и Мережковского), – ибо «Ваше Высочество полною чашею черпаете прямо из Ипокрены» (ЛН 2: 670)[195 - Ср., с другой стороны, его переписку с юдофобом-Страховым, который был в восторге от скульптора Антокольского, «несмотря на его полнейшее жидовство» – и такой же восторг сулил самому Фету (ЛН 2. С. 309).]. В те же годы на антисемитский лад попытался настроить его сенатор Н. П. Семенов, расхвалив нашумевшую La France Juive Э. Дрюмона – «историю того, как евреи завладели Францией», помогающую раскрыть «глаза на жидовскую язву и обратить на нее внимание правительств, пока не поздно»[196 - А. А. Фет. Материалы и исследования. Вып. 2 / ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН; отв. ред. Н. П. Генералова, В. А. Лукина. СПб.: Контраст, 2013. С. 661.], но не встретил у Фета сочувствия.
Все это, конечно, никак не подтверждает, но и не отвергает свидетельства Пузина. Странным образом еврейская нота вообще изначально сопровождает поэта. Когда он собрался в армию, отчим отдал ему