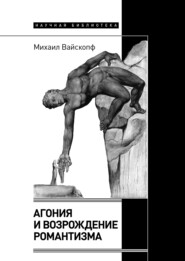скачать книгу бесплатно
Некоторую парадоксальность ситуации сообщает то обстоятельство, что и в благополучные годы ментальное, так сказать, существование самого Афанасия Ивановича тоже равнялось нулю. Тем сильней его неизбывное горе:
Боже! <…> старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное движение души <…> и такая долгая, такая жаркая печаль!
Единственной силой, ранее удерживавшей его в нашем мире, была «почти бесчувственная привычка» – она-то в конце концов и побеждает разлуку. Точнее будет сказать, что одно небытие сперва переходит в другое, бесчувственная привычка – в чувство отсутствия; а затем нераздельные узы переносятся в иной мир, где супруги счастливо воссоединятся.
Здесь ценна как раз полнейшая разнородность приведенных сюжетов, ибо сшивающий их принцип лучше помогает уяснить глубинную поэтику Гоголя, чем его переменчивые настроения или даже религиозная эволюция. Общим оператором для повествований об этом двойном – земном и подземном – бытии предстает все тот же примитивный и неодолимый психический импульс.
Совершенно безотносительно к идеологической составной гоголевских текстов высвечивается какая-то внутренняя связь между тем набором негативных формул, на которых, как продемонстрировал Андрей Белый в классической книге «Мастерство Гоголя», строятся, с одной стороны, показ колдуна в «Страшной мести» и «фигура фикции» в «Мертвых душах»[134 - Белый Андрей. Мастерство Гоголя. Исследование. М.; Л., ОГИЗ, 1934. С. 57–68, 80–87.], а с другой – венчающий поэму отрицательный ландшафт Руси, устремленной в бесконечность: «Ничто не обольстит и не очарует взгляда…»; «Не в немецких ботфортах мужик…», и т. п.[135 - Вайскопф М. Отрицательный ландшафт: имперская мифология в «Мертвых душах» // Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. Работы 1978–2003 гг.: М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 219–233.]
Есть, наконец, еще одна проблема, которая уже многократно обсуждалась противниками писателя, в том числе таким ярым его врагом, как Розанов. Зыбкость модального статуса, несомненно, сопряжена у Гоголя и с повсеместной у него текучестью соотношения «живое – неодушевленное», то есть с его знаменитой методой овеществления, «оскотинивания» людей – или же, напротив, встречного очеловечивания животных, предметов, всей природы. Поэтому подобие обособленного, автономного существования у него может получить что угодно – включая нос, покинувший своего обладателя. Для подтверждения этого «что угодно» приведу два примера из «Миргорода», казалось бы, совсем иного рода и вдобавок сильно разнящиеся между собой. В «Тарасе Бульбе» старый казак Касьян Бовдюг возвещает: «– А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь…» Получается, что «речь» как бы отделяется от оратора – и почти что персонифицируется на манер ковалевского носа. Но если тут означен высокий аспект приема, то в повести о двух Иванах автономизации сопутствует травестия. Судья убеждает Ивана Ивановича отозвать иск против его бывшего друга: «– Бога бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропадает! Сатана приснись ей!» Чем эта подразумеваемая одушевленность вздорной «просьбы» отличается от обособленной персонификации пафосной «речи»? Утверждать, что перед нами всего лишь троп, бессмысленно: вопреки школьным шаблонам, пустых тропов не бывает, они всегда говорят о чем-то большем.
Если увязать эту упорную склонность Гоголя к анимизации вещи с его пресловутым антипсихологизмом (который он, при всех своих стараниях, так и не сумел одолеть), общая метафизическая разгадка полярных сторон его творчества должна будет, вероятно, состоять в следующем. Мир со всеми его реалиями у него и впрямь наделен душой или, по крайней мере, несет в себе потенции одушевления, что в принципе уравнивает его предметную фактуру с людьми, – и наоборот. Оттого портной Петрович смотрит шинели «прямо в лицо», а Акакий Акакиевич видит в ней «приятную подругу жизни». Коль скоро сами вещи не лишены витального заряда, им не обделены и мертвецы, а сама граница между смертью и жизнью так легко стирается. Доминирующее психическое начало у героев может быть чисто физиологическим и убогим, реже – трогательным, как у Башмачкина, иногда страшным, как у панночки в «Вие», подчас даже «мертвым» или закрытым «толстою скорлупою», как у Собакевича. В любом случае это их душа в базово-архаичном значении слова, воспринятом ап. Павлом и гностиками, то есть сама жизненная субстанция, включающая в себя и элементарные страсти («задор» по Чижевскому, «идея» по Бицилли), которые прикрепляют ее к низшим формам бытия, к царству плоти, вещей и житейской тщеты. Ей противостоит дух, пневма как сакральная сущность индивида. Но у Гоголя она остается лишь достоянием самого художника[136 - В случае, например, Собакевича («Казалось, в этом теле совсем не было души…») под отсутствующей душой Гоголь, путавшийся в терминологии, подразумевал как раз дух. Любопытно, что отмеченную нами дихотомию имеющейся души и фатально отсутствующего духа уловил было славянофил Орест Миллер в своей статье о Гоголе: «Загляните только в душу Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и никакой уже тени какого-либо духовного задатка вы у них не найдете». (Но там же он возвращается к более привычной формуле: «Души в этом мире даже и не полагается».) – Миллер О. Ф. Славянство и Европа. М.: Ин-т русской цивилизации, 2012. С. 734, 742.], запечатленной им в сферах нуминозного и прекрасного.
Цитируя апостольское речение «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» применительно к его персонажам, допустимо будет сказать, что в них этот посев так и не взошел. Может быть, здесь лежит объяснение и гоголевской гениальности, и его горестного надлома.
2019
«Значительное лицо» в версии Льва Толстого,
или гоголевский след в «Войне и мире»
К числу наиболее прославленных литературных новшеств Л. Н. Толстого относится его способ объяснять и грандиозные исторические решения, и многие сюжетные коллизии не рациональными соображениями рефлектирующих героев, а их спонтанной, зачастую случайной и хаотической реакцией на явления, которые развертываются словно сами по себе, помимо их воли. Отсюда вовсе не вытекает, однако, будто этот фаталистический подход лишен логических предпосылок – но для действующих лиц они состоят обычно в том или ином неодолимом эмоциональном импульсе, лишь подыскивающем для себя рациональную мотивировку, – а последняя, в свою очередь, может стимулировать дальнейшее поведение персонажа или дать ему новое направление. Как давно уже показал Виктор Шкловский в новаторском исследовании «Материал и стиль в романе Толстого „Война и мир“», этот прием активно использовался автором в его неустанной полемике с бесчисленными оппонентами – например, с военными историками по поводу кампании 1812 года. Можно было бы дополнить эти наблюдения и демонстрацией той изощренной техники «полуправды», которую использует автор, живописуя Москву в начале сентября, накануне пожара, в те часы, когда ее покидают войска и начальство, а в городе, охваченном смятением, бесчинствуют мародеры. Писатель выказывает здесь настоящие чудеса стилистической эквилибристики, нащупывая собственную позицию в процессе маневрирования между официозной трактовкой событий и хорошо известными ему фактами.
Однако в данном сообщении нас занимает только одно историческое событие, выхваченное автором из картины московского хаоса и получившее у него глубокий религиозно-психологический смысл. Я подразумеваю те места книги, где описаны расправа московского главнокомандующего графа Ростопчина над молодым купцом Верещагиным, брошенным на растерзание толпе, и последующее раскаяние графа.
Напомню, что Верещагин был уличен в распространении пронаполеоновской декларации. С социально-исторической точки зрения в чрезвычайно сумбурном и противоречивом раскладе 1812 года преступный купец как бы представительствовал от грядущего, но так и не сложившегося в России либерального третьего сословия, на поддержку которого тщетно надеялись французы в своих административных реформах на занятых ими территориях. Автор «Войны и мира», тогда еще остававшийся убежденным консерватором, уходит, естественно, от этого неприятного ему политического аспекта темы и заменяет его христианско-моралистической проблематикой, сопряженной с гибелью Верещагина.
Соответственно дворянской историографии, народные волнения, охватившие город, стилизованы Толстым под пушкинский «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». В Наполеоне дворянское сословие, как известно, видело нового Пугачева и больше всего боялось, что он освободит крепостных, подстрекая их к всероссийскому мятежу, – чего, однако, французский император делать вовсе не собирался; более того, на занятых им территориях он подавлял крестьянские восстания против помещиков, защищая их от крепостных, грабивших имения. В московских сценах романа тем не менее народные волнения ограничены заведомой готовностью масс подчиниться всемогущему начальству: «Куда идет народ? – Известно куда, к начальству идет»; «Разве без начальства можно?»
Однако такая покорность налагает и особую нравственную ответственность на сами власти, неудачно воплощаемые графом Ростопчиным. Московское дворянство, вообще говоря, терпеть его не могло, поскольку не простило ему поджога города (руками выпущенных колодников), постоянной лжи и чудовищной бестолковщины во время бегства от Наполеона. Толстой от всей души разделял эту вражду. Он охотно подчеркивал нелепость его распоряжений: так, Ростопчин в панике оставил врагу запасы оружия, боеприпасов и хлеба. Зато другим, уже совершенно целенаправленным действиям графа – например, вывозу всех документов из присутственных мест, освобождению заключенных из тюрем, а сумасшедших из больниц – автор приписывает характер чисто окказиональных, импульсивных порывов. Какой-то уклончивой скороговоркой у Толстого подана и подготовка Ростопчина к уничтожению Москвы, включая сожжение им речных барок и вывоз пожарной команды (заодно, кстати, было вывезено или уничтожено все противопожарное оборудование); эти вполне продуманные шаги замаскированы под простую нервозность рассерженного человека: «Не французам оставлять» (6: 385)[137 - Здесь и далее все цитаты из романа приводятся с указанием тома и страницы в скобках по изданию: Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. М.: ГИХЛ, 1960–1965. Т. 6.], – бросает он в сердцах.
Психологический облик генерал-губернатора в целом выглядит образчиком раздраженного нарциссизма, а его поведение – хаотической мешаниной случайных порывов или капризов, лишенных человеколюбия и осмысленной заботы о будущем города. Разъяренной толпе он бросает на растерзание несчастного купчика – только для того, чтобы ей потрафить и выгородить самого себя. Вину за сдачу города и за собственный провал он возлагает на Верещагина: «Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва» (6: 388). Толпа, пока что непривычная к зверствам, поначалу колеблется, но Ростопчин отдает ей прямой приказ о расправе: «Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! <…> Руби! Я приказываю!» (6: 390). У Толстого получается, что жертву лишает жизни как бы сам голос начальника, магическому звучанию которого внимает завороженный народ. «Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Ростопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась», – и тогда Верещагин робко напоминает ему о справедливости и милосердии: «Граф, один Бог над нами…» – но тот снова кричит: «Руби его! Я приказываю!..» (6: 390) – и Верещагина наконец забивают насмерть.
Религиозная подоплека этого сюжета во многом предвещает дальнейшую моралистическую эволюцию писателя. Тем значимее, что в данном случае портрет жалкого мученика – хилого «молодого человека» с обритой головой – взывает одновременно и к религиозно-филантропической традиции «маленького человека», канонизированной Гоголем в повести «Шинель» (1842). На мой взгляд, Толстой здесь воспроизводит центральные символические мотивы повести, где смиренного чиновника убивает именно акустический эффект – генеральский рык «одного значительного лица», самодура, который, упиваясь собственной властью, «возвел голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно». Любопытно, кстати, что вельможное «распеканье» включало в себя и обвинение в «буйстве… против начальников и высших», отчасти актуализированное у Толстого.
Прямым итогом «распеканья» оказалась, как известно, кончина Акакия Акакиевича, а затем – его загробные блуждания и встреча со значительным лицом. Вместе с тем у Толстого в укоризненных словах Верещагина: «Граф, один Бог над нами…» – как бы отсвечивает и знаменитая реплика Башмачкина: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – в которой его гуманному молодому сослуживцу «долго потом» слышались «проникающие слова» бедного чиновника: «Я брат твой» (III: 144)[138 - Цитаты с указанием тома и страницы в скобках даны по изданию: Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. III.].
У Гоголя этим пассажем задан и мотив неглубокой, но все же обнадеживающей нравственной эволюции, которую претерпевает значительное лицо. Напомним, что после ухода ошеломленного посетителя генерал «почувствовал что-то вроде сожаления <…> И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья». Узнав о его смерти, значительное лицо «остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе» (III: 171). Чтобы развеяться, он отправляется на санях в гости, а потом, уже вполне успокоившись, – к любовнице. Безотчетно приятному его настроению мешает только резкий порывистый ветер, который швыряет в лицо снегом. Тогда-то, «пахнувши… страшно могилою», и появляется мстительный мертвец, который наводит на генерала смертельный ужас: «Бедное значительное лицо чуть не умер» (III: 172). Нравственным итогом повести становится минималистский вариант этического катарсиса: «Это происшествие сделало на него сильное впечатление», – и с тех пор генерал стал вести себя более человечно и «даже гораздо реже» стал распекать подчиненных (III: 173).
У Толстого динамика раскаяния и моральной кары развертывается по сходной модели (хотя психологическая гамма у него, конечно, гораздо богаче, чем в «Шинели»). Сразу после гибели Верещагина Ростопчин «вдруг побледнел» и утратил самообладание. В смятении он торопливо отправился в свой загородный дом, вспоминая по дороге о случившемся и раскаиваясь поначалу в собственном поведении. «„Граф! один Бог над нами!“ – вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Ростопчина» (6: 392). Но чувство это вскоре проходит, а мысли переключаются на самооправдание. «Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился» (6: 393), – подобно значительному лицу из «Шинели».
Затем через пустынное поле он едет к Кутузову, «уже не вспоминая о том, что было, и соображая только о том, что будет». По дороге Ростопчин встречает выпущенных им на волю сумасшедших в белых одеждах (то есть цвета снега, который забрасывал в пути значительное лицо). Один из них, с «сумрачным и торжественным лицом», бежал наперерез коляске Ростопчина, «шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате <…> „Стой! Остановись! Я говорю!“ – вскрикивал он пронзительно <…> Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом». Грозный безумец словно бы представительствует от погибающего и воскресающего Спасителя, воплощением которого он себя считает: «Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили камнями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну…» (6: 394). Иначе говоря, Толстой в этой сцене, по сути дела, выводит наружу евангельский аллюзионный заряд, исподволь накопленный в повести Гоголя. Филиппики толстовского обвинителя явственно согласуются и с масонско-пиетистскими представлениями, изначально родственными обоим писателям: в каждом человеке таится «распятый Христос», который воскресает в делах милосердия и братолюбия.
Безумец функционально замещает призрак Башмачкина, восставшего из могилы, чтобы обличить своего губителя. Соответственно, реакция графа соединяет в себе ужас значительного лица с совестливостью гуманного «молодого человека» в «Шинели», из чьей памяти не выходит образ затравленного Акакия Акакиевича. У Гоголя охваченный страхом генерал «закричал кучеру не своим голосом: „Пошел во весь дух домой!“ Кучер <…> замахнулся кнутом и помчался, как стрела» (III: 173).
У Толстого мы здесь читаем:
Граф Ростопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.
– Пош… пошел скорее! – крикнул он на кучера дрожащим голосом.
Коляска помчалась во все ноги лошадей (6: 395).
И затем:
Но долго еще позади себя граф Ростопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике <…> Как ни свежо было это воспоминание, Ростопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить это страшное воспоминание в его сердце (6: 395).
Ср. в «Шинели»:
И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья… (III: 144).
Приведенные примеры, думается, свидетельствуют о том, что пресловутая апокрифическая максима Достоевского – «все мы вышли из „Шинели“ Гоголя» – нуждается во внимательной проверке и применительно ко Льву Толстому.
2013
Женские образы в «Войне и мире» и русская проза 1830-х годов
Зависимость толстовского творчества от английского семейного романа и вообще от английской бытоописательной прозы хорошо изучена. С этой литературой Толстого связывали и его масонские притяжения[139 - См. обстоятельную работу С. Шаргородского: «Всяк из нас должен быть Бемом…» (Масонский текст «Войны и мира») // Лев Толстой в Иерусалиме: Материалы научной конференции «Лев Толстой: после юбилея». М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 177–176. Более скептическую позицию на этот счет занял В. Паперный: Лев Толстой и мистицизм // Там же. С. 159–172. Моя статья, предлагаемая сейчас вниманию читателя, вышла в том же сборнике.], и общая предрасположенность к протестантскому домостроительству.
Он не был, однако, первым русским писателем, обратившимся к британской традиции. Еще в романтический период его предшественником оказался Бегичев, автор пространного – вышедшего в шести частях – нравоучительного сочинения «Семейство Холмских» (1832), которое снискало весьма широкую популярность и при жизни автора дважды переиздавалось.
Отрицательным персонажам, одержимым пагубными и разорительными страстями, Бегичев противопоставляет героев, которые упорно сражаются со своими грехами или недостатками. Борьба развертывается по масонским инструкциям Франклина, согласно его методу каждодневного самоконтроля и планомерного очищения души от пороков – методу, чрезвычайно близкому Толстому. У Бегичева даже приводится, в качестве практического руководства, полный текст знаменитой «молитвы Франклина», содержащей его «правила». Юному герою соответствующие наставления дает мудрая мачеха, почитательница Франклина, принимающая на себя функции масонской вожатой. Еще прозрачнее выглядит масонский генезис книги в ее главной аллегорической линии – финальной женитьбе героя на вдумчивой и прекрасной девушке по имени София, которую автор шутливо величает «профессором премудрости».
В заостренно полемическом предисловии к «Семейству Холмских» Бегичев язвительно перечислил черты, кардинально отличающие его героев и все сюжетные перипетии от истерично-романтических клише. Перечень подытожен сентенцией:
И чем все это кончилось? Влюбленные мои, как мещане, сочетались законным браком и поселились жить в деревне! Вообще, все похождения, как их, так и других действующих лиц моих, не представляют решительно ничего романтического[140 - Бегичев Д. Н. Семейство Холмских. Ч. 1. Указ. соч. С. XXV.].
Подобные тирады могли только импонировать создателю «Войны и мира», завершившему приключения Пьера и Наташи браком со всеми его житейскими передрягами и заботами. Вообще же Толстой настолько любил «Постоялый двор», что даже содействовал его новому, сокращенному переизданию.
Между тем уже в 1834 году Греч уличил Бегичева в подражании некоему – правда, не названному критиком – английскому роману, а вернее сказать, в прямом плагиате[141 - Греч Н. Письмо в Париж к Я. Н. Толстому // Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. С. 169.]. Однако именно эта чрезмерная причастность Бегичева островным канонам, в сущности, и сблизила с ним творчество Толстого[142 - Петрунина Н. Н. Проза второй половины 1820–1830 годов // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1980–1983. Т. 2. С. 522.]. Англо-масонскую традицию он мог воспринимать не только в ее оригинальном, но и в несколько кустарном отечественном исполнении.
Не менее популярным произведением на сходные темы оказался и многотомный роман Степанова «Постоялый двор», вышедший в 1835-м, вскоре после «Семейства Холмских» и, подобно ему, вскоре переизданный. Его также отличает напряженный интерес к бытовым и нравственным аспектам русской повседневности, которые трактуются здесь с пафосом напористого благомыслия.
Книга представляет собой свод взаимосвязанных событий, скрупулезно отслеживаемых самим повествователем – Горяновым, здравомыслящим консерватором, патриотом, усердным садовником и натурфилософом. Это своего рода руссоист охранительного толка. В центре его внимания – внутрисемейные связи, взаимоотношения поколений, проблемы воспитания. Как и у Бегичева, поучительная хроника подсказана ему все той же практикой масонского наблюдения и самонаблюдения, столь родственной самому Льву Толстому с его монументальным Дневником. С обеими книгами роднит его и неистощимая назидательность. В принципе, тут любопытно было бы проследить и возможную связь толстовской дидактики с эпистолярным наследием известного русского розенкрейцера С. Гамалеи, письма которого дважды издавались в 1830-е годы, практически одновременно с упомянутыми романами. Но этот вопрос лежит за рамками настоящей работы.
Здесь нас интересует только роман Степанова – вернее, лишь одна из линий повествования. К числу его главных героинь принадлежит юная княжна Серпуховская. Ей свойственны одновременно и чрезмерная ученость – увы, сопряженная с опасным вольнодумством, – и необычайная девичья витальность. Последняя имеет прогностически амбивалентное значение, поскольку таит в себе зачатки и ангела, и разнузданной грешницы. Сюжет реализует именно вторую возможность.
Шестнадцатилетнюю девушку отличает почти птичья невесомость и подвижность, увязанная, однако, с излишне свободным и независимым нравом, которому потакает недальновидная родительница. По рассказу одного из гостей,
когда на минуту отлучилась мать, она вскочила на отдаленное кресло, промчалась по ряду мебелей, делая разные балетные па, и перепрыгнула так мастерски через мои колени, что даже не прикоснулась ко мне легким платьем своим; только ветерок махнул за нею, как от крыльев маленькой птички[143 - Степанов А. П. Постоялый двор. Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым: В 4 ч. Ч. 2. СПб.: тип. А. Смирдина, 1835. С. 265.].
Своей неуемной прыгучестью героиня с первого своего появления, так сказать, «прообразует» Наташу Ростову. Напомним ее вводный портрет:
В комнату вбежала 13-летняя девочка, запахнув что-то короткою юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко.
И далее:
Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детски открытыми плечами <…> оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была уже в том возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка <…> Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.
Потом сказано, что Наташа «прыгала, как коза, все на одном месте и пронзительно визжала». Если прыжки степановской княжны представляли собой «разные балетные па», то и у Наташи в этой ее спонтанной безудержности предсказана некая хореографическая динамика, которая получит потом специфически национальное выражение в сцене ее русской пляски у дядюшки Николая. Есть в ее детской прыгучести и предощущение полета, также роднящее толстовскую героиню с Серпуховской. Срабатывают заодно общие орнитологические ассоциации. В ранних версиях «Войны и мира» Наташа не раз сравнивается с «птичкой». Напомню о ее ночной беседе с Соней: «– Так бы вот и полетела бы» (в черновиках «Войны и мира» мотиву полета уделялось, как известно, значительно больше места). Впрочем, сам показ обеих этих прыгучих, поющих и взбалмошных героинь восходит, скорее всего, к общему источнику – к гетевской Миньоне. (Вопроса о посредующей роли тургеневской Аси я сознательно не касаюсь.)
У княжны Серпуховской неуемность и безудержность оборачиваются безоглядностью эротического порыва. Она влюбляется без памяти в беглого каторжника и негодяя, красавца Зарембского, восторженно ему отдается и сбегает с ним из дому – упреждая тем самым соответствующие перипетии толстовской героини, тоже заряженной неистовой гормональной энергией. Вместе с тем сексуальная эскапада Наташи с Анатолем Курагиным лишена того громоздкого идеологического оснащения и той идеологической мотивировки, которыми обусловил падение своей княжны повествователь из «Постоялого двора», одержимый манией тотального морализирования.
Нельзя утверждать, будто сам Толстой в период «Войны и мира» был чужд консервативно-мировоззренческим установкам николаевской эпохи. Напротив: как продемонстрировал Шкловский в упомянутой книге 1928 года «Материал и стиль в романе Толстого „Война и мир“», он в основном сохранял приверженность официальным ценностям. Но проявлялись они не только в историософской или политической областях. В частности, заслуживает здесь внимания толстовская трактовка образа прекрасной, холодной и развратной княжны Элен Курагиной, которая в сюжетной перспективе противостоит порывистой, но все же честной и обаятельной Наташе Ростовой. Статуарно-языческие коннотации, как показала Е. Толстая, внедрены в облик Элен[144 - Толстая Е. Экспериментальные приемы в «Войне и мире»: повторы редкие и концентрированные, загадка, гипноз и др. // Лев Толстой и мировая литература: Материалы V Междунар. конф. Тула: ИД «Ясная Поляна», 2008. С. 109–130.]. Действительно, ей придано бездушное пластическое величие эротического идола, некой светской Венеры. Характерно, что Толстой упоминает, среди прочего, о ее «античных плечах»; а в одной из сцен романа разгневанный Пьер даже замахивается на нее именно мраморной доской, действуя, так сказать, по принципу гомеопатии («подобное – подобным»).
Фактически автор «Войны и мира» следовал здесь канону, отработанному еще французской католической философией Реставрации и соединившемуся в романтической школе с новыми эстетическими ориентирами. Еще Шатобриан в своем «Гении христианства» противопоставлял языческому искусству, лишенному души и подлинно метафизического смысла, искусство христианское, наделенное, по его мнению, и тем и другим. Популярным, но все же более сдержанным аналогом такого подхода была общеизвестная романтическая иерархия, согласно которой античная скульптура, сохраняя значение плотского эстетического идеала, в новой, христианской культуре вытеснялась двумерной живописью, раскрывавшей в себе спиритуальную сторону жизни, которой по-настоящему не знали древние. Напомню, что апофеозом спиритуальности романтики почитали, однако, музыку (но с ней у Толстого были сложные отношения, со временем результировавшиеся в агрессивно антиромантической «Крейцеровой сонате»). Эта тернарная иерархия проводится, например, в двух романтических эссе – Веневитинова и Гоголя, – снабженных одинаковым названием: «Скульптура, живопись и музыка».
Гораздо резче дихотомия древнего ваяния и новой живописи развернута зато у Чаадаева, нагнетавшего ее с энтузиазмом вдохновенного эпигона. В 7-м из Философических писем он называет древнюю пластику «апофеозом материи», рождающим нечистоту в сердце: «это какой-то культ, опьянение, очарование, в которых нравственное чувство целиком исчезает». «Бессмысленное восхищение» перед античной скульптурой «производит самая низменная сторона нашей природы… мы, можно сказать, плотью своей воспринимаем эти мраморные и бронзовые тела». Это «своего рода чудовище, порожденное самым беспорядочным извращением человеческого ума» и сулящее «сладостные наслаждения». Как справедливо заметила однажды Кристина Поморска по поводу знаменитой статьи Р. Якобсона о статуе в пушкинской мифологии, склонность к демонизации скульптуры в России стимулировалась также враждебным отношением самого православия к рельефным изображениям.
Сходную трактовку мы находим у масона и православного романтика Федора Глинки. В одной из его «аллегорий» с язычеством, прекрасным, но ограниченным в своей пластической завершенности, эстетически контрастирует христианство. Здесь обрисованы две сестры, которые олицетворяют эту общеромантическую дихотомию. Старшую сестру, наделенную антично-статуарным величием, отличают ясность, «ненарушимое спокойствие в чертах лица» и «роскошная» полнота форм, тогда как в облике младшей классицизму противостоит романтизм в качестве искусства именно христианского; последнее привержено всему таинственному, неуловимому, соприродному бесконечности: «Такова вторая сестра»; «Легкость – ее примета»[145 - Глинка Ф. Н. Две сестры, или Которой отдать преимущество? // Глинка Ф. Н. Опыты аллегорий в стихах и прозе. Прилож. 3. М.: РГГУ, 2009. С. 192–193.]. В согласии с той же традицией, у графини Ростопчиной (1838) в повести «Поединок» духовно-христианская красота ее юного героя противопоставлена «положительной красоте древних мраморов».
Героиня повести К. Зеленецкого «Княжна Мария» (1837), 22-летняя княжна Варвара, в отличие от наивной и обаятельной младшей сестры, уже достигла той стадии, когда «девица покидает свою невинную резвость, все простодушие детства, которые так шли ей в осьмнадцать лет». Законченная оформленность телесного образа Варвары подчеркнуто соотнесена у Зеленецкого с античным божеством – с Афродитой, бесчувственной в своем языческом совершенстве. Материализовавшийся идеал стал идолом: «Холодная душою, она была прекрасна лицом и величава станом, как идеал телесной красоты, созданный светлым гением Эллады»[146 - Зеленецкий К. П. Четыре повести // Соч. Константина Зеленецкого. М.: Унив. тип., 1837. С. 124.].
Такую же утрированно-христианскую вражду к языческой пластике мы встретим у Николая Полевого, например, в повести «Живописец» (1833). Ее герой признается:
Венера Медицейская мне всегда нравилась как кусок мрамора, обделанный для анатомического образчика человеческого тела; я всегда смотрел на эту статую, как философ смотрит на восковое изображение трупа, изучая в нем физического человека.
(К слову сказать, отголоски этого чисто романтического благочестия явственно различимы и в первых, еще пренебрежительных, репликах тургеневского нигилиста Базарова по поводу Одинцовой.)
Отсюда действительно только шаг до столь же скульптурной, столь же язычески прекрасной и духовно столь же мертвой княжны Элен в романе Толстого. В итоге здесь угадывается трансформированная оппозиция двух женских типов, которая явственно напоминает об их общем генезисе. «Некрасивой девочке» Наташе Ростовой – искренней в своих инфантильных метаниях – в каком-то смысле противопоставляется именно Элен, прекрасная, бездушная и расчетливая. И Наташа, и ее будущий муж проходят череду испытаний, мучительную инициацию, предшествующую их нравственному очищению. Для обоих губительный эротический соблазн воплощает семья Курагиных, точнее два сиблинга – Элен и Анатоль. Метания Наташи завершатся воплощением присущего ей духовного начала: «птичка»-психея совьет наконец гнездо.
В таком контексте уместно, вероятно, будет напомнить и о необычайно важной компоненте образа Пьера, само имя которого означает камень – главный масонский символ. Весь его бурный жизненный путь, представляющий собой своего рода «роман воспитания», ведет героя от соблазна, воплощенного в Элен, к духовному воскресению, соотнесенному с прозревшей и умудренной Наташей Ростовой. Масонский необработанный, дикий камень, каким был он вначале, проходит тем самым процесс живительной обработки и одухотворяется.
2013
Голубь и лилия
Романтический сюжет о девушке, обретающей творческий дар
Позаимствовав ряд ключевых мотивов и образов из христианской традиции, романтизм спроецировал их на собственную эстетику и эротику. В первом случае обожествлялся творческий акт, а поэт представал земным воплощением творящего Слова Божия, то есть, по сути, самого Христа; во втором сакрализации – а иногда, напротив, демонизации – подвергался эротический партнер[147 - Подробнее об этом см. в моей статье «„Вот эвхаристия другая…“ Религиозная эротика в творчестве Пушкина» // Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души. М., 2003.]: в своем мужском амплуа он ассоциировался с Иисусом, а в женском – с Мадонной[148 - О катарских источниках мифологии такого рода см.: Rougemont D. de. Love in the Western World / Transl. by M. Belgion. New York, 1974. P. 81, 107. О культе Пресвятой Девы: O’Carroll M. Theotokos: A Theological Encyclopedia of the Blessed Virgin Mary. Wilmington, 1983.] (очень часто снабженной вдобавок чертами святомученицы). Фактически же обе эти сферы – эстетическая и эротическая – постоянно смешивались, поскольку поэтическое одушевление окрашивалось любовной тональностью, а любовь принимала вид творческого озарения: то была ностальгия по абсолюту, понятому как идеал прекрасного. В соответствующем диапазоне подбирались и библейские реминисценции, почерпнутые из Ин. 1: 1–10, Песни Песней, Псалтири и прочих текстов.
Серебряный век неимоверно усложнил и обогатил эту аллюзионную систему[149 - См., например, софиологическую насыщенность некоторых ахматовских стихов, подключенных к чрезвычайно широкому культурному контексту: Тименчик Р. Храм Премудрости Бога: стихотворение Анны Ахматовой «Широко распахнуты ворота» // Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol. 5–6. P. 297–318. Теософской и оккультистской проблематике Серебряного века посвящено множество работ, в том числе таких капитальных, как известное исследование А. Ханзен-Леве о русском символизме.], утрировав вместе с ней и романтическую тягу к самосакрализации. Проникла она, естественно, и в женское творчество. Многие поэтессы настойчиво возводили себя – точнее, свое лирическое alter ego – к тем или иным библейским и мифологическим «патронам» и прототипам, нередко – к историческим соименницам[150 - Марина Цветаева, как известно, соотносила себя с Мариной Мнишек – но и с Лилит, Евой, Агарью и пр.; Черубина де Габриак (Е. Дмитриева) – в числе прочего, с херувимом, охраняющим рай от Евы, и одновременно с самой Евой; София Парнок – с библейской либо гностической Софией, а кроме того, с Сафо, и т. д.: примеры легко умножить.]. Разумеется, охотно переносили они на себя черты Богородицы и одновременно «невесты Христовой» (порой с привлечением смежных монастырских ассоциаций, подсказанных, в частности, житием св. Терезы Авильской)[151 - Ср. в данной связи любопытный мотив эротического соперничества (а не самоидентификации) монахини с Девой Марией в стихотворении А. Герцык «Я хочу остаться к Тебе поближе…»: «Твой любимый цвет – голубой и белый, / Твоя Мать, я знаю, его носила. / Видишь – я такой же хитон надела <…> Ты любил Марию, но часть благая / Ведь и мне досталась в моем смиреньи. / Став рабой Твоей, стала я царицей, / Телом дева я и душой свободна. / Кипарисный дух от одежд струится. / Ты скажи – такой я Тебе угодна?» (Герцык А. Стихи и проза: В 2 т. Т. 2. М.: Моск. ист. – лит. о-во «Возвращение», 1993. С. 72).]; вдохновение изображалось при этом как нисхождение Благой вести и зачатие, посредством Святого Духа, поэтического Слова (с опорой на Лк. 1: 26–39, на литургическую, да и апокрифическую традицию, усвоенную, впрочем, той же литургикой). См., например: Мирра Лохвицкая, «Святое пламя», «Красная лилия»; З. Гиппиус, «Благая весть»; А. Герцык, «Счастье», «Что это – властное, трепетно нежное…»; А. Баркова, «Христос»; Черубина де Габриак, «Благовещение». Богородичная символика была едва ли не общим достоянием всей «женской поэзии» первых десятилетий XX века[152 - Впрочем, и сам богородичный образ в этой культуре легко расплывался в софиологической или теософской символике Weiblichkeit: «И будут пути иные, / Иной любви пора: / Сольвейг, Тереза, Мария, / Невеста-Мать-Сестра!» (З. Гиппиус). По поводу «вечной женственности» и Mater Gloriosa в ее гетеанской интерпретации см. Mason E. C. Goethe’s Faust. Its Genesis and Purport. Berkley; Los Angeles, 1967. P. 243, 358.], безотносительно к индивидуальности, степени мастерства и даже сексуальной ориентации ее представительниц[153 - Некоторое отклонение, правда, сюда могут вносить причуды гендерной самоаттестации. Скажем, героиня стихотворения М. Цветаевой «Бог! – Я живу! – Бог! – Значит, ты не умер…» эпатажно объявляет себя не матерью Слова, а его сыновним воплощением – божьим «герольдом»: «Бог! – Я любовью не девической, – / Сыновне я тебя люблю». Но там же сохраняется тождество героини, андрогинной «Царь-Девицы» с Пресвятой Девой: «Смотри: кустом неопалимым / Горит походный мой шатер. / Не поменяюсь с серафимом. / Я твой Господень волонтер». («Купина неопалимая» считалась «предызображением» Марии; в литургике провозглашалось и ее превосходство над серафимами: «чистейшая серафим».)], а равно и к тем житейским, биографическим обстоятельствам, которые давали дополнительный импульс для сюжета о Благовещении.
Однако и сюжет этот в целом, и самоидентификация лирической героини с Приснодевой таили в себе несколько парадоксов, коренившихся в церковной догматике и оказавших причудливое воздействие на его развитие. То, что Церковь со II Вселенского собора объявляла «непостижимым и невыразимым», получало литературное выражение, которое вскрывало еретический потенциал, заложенный в учении о боговоплощении. Так женская лирика, вне зависимости от воли авторов, становилась еретическим деянием.
Проблема тут состояла в ключевом догмате о «единосущии» всех лиц Святой Троицы[154 - Догмат о триипостасности божества – «коренной или основной. Утверждение его служит основанием всего христианства и христианского вероучения». Согласно символу св. Афанасия, «каков Отец, таков и Сын, таков и Святый Дух <…> Целы три ипостаси, соприсущи себе и равны» (Троица Пресвятая // Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 т. [Репринт. изд.] М.: Возрождение, 1992. Т. 2. С. 2180, 2183).]. Литературное сознание, не изощренное в богословской диалектической метафорике, по необходимости тяготело к их прямому сюжетному отождествлению. В итоге получалось, что замещаемая героиней «Богоматерь», зачиная от Святого Духа, как бы вступала тем самым в брак и с Богом-Отцом, и с собственным Сыном – то есть становилась супругой Христовой, – а рождая Иисуса, тем самым рождала и Его Отца (= Небесного Отца всего человечества, а значит, и своего собственного). Такая интерпретация единосущия, не говоря уже о ее «психоаналитических» предпосылках, находила опору и в неизжитых архаических представлениях об инцестуальной природе сакрального брака[155 - Ср.: «В мифологическом восприятии непорочного зачатия „творец“ неплодной (или непорочной) мыслится первоначально как ее отец; отсюда тесная связь между мотивами партеногенезиса и кровосмешения. Небесный отец Христа есть в то же время отец родившей его Марии; только на почве низведения Божьей Матери на степень смертной девы выражение „отец“ или „творец“ понимается в смысле творца (или отца) всего живущего. В египетской мифологии, где отчетливей проглядывают первоначальные воззрения, зачатие небесной богини происходит от связи ее с отцом (солнечным богом), который затем вновь рожден ею в результате кровосмесительного брака» (Франк-Каменецкий И. Г. Пророки и чудотворцы // Франк-Каменецкий И. Г. Колесница Иеговы: Труды по библейской мифологии. М.: Лабиринт, 2004. С. 59).]. В сонете А. Герцык «Любовью ранена, моля пощады…», отчасти ориентированном на оргиастические грезы св. Терезы (как и на ее скульптурный образ у Бернини), лирический субъект выступает одновременно в роли и жены, и дочери божества:
А Он, Супруг, объемля благодатью,
Пронзая сердце огненным копьем —
«Я весь в тебе – не думай ни о чем!»
Сказал. И в миг разлучного объятья,
Прижал к устам мне уст Своих печать:
«Мужайся, дочь, мы встретимся опять!»[156 - Герцык А. Стихи и проза: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 80.]
Инцестуальная проблематика усугублялась тем, что со Святым Духом или другим лицом Троицы в расхожем, «неканоническом» восприятии всегда мог отождествляться и архангел Гавриил. Вестник зачатия словно принимал на себя и его осуществление. Говоря об отдаленных источниках пушкинской «Гавриилиады», Франк-Каменецкий в статье «Разлука как метафора смерти в мифе и поэзии» ссылался на «раннехристианские воззрения, отождествлявшие архангела Гавриила с Логосом, который является одновременно супругом и сыном Марии»[157 - Цит. по: Алексеев М. П. Заметки о «Гавриилиаде» // Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1984. С. 303.]. Думается, однако, что и особой необходимости в подобной апокрифической поддержке не возникало – евангельский рассказ и без нее открывал возможность для такого понимания.
Тут возникала и добавочная сложность, обусловленная симметрической соотнесенностью Благовещения с грехопадением Евы. Согласно святоотеческим учениям, ее грех был упразднен Марией как «второй» или «новой» Евой. Отсюда напрашивалось, однако, пугающее представление о функциональной связи между Гавриилом и ветхозаветным змием, так что на первого легко переносились приметы второго. Благодаря апокрифам связь эта, доведенная уже до прямого сходства, и показ соответствующих страхов Марии (лишь бегло упомянутых в Евангелии) были прочно усвоены и католической, и православной, в том числе богослужебной традицией[158 - Касаясь соответствующих мотивов «Гавриилиады», М. П. Алексеев подчеркивает: «В изложении обстоятельств Благовещения не только учительная и проповедническая литература, гимны, иконопись и легенда, но даже и литургия пользуются не каноническими евангелиями Матфея (1: 18–25) и Луки (1: 26–45), где рассказ об этом событии изложен действительно недостаточно полно, но именно евангелиями апокрифическими. С не меньшей степенью вероятия можно было бы сюжетные мотивы „Гавриилиады“ искать, например, в текстах благовещенской церковной службы, насквозь пропитанной апокрифическим элементом <…> Так, в стихире на „Слава и ныне“, поющейся накануне Благовещения, есть, между прочим, слова, которые не имеют ничего общего с каноническим евангельским текстом: „радуйся, неневестная мати, и неискусобрачная, не удивляйся страшному моему зраку, не ужасайся, архангел бо есмь. Змий прельсти Еву иногда, ныне же благовествую тебе радость“. Здесь же последовательно развивается мотив страха Марии, ее боязнь обмана, ее ссылка на обольщенную Еву: „Странно есть слово твое и воззрение“ <…> Все эти подробности мы найдем также в учительной литературе и христианской иконографии», включая итальянскую живопись: у Фра-Анджелико, Гирландайо и Франчини, прибавляет автор, «Гавриил представлен в демоническом образе искусителя» (Алексеев М. П. Заметки о «Гавриилиаде» // Алексеев М. П. Указ. соч. С. 331–332). Знаменательно, что в восточнославянской народной традиции Благовещение и следующий за ним день арх. Гавриила (26 марта) трактуются как крайне «опасное, неблагоприятное» время» (Агапкина Т. М. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М.: Индрик, 2002. С. 42–43, 64–65, 394).]. Проникла эта демонологическая тревога и в письмо пушкинской Татьяны: «Кто ты, мой ангел ли хранитель, / Или коварный искуситель?» – и в некоторые другие тексты XIX столетия (тогда как позже, в женской «декадентской» поэзии, например у Черубины де Габриак, будет воспеваться именно сатанинская сторона сакральной эротики).
Был у Благовещения еще один ритуальный аспект, значимый для нашей темы и канонизированный в русской поэзии Пушкиным, Дельвигом и Ф. Туманским. В этот день, 25 марта, принято было отпускать птиц на волю, словно узников из тюрьмы. Исследователи соединяют этот обычай, как и другие благовещенские обряды, с празднованием весны и весенним «отмыканием» природы (кстати, можно было бы напомнить, что открытая клетка – это известная аллегория дефлорации, подхваченная моралистической живописью). Указывалось и на то, что птицы, по всей видимости, считались посредниками между земным и небесным миром, посланцами от человека к Богу или Богородице[159 - Зеленин А. Д. Запечатленный А. С. Пушкиным русский народный обычай выпускать весною на волю птиц // Зеленин А. Д. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1934–1954. М.: Индрик, 2004. С. 239, 242; Там же, с. 293, см. комм. Т. Г. Ивановой. Ср. благовещенские поверья: «Пташки Богу помолются!»; «За нас Божью Матерь молите!» (Коринфский А. А. Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычай и пословиц русского народа. Смоленск: Русич, 1995. С. 185) – и перенос таких представлений в «Птичку» Ф. Туманского (1827): «И так запела, улетая, / Как бы молилась за меня».].
Конечно, эта традиция поддерживалась и орнитологической атрибутикой евангельского рассказа: ведь голубь (обычно белый, «серебряный») почитался образом Святого Духа – как и вестником спасения из Быт. 8: 8–12 (имелись, впрочем, у голубя и сексуальные коннотации)[160 - Ср. у Черубины де Габриак («Уж много кто разгадывал…», 1921): «Пускай и дым, и полымя / По всем земным церквам… / Нашла я друга-голубя, / А прилетел-то сам…» (Габриак Ч. де. Исповедь. М.: Аграф, 1998. С. 122).]. С другой стороны, поскольку птицы, включая того же голубя, были древнейшим и повсеместным символом души, благовещенский обычай мог переосмысляться и как ее освобождение от телесных уз[161 - «Мифическая сущность птиц хорошо известна: это души, покинувшие землю мертвых», – говорит В. К. Шилейко, прослеживая генетическую связь Благовещения с мистериями Аттиса и вавилонской мифологией применительно к стихотворению Пушкина «В чужбине свято соблюдаю святой обычай старины…» (которое он, правда, приписал В. Туманскому). – Шилейко В. К. Родная старина // Восток: Ж-л литературы, науки и искусства. Пг., 1922. Кн. 1. С. 80.]. Парадоксальным образом праздник воплощения оборачивался мечтой о развоплощении. Такую интерпретацию, проникнутую тягой к смерти, мы встретим в стихотворении С. Парнок «Целый день язык мой подличал…» (1923):
Благовещенье! Так завещано:
Всем крылатым из плена – вылет.
И твои встрепенутся, всплещутся,
Голубь мой, в поднебесье крылья.
Но чертог скудельный – прочен он,
И не рухнуть ему до срока.
Разъедай же его, червоточина,
Дожигай его, огнь высокий![162 - Парнок С. Стихотворения // Sub Rosa: Аделаида Герцык, Софья Парнок, Поликсена Соловьева, Черубина де Габриак. М.: Эллис Лак, 1999. С. 309.]
Между тем похожее столкновение обеих установок, христианско-жизнестроительной и противоположной, эскапистско-некрофильской, мы найдем задолго до того в позднеромантической версии рассказа о Благовещении. Предметом дальнейшего изучения и станет этот сюжет, распространившийся в русской литературе с середины 1830-х годов, – сюжет о юной деве, стяжавшей творческий дар и/или его прекрасный адекват – жениха как олицетворение своих поэтических грез (= Гения, взамен Музы, вдохновлявшей авторов-мужчин). Предваряя разборы, следует сразу сказать, что полученный «дар», соединяя романтическую героиню с миром потусторонним, обычно сулил ей скорое и желанное возвращение на загробную родину души; матримониальные же ее чаяния претворялись в утопию небесного, а не земного брака.
Тогда же, во второй половине 1830-х годов, то есть на излете романтизма, подобные порывы уже вовсю пародируются – прежде всего авторами, которые враждебно относятся к женскому творчеству в целом. Ср. в повести Рахманного (Н. Н. Веревкина) «Женщина-писательница»:
В семействе заводится язва. Девушка, мучимая великим чертом стихотворства, улетает в область туманного, неопределенного, дикого. Положительного для нее как будто не бывало и нет. Она пренебрегает занятиями и обязанностями своего пола. Житейские потребности кажутся ей мелкими и ничтожными; даже привязанность к отцу и матери слабеет. В ней поселяется тревожное волнение; она вторит судьбе слезой и луне улыбкой; что-то предвещает ей удел таинственный, и она трепетно ждет будущности. Вместо того, чтоб жить сердцем, она живет головою, наживает себе chlorosis и, бледная, зеленоватая, налитая белою кровью, часто уже неспособная быть матерью, в восемнадцать лет, Бог весть почему, называет свет лукавым и облекает думы могильным саваном, находя всюду холод, пустоту, тень. Она, что должна была очаровывать других, сама, по крайней мере, на словах, уже разочарована. Ум, напряженный пагубными для нежного тела усилиями, узнает прежде времени то, что мог бы узнать позже; понятия опережают лета; она влюбляется в идеал, разлагает любовь, и, когда выходит замуж, для нее нет ничего нового, кроме чепчика с розами[163 - Библиотека для чтения. Т. 22. 1837. С. 37–38.].
Пищу для критики давало и то обстоятельство, что речь шла преимущественно о писательницах второго, а порой (Е. Шахова) даже третьего ряда. То же касается, впрочем, и авторов-мужчин, разрабатывавших сюжет о девичьем вдохновении, хотя сами они, в особенности претенциозный Тимофеев, оценивали себя совсем иначе. Но здесь симптоматичен и важен как раз их довольно скромный литературный уровень, за счет которого они с наивной прямолинейностью озвучивали то, что у великих и несравненно более искушенных мастеров либо низводилось в пародию («Гавриилиада»), либо, как в «Евгении Онегине», тонко мотивировалось трогательной любовью экзальтированной героини, теряющей чувство реальности.
Вместе с тем сам портрет романтической «девы» у авторов 1830-х годов обычно строился с оглядкой на юную Татьяну Ларину, ибо, не наделив свою героиню поэтическим талантом, Пушкин заменил его поэтической чуткостью, мечтательностью и лирическим томлением, вобравшим в себя всю силу и полноту религиозных упований[164 - Об этом, как и об опосредованной связи ее письма с «Гавриилиадой» и стихами о Бедном рыцаре, см. в моей вышеупомянутой статье: «Вот эвхаристия другая…» Религиозная эротика в творчестве Пушкина // Птица тройка и колесница души. С. 36–46.]. Из ее письма Онегину массовый романтизм заимствует, во многих подробностях, и самую грезу героини о грядущем возлюбленном, которому Татьяна приписала свойства и облик божества:
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался.
Давно… нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала,
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души!
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Этой мистической интонацией и риторическими вопросами перенасыщено, к примеру, стихотворение Надежды Тепловой «К чародею» (1832):
Давно знакома я с тобой.
Когда-то, в редкие мгновенья,
Не наяву, не в сновиденьи,
Видала светлый образ твой.
Когда с денницею румяной