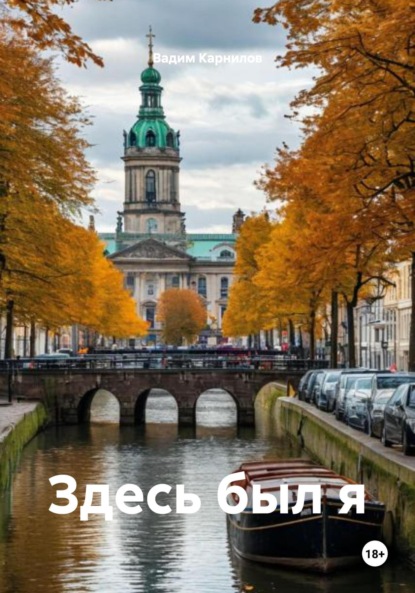
Полная версия:
Здесь был я

Вадим Карнилов
Здесь был я
Москва 2025
Предисловие
Начав писать, я сразу знал, что пишу в жанре автофикшн. Это потому что мне так хотелось, и потому что нравился сам термин. То есть не просто банальное автобиографическое повествование, а – вот кто-то придумал же, и как хорошо получилось! – автофикшн, что значит литература о самом себе. Я также думал, что, наверное, мой текст – в жанре документального изложения событий. Однако здесь основным аргументом против было то, что план документалистики меня вовсе не увлекал, наверное, скучноватостью и требованием строгого следования фактам, в том числе в хронологическом отношении. Размышляя над литературоведческой сложностью проблемы выбора жанра, я по итогу склонился к тому, что мое сочинение находится в области литературы, во-первых, автофикшн, и во-вторых, литературы о, конечно же, путешествиях как реальных перемещениях в пространстве, так и во времени, например, экскурсах в прошлое.
По рассуждении показалось приемлемым предложить в этой литературе конкретику, выделив «литературу комплекса». Хотя опять же это определение далеко от точности: если разбираться в направлении детально, может оказаться, что вся, ну или почти вся литература – это креатив ради желания высказать себя как результат проявления, по крайней мере, неординарности либо с позиции превосходства, либо с позиции не полной оцененности. По факту литература – вся или, повторюсь, почти вся – это сфера «меченых особей», сфера выражения для тех, кто считает себя или кого считают другие супером или, напротив, девальвантом.
Определить жанр одним словом трудно. Прежде всего, это нон-фикшн, потому как это автобиографическая литература о событиях, случившихся в отрезках времени с автором в путешествиях или после них как результат этих странствий. Желание описать события основано на впечатлениях, пережитых в детстве и вынесенных из него, а также впечатлениях значительно более поздних лет, которые в памяти претерпели, если воспользоваться фигурой речи одного автора-англосакса, типично обрядовые, как на празднике терминалий, складывания в кучу, предназначенные для некоего действа. Этим действом оказалось последующее письменное изложение в виде небольшого рассказа как линейно-временнóго явления, развивающегося строка за строкой и страница за страницей. Таким образом, сведя воедино терминологию, получаем искомую величину – жанр написанного, а именно: «автофикшн путешествующего в пространстве и времени и анализирующего события».
Сам процесс меня захватывал, то есть писать было увлекательно, как, надеюсь, будет не менее увлекательно читать то, что получилось. Скромно допускаю, что эти тексты могут быть в тренде, потому как они в целом повествуют историю странствующего человека уровня эверидж, то бишь обычного, каких во множестве видишь там, где они водятся – в залах ожидания аэропортов, самолетах, гостиницах, прикультурных очагах, в театрах, даже – не побоюсь этого слова – библиотеках европейских столиц. Приятные моменты страннику выпадают, только не надо, как предупреждают писатели и, что характерно, оба классики, стрелять при этом в люстру, это лишнее. Достаточно провести авторский анализ эволюции событий, случившихся в поездках, и описать их. В этом отношении можно сказать, что все сторис – про сезон путешествий и приятных событий, которые случаются по усмотрению и определению справедливой судьбы, следящей за тем, чтобы очень приятные события никому не доставались на очень большой срок. А вот маленькие приятные события на маленький срок – так пожалуйста. Тексты настоящей книги – это рассказ о совсем небольших, скромных таких событиях, случившихся в периоде автора во время его пространственных перемещений. Они, тексты, небольшие, и книга тоже малообъемна, потому что надо уметь писать кратко, чтобы не надоедать читателю, как будто он читает это всю жизнь, словно некий сакральный текст, а не разве из любопытства.
Возможные совпадения имен персонажей с именами реальных лиц случайны.
Глава 1. МНОГО О СКАНДИНАВИИ, НЕМНОГО
О КАНАДЕ, ИРЛАНДИИ И ДР.
И СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ О ТОПОНИМАХ
Гумилев Николай Степанович любил Скандинавию. Я, питая объяснимую слабость к его поэзии, уважая его и зная некоторые проявления его геофилии, очень хотел побывать в этом северо-европейском ареале. По жизни у меня так и сложилось – я не только посетил Скандинавские страны, но жил и работал в одной из них, стране двух морей, пятисот островов, ста тысяч лебедей, короче, богатой сказочными сюжетами Дании.
В самый первый раз я там оказался много лет назад на научной стажировке в университете Копенгагена. С познавательных позиций это была самая насыщенная поездка, за время которой удалось и довелось хорошо ознакомиться со столицей и побывать на некоторых отдаленных островах, таких как Самсё и Фюн. Про Гренландию не скажу, не знаю, потому как не сложилось – для ее посещения нужна отдельная виза, а ее у меня не было. Первый из двух названных заслуживает уважения тем, что весь лук и картофель, продаваемые в стране, выращиваются именно на этом острове. Последний тоже заслуживает не меньшего, но в другом, не сельхоз, а культ отношении. На нем находится город Оденсе, место рождения единственного всемирно почитаемого датчанина, сказочника Андерсена. Кроме сказок он был знаменит в узких кругах своей маниакальной боязнью пожаров, что заставляло его в путешествия брать веревку, которую он планировал использовать как лестницу, то есть спускаться по ней в случае возгорания этажей здания, в котором остановился бы. Веревкой, правда, ему воспользоваться не получилось – к счастью. Как неоднократно отмечает Воннегут, это потому что время структурировалось иначе.
Хобби у сказочника было забавное: он любил ножницами вырезать фигурки из цветной бумаги. Также как легенду передают рассказ о его скверном характере: например, он даже на порог не пустил старую мать, когда она приехала к нему, уже увенчанному, в гости. Однако действительно знаменитым Андерсена делают не злые языки с их недобрыми историями, а его сказки, которые он стал писать в очень удачное для них время – в то время, когда не было литературы для детей, и его сочинения оказались как нельзя кстати, а некоторые из них – не все – без преувеличения талантливы. К тому же ему удавалось успешно продвигать свои сказки, вслух читая их в состоятельных домах, в которых родители любили детей. При этом он мог в своих же сказках коварно троллить матрон этих благодетельных семейств, представляя их в роли, например, утки, хранительницы высокой морали птичьего двора в «Гадком утенке». Имя у нее сочное, недвусмысленное. Думаю, досталось ему, Гансу Христиану, когда еще был маленьким и неприметно-неуклюжим, от подобных гусынь и уток в человечьих обликах. Сказочник был не эскапист, а реалист еще тот, не упустил возможности вволю издеваться над сильными в мире, от кого был в зависимости.
Всё же чтут Андерсена, без преувеличений. Чтут как свой культурный код. В нибудь какой другой культуре дали бы кликуху типа «борзый сказкописец» или «фраер-басноплёт», которая бы навеки прилипла как несмываемое пятно, да еще бы бесконечно припоминали, что послужило поводом для написания истории несчастной маленькой русалки. Так вот этого нет. Напротив, Андерсен вездесущ как божество, он – повсюду: на берегу в образе этой самой обитательницы морей, полюбившей сухопутного юношу, в доме-музее, в многочисленных скульптурах. Главная магистраль Копенгагена названа его именем. Одно из самых ярких впечатлений я получил именно на бульваре Г.Х. Андерсена: это широкая улица с дорогой по восемь полос движения в оба направления с хорошим таким, стабильным трафиком. Поразительно видеть, как все эти движущиеся транспортные средства останавливаются, пропуская неспешно переходящего дорогу лебедя, у которого в планах перейти из озера с одной стороны бульвара на другое озеро с другой стороны бульвара. Лебедь – это национальная птица скандинавских стран, во множестве обитает на всех виденных мною водоемах. Каждая представительница и представитель лебединых окольцованы, то есть все они считаны и пересчитаны не один раз. Лебедям живется в королевстве весьма и весьма неплохо, даже совсем хорошо. Человека не боятся. Он их не беспокоит. Да ведь так и должно быть, потому что все мы – люди, звери, птицы, деревья, рыбы – соседи. Скорее всего, это они, а не мы раньше появились на этой планете. Они долгожители, а вот мы понаехали позднее. Или по Гумилеву: «Мы – на чужбине, а они – в отчизне». Поэтому жить надо бы дружно, как это делают те, кто мудрые.
Чтут в Дании не только сказочников, но и историческую память, если сказать возвышенно. Но и без возвышенного это так. Например, они не ломают до фундамента и глубже старые постройки, а ремонтируют их и используют для целей. Так поступили с конюшнями восемнадцатого века, переоборудовав их до состояния современных зданий, в которых разместили некоторые корпуса университета. Если не знать, что этот, на секундочку, секретариат академического учреждения был тремя столетиями ранее конюшнями, то и не догадаться, что в этих стенах располагались стойла с занимавшими их жеребцами и кобылицами.
Неожиданным было увидеть нечто до боли знакомое во дворе соседнего от меня дома, где на улице Вестерброгэде в тот год я снимал жилье. Таким ностальгически-родным показалась мне мемориальная доска с барельефом Ульянова-Ленина, Владимира Ильича, увековечившая память о том, что в 1910 году он проживал в доме номер 112, когда принимал участие в работе VIII конгресса II Интернационала. Помнят ведь, не снимают мемодоску. Это тоже их история, нельзя от нее отказываться.
Интересным для меня было посещение Эльсинора, города в двадцати минутах езды от столицы. Увидев замок, я понял, что Шекспир никогда там не был, иначе он в нем не поселил бы принца Гамлета – замок-то не приспособлен для проживания, ну никак. Это военная крепость. Невозможно представить королевский двор, погрязший в любовных утехах, пороках и политических интригах, куда заезжали бродячие актеры для увеселения монарших особ. Не жили в этом замке никогда. Но вместе с тем, опять же, почитают, ценят то, что Шекспир увековечил. Вот и скульптурную композицию перед замком поставили. Офелия на ней однозначно не в себе – с диспропорционально большим черепом, уже явно безумная. А замок выполнял чисто военно-оборонительные и госпошлинные цели: когда на горизонте появлялось судно, пушки палили, «кораблю пристать велев». Если он шел, не останавливаясь, стреляли на поражение, нафиг. Со всех чужеземных судов взимали плату за право передвижение по датским морским путям.
А эти самые морские пути проходят в той стране повсюду, в том числе через Копенгаген. На одном из столичных островов, называемом Amager (произносить надо ama, что вполне соответствует анекдотичному правилу датского языка, а именно «произноси половину из написанного»), находится гуманитарный факультет университета, куда я был командирован, и на который надо было добираться на автобусе, пока не построили метро. Однажды автобус, в котором я возвращался с факультета, остановился на мосту без каких-либо предупредительных объявлений, и этот мост стали разводить! «Ну, это надолго», – грустно подумалось мне. Ничего подобного! Процедура заняла не более семи минут – мост развели, сухогруз пропустили, мост свели, автобус продолжил маршрут.
На островах находятся не только университетские корпуса, но и другие очаги культуры, например, новое здание оперы, в которую и из которой по окончании спектакля зрителей завозят/вывозят катерами, что удобно, поскольку транспорт подают исключительно к началу и концу представлений. Катера доставляют пассажиров к ближайшим станциям метро, которое было построено относительно недавно, что называется, у меня на глазах. Я был свидетелем строительства и одним из счастливцев, которые спустились на эскалаторе первыми в день открытия станции недалеко от университета. Если откровенно, то метро жителям было не нужно, потому что автобусы работали и работают прекрасно по расписанию как днем, так и ночью – довезут, куда захотите. Хотя им виднее – если построили метро, так уж пусть будет, даже несмотря на национальное пристрастие к велосипедам. Может быть, велоспорт делает скандинавскую нацию такой жизнестойкой. Например, нередко можно видеть, как совсем немолодая лет так восьмидесяти, не меньше, дама при сильном зимнем ветре, что наблюдается часто, с непокрытой головой едет на велосипеде, да еще и курит при этом. Здоровые они, датчане, говорю. Чего уж тут, викинги.
В течение проведенных мною на стажировках двух лет я имел возможность разглядеть и понять скандинавскую культуру. У них, мягко говоря, мало природных ресурсов, но, правда, газ есть, который добывают в Северном море. Скандинавы не комплексуют по поводу недостатка ископаемых и скудости природы – кругом только вода и море, а ни тайги, ни пустынь, ни гор. Гору им заменяет меловой утес. Его показывают – к счастью он еще цел, не развалился, из мела же он, непрочен – как достопримечательность на берегу опять же моря. То есть бедновато у них в природном плане. Именно этот минимализм они сделали национальной философией, манифест которой можно представить в следующем виде. «Да, – как бы говорят они, – у нас нет природных ресурсов, но мы умеем делать эффектно и добротно из того, что есть. Причем делать это на зависть миру. Нам хотят следовать, нам хотят подражать. Мы научились довольствоваться малым, при этом быть одной из самых обеспеченных и счастливых наций. Минимализм – парадоксально, но это так – дает нам возможности. Мы – одноштучны, таких в этом мире больше нет, потому что мы возвели минимализм до уровня философии нашей датской культуры и мировоззрения. Мы умеем использовать его. Нам от него хорошо. Мы гордимся минимализмом». Более того, датчане его экспортируют: вспомним самое известное провокативное сооружение – оперный театр в Сиднее, построенный датским архитектором Йорном Утсоном, безусловно исповедующим философию минимализма – при имеющихся ресурсных возможностях – а точнее, при их отсутствии – он спроектировал и построил здание в стиле «уау!», то есть отпад, если по-русски, восхищающее своими формами весь белый свет и его окрестности.
Проявление философии минимализма можно видеть и в так любимых скандинавами упомянутых велосипедах. Этот вид недорогого транспорта доступен каждому, независимо от достатка, то есть опять же здесь проявляется умение получить максимальный профит в виде перемещения в пространстве с минимальными капвложениями. Со второй стороны, минимализм ведет к другому важному концепту датской культуры – эгалитаризму, нивелированию всех до общесреднего уровня. Например, велосипедом может пользоваться как деклассированный люмпен, так и привратник, следящий за чистотой вашего подъезда, да и министр тоже, живущий в соседнем доме и по утрам на велосипеде отправляющийся на работу в свое министерство иностранных дел, что собственно говоря, можно было наблюдать воочию.
Датский язык со своей стороны немало сделал для укрепления этой философии, потому что все, независимо от возраста, будь тебе десять, тридцать, девяносто девять лет, обращаются друг к другу, используя местоимение du, то есть «ты». Все равны, все одинаковы, нет различий ни по старшинству, ни в социальном отношении, ни по либо какому признаку. Всем говори «ты», и к тебе, как в зеркальном отражении, обратятся на du.
Про эгалитаризм скажу больше: философия распространяется на всех, в том числе на их величества. Я лично видел королеву (в контексте надо бы сказать «имел честь лицезреть»), одним воскресным утром возвращающуюся как обычная гражданка-подданная своей монаршей особы пешком (!) после службы в церкви домой, то есть к себе во дворец, расположенный поблизости.
Про минимализм с эгалитаризмом я понял быстро.
Но не смог понять другого. Конкретно того, как жителям маленькой страны удается жить и работать настолько просторно. Например, в университете каждому (!) преподавателю отведен кабинет. Работники служебных структур ни в коем случае не обделены – вспомогательные менеджеры, секретари, бухгалтеры – все и каждый располагаются в отдельных помещениях. А уж сколько квадратных метров жилплощади приходится на душу, не поддается учету. Распространены ситуации, когда один как перст пенсионер реально не ютится, а по-хозяйски занимает трех-, четырех-, (страшно произнести!) пятикомнатную квартиру в Копенгагене, и еще одну в близлежащей Швеции, чтобы пару дней в неделю быть поближе к детям, проживающим в соседнем королевстве. Пожалуй, такая привычка жить не тесно, а с размахом, на дистанции друг от друга, тоже, наряду с ежедневными велокроссами, помогает датчанам не быть подверженными эпидемиям гриппа, которые в других более пространственно скованных странах как серпом косят население.
Один из источников датского благополучия – налоги, иногда достигающие шестидесяти процентов от заработков трудоспособных граждан. Эти суммы, поступающие в казну, распределяются между теми, кому министерство социального обслуживания, предписывает иметь свою пайку из бюджета страны, типа пенсам. Более того, некоторые культурные мероприятия оказываются заништяк, то есть забесплатно. Например, музеи, которых много, один день в неделю открыты для всех, то есть в эти дни билеты на посещение не требуются, концерты и оперные спектакли, даваемые в консерватории, тоже бесплатны, причем, всегда, как и концерты, исполняемые в церквах, которых тоже много. Кстати, есть и православная церковь Александра Невского, основанная в 1881 году императрицей Марией Федоровной, в девичестве принцессой датской Dagmar (произносится dáuma). Церковь имеет свою театральную студию. Даже цирк может предоставлять свободный вход на некоторые представления. Конечно же, датский язык понаехавшим преподают, как вы догадались, тоже не требуя за это денег.
Приятно удивило меня количество библиотек, что называется, больше чем почти дофига. Их посещают, в них всегда народ, он читает, роется в компьютерных каталогах, сидит на сайтах в библиотечных компьютерах. Короче, однозначно наблюдается интеллектуальный движ – вот народ из университета, вскочив на велик, доехал до библиотеки. Почитал там, поработал. Снова – на велик до консерватории. Там послушал оперу, например, редко исполняемую Tigrane Скарлатти, потом – снова на велосипед, и – домой. Ну, неплохо же. Некоторые мои дни в Копенгагене именно так и строились – время делил между университетом, классной королевской библиотекой, и столь же классной опять же королевской консерваторией. Термин «королевский» означает, что учреждение финансируется частично, иногда в значительной степени, из казны ее величества. Королевскими являются библиотека (не полностью), зоопарк, ветеринарная академия, консерватория. Университет не королевский, а – в нашем понимании – государственный.
Библиотеки, как университетская, так и королевская – скажу я вам, товарищи! – прекрасно оснащены, их фонды предельно укомплектованы. Они считаются самыми богатыми в северном полушарии, уступающими лишь лондонским. Библиотеки шведского Стокгольма (а шведы – это по жизни непримиримые конкуренты датчан, их девятнадцать войн друг с другом вылились в общей сложности в 134 года вооруженных конфликтов) не так хороши. По своим книжным фондам лидирует Копенгаген.
Ну, и конечно, страна уже давно сильно компьютеризирована. Что называется, все с рождения по уши в гаджетах.
Интересна все же культура других. С одной стороны, скандинавы спортивны, начитанны, образованны – только что рассказывал про их библиотеки, музеи и концерты, – вежливы, «за базаром следят». Даже уличные мальчишки хулиганистого вида на остановке транспорта могут сказать, причем по-английски, «Извините, подвиньтесь, пожалуйста, я хочу сесть». С другой стороны, надо сказать, слишком рано взрослеют, не с позитивного, а с негативного края, перенимая как заразное заболевание порочные привычки взрослых, потому что им очень уж хочется казаться крутыми. Например, этот одиннадцати-, двенадцатилетний подросток, вежливо попросивший дать ему место, садится на скамейку, привычным жестом достает сигарету и закуривает, предоставляя окружающим его взрослым возможность в недоумении переглядываться. А что – свободная страна, у подростка есть свое мнение и своя позиция, а замечания запрещены даже в школе, не говоря уж про автобусную остановку.
Да, они как бы вежливые, повсюду слышишь «извините», «пожалуйста», «пройдите», в том числе в транспорте. Но вот прямо в чисто шоковое состояние приходишь, когда становишься свидетелем ситуации, при которой стоящая на площадке женщина вдруг падает от резкого движения автобуса, а молодой мужик рядом, улыбаясь, смотрит и даже не пытается или хотя бы делает вид, что хочет помочь ей встать. Объяснение аналогичное – а, собственно, что такого? Все одинаковы, у нас нет слабых и сильных. Ты упала, ты не инвалид, будь добра поднимись сама, ничего особенного, любой может оказаться на твоем месте.
Я неоднократно пользовался возможностью получать финансируемые стажировки. Как-то раз по возвращении из одной из таких поездок коллега-профессор произнес, думаю, завистливо-риторически, поскольку ответа от меня он не ждал и к этой теме никогда больше не возвращался: «Зачем нужны эти стажировки?!». Может быть, для него они действительно были бы ни к чему не приводящей затеей и тратой времени – языка-то он не знал, и как бы он оформлял документы, как бы общался, если бы оказался там, на пребывании в поездке? А мне они были нужны очень. Только на стажировках в то время я и мог писать. Результатом всегда были учебники, монографии, статьи – во множестве. Работая в университете по двадцать шесть часов аудиторных занятий в неделю, я не мог реально сесть и полноценно писать. А писать мне нравилось и нравится. Стажировки мне в этом помогали и спасали – кроме чисто любви к написанию научных сочинений я должен был ежегодно отчитываться о проделанной работе, которая есть не что иное, как научно-письменная продукция, то бишь описание проведенных в периоде исследований.
Зарубеж был интересен и с научно-контактной точки, поскольку находясь заграницей в университете, приходилось общаться, и таким образом завязывались контакты, нужные и полезные для тех, кто работает. У них очень распространено «внутреннее» пре-принтное рецензирование, когда автор просит своих коллег прочитать написанную им статью и высказать свои замечания до того как она будет опубликована. Это хорошо для готовящейся статьи, поскольку неавторское критическое чтение помогает выявить неопределенные моменты и сделать их четче либо убрать совсем. Это уж как пожелает автор. Университетские коллеги в Копенгагене охотно и много пользовались тем, что у них на несколько месяцев появлялся стажер из России. Меня часто просили читать рукописи, что я делал безотказно. Более того, в одно из своих посещений я по просьбе автора взялся сделать корректуру английского варианта монографии, которую этот автор готовил для издания за океаном. Через год, во время следующей стажировки я получил уже вышедший с моей правкой экземпляр книги, подписанный так: With warmest thanks for dedicated work from your friend, the author, что в переводе на наш язык выглядит буквально: «С самой теплой благодарностью за преданную работу от твоего друга, автора». Автор-друг этим не ограничился, видно, реально понравилось, как я работаю. Он попросил написать и опубликовать в моей стране рецензию на эту книгу. Опять же я не отказал. Как результат я стал единственным в мире человеком, тщательно прочитавшим эту монографию дважды – первый раз, когда вносил корректуру, второй – когда рецензировал. Рецензию написал. Постарался, чтобы ее опубликовали в солиднейшем российском академическом журнале. Автор остался доволен, потому как, по его словам, такого детального анализа (все-таки рецензия была в шесть страниц текста!) его рецензенты никогда раньше не делали.
Сравнение с Данией других стран, в которых мне пришлось относительно долго жить и работать, не в их пользу. Если взять библиотеки ирландского Дублина – так это конкретный отстой. Книги по моей специальности у них поместились на одной библиотечной полке. К тому же, бóльшая их часть мне была известна по работе в копенгагенских читальных залах. Конечно, было разочарование, потому что я ожидал ну хотя бы то, что видел в Скандинавии. Я думал, что стажировка в Ирландии мне запомнится так же, как моему датскому коллеге Карстену Дитструпу, побывавшему в Дублине за годы до меня, и оставшемуся довольным. Чего ни коснись – все плохо в сравнении. Размещение стажеров по квартирам не организовано, университетские помещения давно, очень давно ждут ремонта или хотя бы уборки, из общественного транспорта – в наличии лишь автобусы, работающие еле как, квартира, которую мне удалось самому найти, вы не представляете, насколько непригодна для проживания своей перенаселенностью и антисанитарией. То есть режим с гигиеной нарушать приходилось на каждом шагу – иначе не выживешь. Хорошо, что все дублинские музеи бесплатные. Посещение этих очагов да еще пару раз театра и музыкальной академии – было единственным отверстием в культурную жизнь на ирландском острове.

