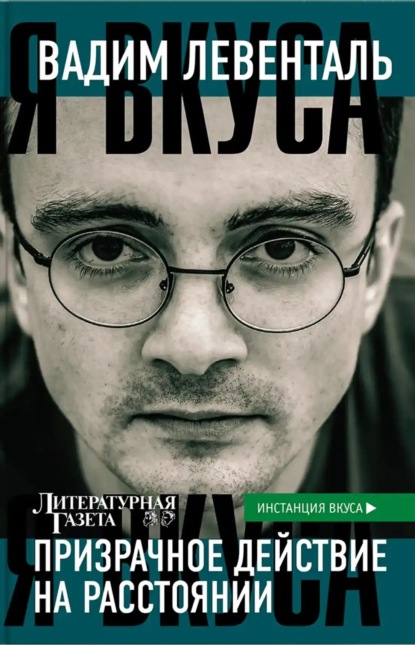
Полная версия:
Призрачное действие на расстоянии
В тридцать лет, как раз когда началась война, Виктор Некрасов мог бы повторить вслед за Цезарем: «мне уже тридцать, а я до сих пор не совершил ничего достопамятного!». Архитектор, артист, писатель – и вместе с тем ни то, ни другое, ни третье.
При этом, если верить тетке (ей, впрочем, с осторожностью нужно верить: в письмах и воспоминаниях она производит впечатление человека, склонного преувеличивать сваливающиеся ему на голову несчастья), юноша вел сибаритский образ жизни, перекладывая заботы и о хозяйстве, и о средствах к существованию на мать с бабушкой. Вот только один штрих: «Сидит Вика, развалившись со своими приятелями на прекрасных бабушкиных креслах, разглагольствует о театре, а мама бегает из далекой кухни и приносит им отбивные котлеты. А они даже не пошевелятся, чтоб тарелки на кухню отнести».
И вовсе не противоречит этому образу то, что в 1941 году Некрасов, обманув комиссию (была бронь, но он скрыл это), записывается добровольцем в действующую армию. Отец был разночинцем, но отца он почти не знал, воспитывали его Мотовиловы, и не дело аристократа работать, дело аристократа – разглагольствовать о театре, пока нет войны, и подставить сердце под пули, как только она начнется.
И кстати. Почему не лагерь? Если уж не сам молодой Некрасов, то его мать и тетка имели все шансы получить билет в Сибирь: происхождение их было известно (врач, зашедший к приболевшей матери, прежде всего интересуется деревенькой под Киевом: «Мотовиловка была ваша?»), что третья сестра живет в Швейцарии, не скрывали, более того, вели активную переписку. В партию не вступали, от дальних командировок отказывались, даже когда альтернативой было увольнение. Конечно, в Киеве все было не настолько страшно по сравнению с Москвой и Ленинградом. И все-таки едва ли только это. Версия самого Некрасова, высказанная уже в эмиграции, – что самоотверженного врача Зинаиду Николаевну полюбили подселенные к ним в квартиру чекисты (уплотнили: из шести комнат на троих оставили две). Софья Николаевна, однако, писала о чекистах без умиления: ходят босые, воняют махоркой, подворовывают дрова… Могли ли отношения таких соседей по коммуналке – одни говорят по-французски, другие «шлындрают» по коридорам «с видом полотеров» – быть такими уж безоблачными? Или архитектор-театрал, сидя в комнате, просто не замечал, что происходит в коридоре и на кухне? Та же Софья Николаевна в «швейцарских» письмах намекала на «заслуги перед революцией» – хотя мало ли и тех, у кого такие заслуги были, уехали-таки по этапу? Словом, здесь есть над чем поработать биографу; пока в качестве рабочей версии можно принять то, что семье просто повезло.
Квартирный вопрос решится сам собой после войны. Лауреату Сталинской премии, заместителю председателя Союза украинских писателей, члену ВКП(б) выделят двухкомнатную квартиру на Крещатике. Предлагали четырехкомнатную – отказался: если верить тетке, потому, будто бы, что боялся бездомных друзей, которые у него поселятся. Поселились, однако, все равно – квартира на Крещатике стала настоящим открытым домом, в котором гости жили годами, одеваясь в одежду хозяина и обедая за его столом. Некрасов – и тут тетке нет оснований не верить, слишком уж много свидетельств – был до абсурдного равнодушен к быту, хозяйству и деньгам. Чего стоит владивостокский эпизод 1938 года: Некрасов зарабатывает там фантастические деньги, тетка просит его прислать побольше, но он все тратит на разведенную актрису, а в Киев отправляет коробку шампанского, причем бутылки бьются по дороге. Ясно, что свалившееся после «Окопов» богатство такое сказочное небрежение вещной стороной жизни могло только усугубить.
Мот, сибарит, гедонист, балетоман. Работать ему пришлось только в эмиграции – на радио «Свобода» и в журнале «Континент», да даже и это были скорее синекуры.
Одна из центральных тем всей эмигрантской автобиографической прозы Некрасова – оправдание за членство в партии. Вступил в 1944 году после Сталинграда на волне патриотизма: партия и народный дух как-то слились в сознании. Многие и многие страницы посвящены партийным трениям: как не «мочил» кого надо на собраниях, как отказывался пугаться, когда пугали, как три раза исключали и все-таки исключили. Едва ли Некрасов тут кривит душой: убежденным коммунистом, да, он очевидно никогда не был, но не был и конъюнктурщиком, не то вступил бы куда раньше. И тому, что «партийный» порыв был в действительности инобытием проникнутости народным духом, лучшее подтверждение – «В окопах Сталинграда», в идеологической своей грани сплошь «толстовский» текст. Невооруженным глазом видно, что некрасовские герои – потомки Каратаевых и Тушиных.
Толстого – полюбил как раз перед войной. И тогда же – Хемингуэя. До культа «старика Хэма» в среде советской интеллигенции еще двадцать лет, но Некрасов читал изданные мизерными тиражами рассказы, «Фиесту», «Прощай, оружие» и «Иметь и не иметь» еще в тридцатых. И тщательно перечитал в 1945–1946 годах. (Некрасов жил, читал и писал в квартире у друзей; «маленькая дочка хозяйки Ирка, когда я садился в свое кресло, строго говорила: “А теперь тишина, дядя Вика сел за своего Хемингуэя…”») – трудно не заметить этого по «Окопам».
Говоря о бешеном читательском успехе, нельзя, конечно, не иметь в виду того, что Ремарк и Хемингуэй в первое послевоенное десятилетие советскому читателю были почти не известны, но ошибется тот, кто назовет Некрасова эпигоном великого американца: дело как раз в том, что повесть «В окопах Сталинграда» представляет собой с точки зрения истории влияний невиданную смесь Хемингуэя и Толстого. Рубленая фраза, элементарный синтаксис и такой же словарь (повесть можно включить в любую хрестоматию для изучения русского как иностранного) и полное отсутствие хемингуэевского романтического, один на один с бурей, героя; герой, как у Толстого, – народ, народный дух.
И конечно, успех – дело не только самого по себе писательского мастерства, хотя, да, «Окопы» – прежде всего литература: сделанная, мастерская вещь, masterpiece. Повесть читали и читают – даже сейчас трудно найти хоть сколько-нибудь читающего человека, который бы ее не читал (и не перечитывал; подтверждением тому – это вот переиздание), – а фронтовики прочли ее как книгу о себе (Некрасов получал множество писем: и у нас, мол, в полку был такой Валега/Ширяев/Карнаухов) потому, что «Окопы Сталиниграда» впервые предъявили то, что выхолощенным языком школьного литературоведения будет потом называться «окопной правдой».
Вопрос об этой правде – особый. Она жестока и неприглядна в сравнении с официозными генеральскими воспоминаниями, романами вроде симоновских «Живых и мертвых» или «Блокадой» Чаковского. «Окопы Сталинграда» – это грязь, неустроенность, намеки на воровство, мелкий ежедневный военный быт, интонация своего в доску парня, никаких симоновских «утром такого-то числа уцелевший после трехдневных боев личный состав бригады сняли с фронта и перенаправили туда-то». Коротко говоря, эту повесть невозможно представить себе прочитанной голосом Левитана.
И все-таки. Перед нами искусство, и в этом смысле Шкловский не устарел: «окопная правда» – это прежде всего литературный прием. Достаточно прочитать «Воспоминания о войне» Николая Никулина – текст, который писался в шестидесятые «в стол» и оказался опубликован только в начале двухтысячных, – чтобы убедиться: война, описанная Некрасовым, была в сравнении с реальностью едва ли не веселой, хотя и сопряженной с некоторыми трудностями прогулкой. Герои Некрасова во время атаки падают лицом в холодную снежную слякоть – неприятно, что и говорить. Никулин вспоминает, как во время одной из атак упал на труп только что убитой женщины-снайпера: «С шипением выдавливается сквозь сжатые зубы воздух, а из ноздрей вздуваются кровавые пузыри…». Некрасов пару раз упоминает каски на головах у солдат. А вот Никулин: «В каску обычно гадим, затем выбрасываем ее за бруствер траншеи, а взрывная волна швыряет все обратно, нам на головы…». Один из сюжетов Некрасова – безответственный приказ капитана Абросимова: хотел как лучше, а получилось, что только угробил людей, его потом судят и – в штрафбат. Никулин свидетельствует, что командиры, бережно относящиеся к личному составу, вообще не задерживались в армии. Читателю этой книги важно помнить, что на самом деле война – несоизмеримо более грязное и подлое дело, нежели она тут изображена.
Значит ли это, что Некрасов сознательно приукрашивал войну, зная, что в противном случае повесть не напечатают? Что партии и правительству не нужна была настоящая правда о войне, и поэтому был заказ на лакировку? Все не так просто. Тексты, подобные никулинским, в стране-победительнице напечатаны быть не могли – это ясно. Однако момент приукрашивания войны – не политический, а психологический. Любой, кто успел порасспрашивать ветеранов о войне, знает, что самое жуткое и самое неприглядное ты от ветерана никогда не услышишь. Не потому, что вспоминающий врет, а потому, что так устроен механизм памяти: настоящий ад, ад, от которого дыбом встают волосы на голове, вытесняется, замещается другим – ужасным, конечно, но таким, с которым можно еще жить и не сходить с ума.
Поэтому – да, приукрашивание, но приукрашивание искреннее, Некрасов рисует войну именно такой, какой ее помнили (напрашивается: хотели помнить – но, опять же, речь не о сознательном решении, что помнить, а что нет, речь о том, что и впрямь помнили именно такой) все фронтовики. И именно отсюда – эффект узнавания: это про нас, это наша «окопная правда».
Некрасов начал войну в 1941 году, участвовал в Харьковском наступлении и в Сталинградской битве, закончил – в Польше в 1945-м, три раза был ранен, награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Он был настоящим фронтовиком – не газетным журналистом, которых в армии ненавидели. Что выжил – повезло.
Через много лет, уже в Париже, любил вспоминать, как одному литературно-партийному начальнику в его кабинете в Москве кричал, стуча кулаком по столу: «Я немцев в Сталинграде не боялся, так вас уж подавно!» Он был не робкого десятка – душа компании, человек, которого до старости называли Вика. Киевская городская легенда гласит, что (это уже в застойные годы, но все-таки) он выпивши мог выйти на Крещатик и во весь голос ругать советскую власть – не трогали: луареат.
С войны Некрасов вернулся изменившимся. Стал груб, обмужичился, начал ругаться (ругаться? – говорить!) матом. На войне он научился пить водку, и, насколько можно судить, это не штрих к биографии, это – лейтмотив второй половины жизни. В этом смысле Некрасов разделил судьбу всей советской интеллигенции (да и не только интеллигенции) второй половины века: поллитре, распитой напополам со случайным собутыльником во дворике под луковицу или бутербродик с кусочком помидора, посвящены, быть может, самые трогательные страницы парижских книг.
Он попробовал еще поступить в аспирантуру – не взяли. Поработал неполных два года в газете «Советское искусство» – бросил. Первые послевоенные годы – пик официальной карьеры Некрасова: он возглавляет комитеты, председательствует на заседаниях, без конца мотается то в Москву на съезды, то в Ялту отдыхать. И ничего не пишет – почти десять лет. На каком-то литературном вечере читатель спрашивает: можно ли считать писателем того, кто написал только одну книгу? За Некрасова отвечает коллега: «Зависит от того, что он написал. Грибоедов, например, написал “Горе от ума”. Он – писатель!»
Прав ли был Александров насчет лагеря и второй правдивой книги, нет ли – бог весть. Несомненно другое: Некрасов на всю жизнь сохранил в своем сердце мальчишку, мечтающего быть солдатом, тореадором, машинистом, капитаном корабля. И этому мальчишке было скучно. На заседаниях и в президиумах, в писательских поездках и в редакциях – до тех пор, по крайней мере, пока не доставали бутылку, – скучно, бесконечно скучно.
И какой мальчишка не мечтает о путешествиях? Некрасов рвется – в Китай (не пустили), во Францию (всего на пару дней), в Италию (не в составе даже делегации, так, при ней туристом), в США, и снова в Италию. Многомесячные эпопеи: пустят, не пустят. В последний день парижской поездки Некрасов, бродя бесцельно по городу, на пределе серьезности думает, не зайти ли в полицию: так и так, хочу остаться, не хочу обратно в СССР.
Он станет парижанином и умрет в том же городе, где впервые заговорил. Но прежде чем он решится эмигрировать, его два раза попытаются исключить из партии, на третий все-таки исключат, умрет мать, за ним установят слежку и в квартире проведут унизительный обыск. В 1963 году на Некрасова два раза обрушится с критикой Хрущев – за путевые очерки о Франции и Штатах «По обе стороны океана». Некрасов будет оправдываться: да, мол, не уделил достаточно внимания классовому вопросу. В 1969-м – партийный гнев вызовет его подпись под коллективным письмом в защиту Вячеслава Черновола. Некрасов откажется снять подпись, но писательское собрание проголосует все-таки за ерундовый «выговор без занесения». Наконец, в 1971-м – исключат уже без формального повода, «за то, – как сказано в протоколе, – что позволяет себе иметь собственное мнение». В 1974-м он подаст документы на выезд в Швейцарию – повидать дядю, – и сядет на самолет до Лозанны.
В секретном письме секретаря ЦК Компартии Украины в Москву будет написано, что «по имеющимся данным, Некрасов намерен использовать поездку за границу с целью невозвращения на Родину». И еще: «Учитывая, что Некрасов является морально разложившейся личностью и по своим возможностям вряд ли сможет за границей играть заметную роль в антисоветской эмиграции, <…> представляется целесообразным не препятствовать ему и его жене в поездке в Швейцарию».
Морально разложившийся, квартиру превратил в место сионистских сборищ, как писатель работает непродуктивно, ведет себя вызывающе, полностью встал на враждебные нашему строю позиции, страдает алкоголизмом. Ну, положим, «морально разложившийся» – это оценочное суждение. Но со всем остальным не поспоришь.
Про «испитое лицо» пишет тетка. А сам Некрасов рассказывает такой эпизод – имеющий, кстати, прямое отношение к «Окопам». Ординарец Валега и впрямь у Некрасова был – не в Сталинграде, правда, позже, – они вместе прошли от Западной Украины до Польши, пока в Люблине Некрасова не ранила шальная пуля. В 1966 году Валега своего командира нашел и приехал в Киев повидаться. Некрасов на радостях перепутал поезд, приехал на вокзал раньше и за час в буфете успел напиться до того, что жена Валеги, лишь завидев писателя, схватила мужа и увезла его в Белую Церковь.
Все та же тетка (до 1974 года, правда, не дожившая) согласилась бы с секретарем партии и по поводу сионистских сборищ: «Друзья-то у него все евреи, акцент – еврейский»; эта тема в ее письмах в Лозанну – одна из центральных. Великая заслуга Некрасова – защита памяти о Бабьем Яре, который власти собирались засыпать и сделать на его месте увеселительный парк. В 1959-м Некрасов напечатал в «Литературной газете» статью с призывом установить памятник жертвам трагедии. В 1966-м выступил на стихийном митинге и был обвинен в его организации. И все-таки во многом благодаря именно Некрасову память о Бабьем Яре удалось отстоять.
О «враждебных нашему строю позициях» Некрасов вволю расскажет уже в Париже – десятками страниц будет писать о преимуществах капитализма перед социализмом. Ничего не понимая при этом в экономике, ну так это так будет с абсолютным большинством советских диссидентов – и внутри СССР, и снаружи.
Виктор Платонович Некрасов (1911, Киев – 1987, Париж; умер от рака легких как старый курильщик) прожил, в сущности, не свою жизнь – жизнь, которой иной позавидовал бы, – но мальчик, зачитывавшийся Жюлем Верном, мальчик, который и на старости лет больше всего любил корриду и магазины игрушек, этот мальчик – правильная советская карьера была не для него. Ему нужны были война, опасности, путешествия, риск. В другие времена и в других обстоятельствах он был бы пиратом, конкистадором, ландскнехтом. На полную катушку, так, как мечталось мальчику, он жил только однажды – с 1941 по 1945 год. И, набрав полные легкие этого головокружительного воздуха, на одном дыхании написал лучшую повесть о Второй мировой войне. «В окопах Сталинграда».
Дилемма заключенного
Если вообще есть история как логичная последовательность событий, существующих по способу следования одно из другого, то применительно к себе я могу рассказать такую историю, начиная с седьмого класса. Все что было до того – тающие на языке снежинки: я помню их вкус, но снежок из них не слепишь.
Вот мы выходим с мамой из парадной на улице Скороходова (позже я узнаю, что в этом же доме недолгое время жил Блок); моя рука высоко задрана: ее держит мамина; только что прошел дождь, и мостовая кишит выползшими из газонов червями. То есть буквально – некуда ступить; и не надо мне говорить, что так не бывает, в моей памяти – именно так.
Помню полукруглую лестницу из нежнейшего мрамора в занявшей старинный особняк детской поликлинике, в которую мы ездили на трамвае с бабушкой, – и мгновенно узнал ее, как только в первый раз привел в эту же поликлинику своего сына; он все не мог понять, почему я чуть не плачу, глядя на нее: какая же она красивая, ты только посмотри, какая она красивая.
Но бог с ними с детскими секретиками; их вообще посторонним не показывают: случись человек недобрый, надави на стеклышко носком ботинка – и тогда прости-прощай волшебное нутряное свечение; нет, нет, не дам.
Вот вам вещи попроще: август девяносто первого. Бабушка выкручивает ручку приемника; мы на даче, в Сиверской, танки движутся по дороге совсем недалеко от нас; я сочувствую бабушке, а бабушка недовольна Ельциным (что ж тебе все неймется-то); впрочем, мое сочувствие скорее формальное. По-настоящему слезами я заливался в прошлом августе, когда разбился Цой, а победа демократии для меня – абстракция не конкретнее учебниковых пунктов А и Б, между которыми вечно движется безликий поезд (в огне, ага).
Зато конец проклятого совка изрядно вдохновляет моих родителей – по крайней мере точно маму; папа, кажется, на эту тему высказывается мало, тем более что ему пришлось уйти из НИИ, в котором он работал, и распрощаться с мечтами об аспирантуре. Папа – инженер; мама – журналист; мы были обыкновенной преуспевающей советской семьей, с дедушкой-полковником и дедушкой – ведущим инженером в «почтовом ящике», не было никаких проблем с едой, у меня была тьма ярких замечательных игрушек, книжек, и нам только что дали квартиру, пусть на окраине города, зато двухкомнатную. Но в свободном мире все делают бизнес, и мама мечтает о бизнесе – так что теперь у нас семейный бизнес, и вместо того чтобы учиться, играть и заводить друзей – я торгую. Сначала я торгую книгами с раскладного столика во дворах Капеллы (и вожу их с рынка в ДК Крупской), а потом и газетами в переходах метро.
К счастью, мои родители – воспитанные советские люди, а не злобные ящеры, которые готовы убивать и, по Гегелю, в любой момент быть убитыми, поэтому сделать бизнес в девяностые у них нет, разумеется, ни единого шанса. Как, впрочем, и устроиться на работу, на которой платили бы деньги. Поэтому у нас на столе чаще всего пустые расплывшиеся макароны (сварить их нормально невозможно: они наполовину из крахмала); покупка новых ботинок – это событие года, которое обсуждается всеми родственниками несколько месяцев до и после; на день рождения я мечтаю о шоколадном яйце: любая другая мечта была бы бессмысленно дерзкой; маме и папе тотально не до меня, и семья, как это часто бывает с семьями, оказавшимися в беспросветной нищете, распадается.
В школе я – очкарик; дети, как им и полагается, воспроизводят в миниатюре мир взрослых, а в этом мире очкарики – самые презираемые люди на свете. Мне, стало быть, лет примерно тринадцать, и, насколько я помню, нет ни дня, чтобы я не думал о самоубийстве, во всяком случае куда чаще, чем об этом думают в среднестатистическом пубертате. Для меня очевидно, что само мое появление в этом мире не более чем ошибка: я, такой какой я есть, должен был появиться не в этом – лишенном света, благородства, добра и справедливости – мире, а в каком-то другом. В Средиземье.
Книга про Кольцо всевластья и связанные с ним проблемы стала для меня чудесным порталом – такой рисовал на стене своей одиночной камеры герой другой саги, про волшебный янтарный мир, чтобы сбежать из тюрьмы, – я начинал читать ее снова, едва закончив, и так шестнадцать раз подряд. Ничего хорошего в этом, разумеется, не было. Но, с другой стороны, не исключено, что темно-коричневый четырехтомник в переводе Каменкович и Каррика в буквальном смысле спас мне жизнь.
Книги, прежде всего фантастические книги, стали для меня способом побега от действительности – именно с этой формулировкой детей ругали и по поводу детей сокрушались взрослые. Но хотел бы я посмотреть на детей, которые не хотели бы сбежать из той действительности, которую эти взрослые им устроили. Дело, конечно, было не в том, чтобы сбежать на время чтения: пока читаешь, тебя нет, а закрыл книжку, и ты снова здесь – нет, какой же это побег. Сбежать нужно было радикально, навсегда. Поэтому я стал как бы читать даже с закрытой книгой. Так что литература, если уж выпал случай говорить о ней, прямо показывая на нее пальцем, с самого начала была для меня не развлечением и не просвещением, а побегом.
Дилеммой заключенного назвается в теории игр простейшая игра, в которой двое заключенных могут отсидеть по полгода, но сидят в результате по шесть лет. Дилемма состоит в том, что ты можешь молчать, но тогда подельнику будет выгоднее сдать тебя, а можешь сдать подельника, но тогда лишишься и призрачного шанса на скорое освобождение.
У меня была своя дилемма: то ли учиться жить жизнью тюрьмы, выучивая ее законы и встраиваясь в ее структуры, то ли совершить иллюзорный побег внутрь самого себя. Я выбрал последнее, и не я один – ведь по условиям задачи переговоры между заключенными запрещены.
Для многих билетом на самолет стали наркотики (с серебристым крылом, ну да). Оказываясь на кладбищах, я часто обращаю внимание на эти могилы (1980–1994, 1979–1995, 1981–1996, 1980–1995…) и думаю о том, что в такой же мог бы лежать и я – только у меня не было друзей, и мне негде было взять.
Книги и литературное, кхм, творчество были путем маргинальным, прежде всего потому что крайне ненадежным. Нет, то есть мама отвела меня в ЛИТО, в которое когда-то ходила сама, и там несколько мальчиков и девочек раз в неделю недолго чувствовали себя почти в безопасности – но все остальное время мир отчаянно хватал тебя за грудки, тряс из стороны в сторону и орал на тебя ты че сука умный нашелся ща получишь ты уроки сделал вот наказание а не ребенок почему ты у доски не можешь стоять как человек. Нужно было что-то сделать, куда-то забиться, прибиться куда-то, где будет не так страшно. И вот в седьмом классе я принял первое в жизни решение, решение, с которого моя личная история началась, – я решил, что перейду в другую школу.
Так получилось, что этой школой оказалась физико-математическая (та самая на Васильевском острове, для тех кто понимает). Надо мной смеялись: с тройкой по математике, а туда же. Задача была из разряда невозможных: за полгода нужно было с нуля научиться решать конкурсные задачи; конкурс был примерно двадцать человек на место. И тем не менее весной я сдал экзамен и стал учеником одной из лучших школ страны; и если вам показалось, что это похоже на какую-то историю из книжки, то так оно и есть (ср. Мюнгхаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота).
Оказалось – уже за эти полгода я понял, – что математика помогает сбежать не хуже книжек. Небо математических абстракций не описано Данте, но в нерелигиозной картине мира оно, безусловно, идет под номером десять: весь остальной мир – лишь эманация Числа, что движет солнце и светила. Улетая в это небо, напрочь исчезаешь из реальности; мало того, от тебя еще и отстают взрослые: не трогай его, не видишь, занимается.
На остатках рухнувшей страны шла гражданская война, по телевизору каждый день показывали пьяного президента и сразу вслед за ним – разными энергиями заряжающего воду экстрасенса, в Москве из танков расстреляли Парламент, культурная элита нации призывала к дальнейшей деконструкции родины, в Чечне сравняли с землей Грозный, сокрушительный дефолт вверг народ в нищету, и так несколько раз подряд в течение нескольких лет, по серому, полуразвалившемуся, грязному и вонючему Петербургу уныло брели толпы уставших, плохо одетых и плохо питающихся людей с пустыми от тоски глазами, а еще катались осоловевшие от безнаказанности банды человекоподобных рептилий – для внутренней жизни моей души все это происходило как бы одновременно, и мне еще предстоит совершить усилие, чтобы пробиться к истории, – смотреть на все это нормальному человеку и не сойти с ума было невозможно; я и не смотрел. Я был совершенно в другом месте – там, где одно утверждение бесспорно доказывалось с помощью другого, заранее доказанного, и бесконечные, то есть по крайней мере в одну сторону бесконечные ряды этих бесспорно истинных утверждений разрастались, переплетались и уходили в такую головокружительную высь, что сердце заходилось от восторга при виде этой торжественной архитектуры истин.

