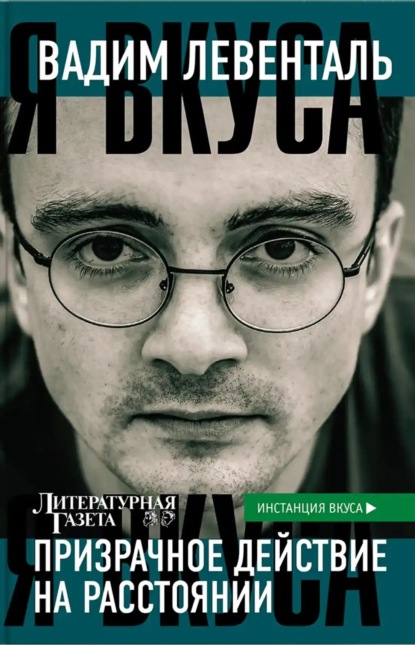
Полная версия:
Призрачное действие на расстоянии
Карамзин, который, вернувшись домой, возьмет перо, чтобы записать первые в истории слова русской прозы, сделает это только потому, что он к этому долго готовился и вот теперь наконец готов.
Он несколько лет готовился к этому в Москве – обдумывал будущее путешествие, планировал, к кому из великих современников напросится на разговор – Кант, Виланд, Лафатер, Гердер и еще с десяток других, сплошь первые величины, – изучал все доступные их труды – так, как сейчас к интервью готовится умный и совестливый журналист (таких на самом деле больше нет, но как если бы). Изучал древнюю и новую историю, историю искусств, литературу – Европа, в которую он поехал, не была для него пятном на загадочной гномьей карте, землей эльфов и драконов, напротив, он знал там каждый камень: в «Письмах» он вздыхает и умиляется – могилам, замкам, соборам, – но если бы это было нужно, вместо каждого вздоха он мог бы прочитать лекцию (учитесь, детишки, делать качественные селфи).
Само по себе путешествие было не чем иным как подготовкой к книге – архив Карамзина сгорит в московском пожаре 1812 года, но нет сомнений в том, что из Европы он вернулся с целым багажом выписок и вырезок, записей и набросков, конспектов и заметок, книг, листков и газет – так энтомолог отправляется в экспедицию, чтобы, вернувшись с рюкзаком материала – без разбору набранных бабочек, жуков и скорпионов, – всю снежную русскую зиму под треск камина работать с ним: сортировать, определять, расправлять.
Именно этим, почти научным способом – сознательным кропотливым деланием, смирением и ученичеством, – и был вызван в пределы ойкумены русский гений, которому почему-то нравится притворяться ветерком, случайно залетевшим в кудрявую голову поэта. Представление о фундаментальности немецкого (aka нерусского) способа производства культурного контента и, по сравнению с ним, о поездке русской истории культуры на иван-дурацкой печке есть не что иное как кокетство, если вообще не саботаж – на самом деле никакого другого способа производить культуру, кроме фундаментального, не существует.
В произведениях своей фантазии, прозе и стихах, Карамзин предстает чувствительным, сентиментальным, рассеянным, мечтательным и даже жеманным – это мимими было принято, как сейчас принято делать вид, будто ты пацан с района: литературная условность, не более (впрочем, в случае с Карамзиным, он эту моду первым же и завел, точнее, завез), – но внутри своей мастерской Карамзин был похож скорее на неутомимого гнома, днюющего и ночующего у наковальни. В 1792 году вышло десять номеров «Московского журнала» – и абсолютное большинство материалов, под какими бы псевдонимами они ни были напечатаны, написаны были им самим.
Для того чтобы создать национальную литературу – пусть не из ничего, но все же задача была сродни индустриализации аграрного хозяйства, – мало написать одну-единственную, пусть самую хорошую, книгу. Нужно было создать профессии, жанры, разработать технологии, экономические схемы, более того – нужно было создать читателя. «Сотворение Карамзина» называется книга Лотмана – про то, как Карамзин сам себя создал, – и это чертовски верно; но попутно Карамзин, подобно грозному танцующему Шиве, создал саму инфраструктуру русской литературы.
Карамзин над гранками, Карамзин с корректурой, Карамзин, расплачивающийся с типографией, Карамзин, собирающий деньги за подписку, Карамзин – логист (каждый номер нужно еще доставить до подписчика) – это далеко не все технические детали-подробности, но и на каждую из этих позиций сейчас берут отдельного специалиста.
Обнаружив выплывшую из тысячелетнего диглоссийного тумана громаду живого русского языка, Карамзин не привалился к склону курить трубочку, но, деловито засучив рукава, вгрызся в скалу и многие годы прорубал шурфы, штольни и штреки, проводил освещение, отыскивал самородные жилы – он стал первым Королем-под-Горой. Пусть найденные им образцы были невелики и мутноваты – как «Бедная Лиза», прообраз любого русского романа, – но опытный геологоразведчик угадал бы (не веря еще своим глазам) в глубине этой извилистой жилы кристалл из кристаллов и славу королевства, толстовскую «Анну Каренину».
Историческая повесть, приключенческая новелла, театральная и литературная критика, политическая публицистика, школа русского перевода – Карамзин везде лишь снял верхний слой с укрывающей несметные богатства породы – но идущие за ним, рослее и талантливее его, уже знали, где копать.
Разведовательные работы, произведенные Карамзиным, настолько велики, что даже сейчас еще можно указать на направления, над которыми после него почти не работали, – я имею в виду «Остров Борнгольм», первую русскую готику; разве что Погорельский и Брюсов помахали здесь немного кирками, а значит, тут, где страх (триллер) и ужас (хоррор), еще есть раздолье русскому По, русскому Майринку, русскому Стивену Кингу наконец.
Всего этого было мало: Карамзин создал даже русского читателя – массового читателя художественной литературы, – он воспитал его, делая вид, будто он, этот образованный читатель, уже существует – именно так хороший родитель воспитывает ребенка. (Конечно, как ответственный демиург Карамзин не мог оставить читателя в одиночестве и создал ему в пару Еву-читательницу, опубликовав от женского имени несколько изящных отрывков, из которых становилось ясно, что женщина тоже может судить о литературе.)
Ясно, что когда Карамзин к тому же опубликовал сообщение о находке списка «Слова о полку Игореве», многие решили, что он же его и написал, – в конце концов, если этот человек создал все, так почему бы ему не создать и древнерусскую словесность тоже?
Карамзин основал русскую литературу так, как основывают тысячелетнее царство – вдумчиво, ухватисто, домовито, – но, запустив все двигатели громадной машины, он не захотел остаться при своем творении почивающим на лаврах владыкой и, оставив все права наследования арзамасцам (хорошо, было кому, и со спокойной совестью, оставить, один Жуковский чего стоил), отправился открывать, по слову Пушкина, как Колумб – Америку, русскую историю.
Карамзин совершил путешествие, в результате которого родилась современная русская литература, это был путь туда, в Европу, и обратно, к себе – обе части формулы тут важны одинаково: русская литература, безусловно, была основана по европейскому образцу, с использованием европейских технологий, и именно европейскую литературу она должна была догнать и перегнать, но вместе с тем она была поставлена на фундамент русского языка, ее героями стали живые русские люди, и самая ее мысль задышала по-русски. Именно такова была задумка Карамзина – человека не гениального, но честного и упорного до самоотверженности, – и именно так он и сделал.
С наступлением XIX века и воцарением Александра I Карамзину осталось жить двадцать пять лет – столько же, сколько Александру. Александр будет царствовать, Карамзин – писать историю. Карамзин станет придворным историографом (первым и последним в истории страны), будет жить рядом с императором, они будут чуть не каждый день встречаться, болтать, ссориться и мириться, Александр будет слушать советы Карамзина и ни одному не последует. В 1825 году Александр не то умрет от горячки, не то превратится в странствующего старца, через две недели после его смерти будет Сенатская площадь, которую современники назовут вооруженной критикой на «Историю государства Российского», а еще через полгода умрет от полученного в декабре воспаления легких Карамзин – но перед самой смертью он выхлопочет себе назначение послом империи в Венецию, и в тот момент, когда он, сидя в своем кабинете за работой, расстанется с жизнью, в Кронштадте уже будет ждать корабль, чтобы отвезти его на Запад.
Карамзин знал, что такое смерть: кроме родителей, он похоронил первую жену (за ее гробом шел двадцать пять километров пешком), двух дочерей и сына. И если смерть – форма одиночества, то переход от жизни к смерти для Карамзина должен был быть чем-то вроде продолжения путешествия на новом виде транспорта, разве что оттуда русский путешественник уже не напишет писем.
Он умер от простуды, которую подхватил будто бы на Сенатской площади, но как знать, не та ли это самая простуда, которую подхватывают, оказавшись в полном одиночестве на продуваемой всеми ветрами вершине Фудзи, – потому что нет сомнений в том, что он до нее добрался. Основанная им литература развивалась так быстро, что сам Карамзин еще при жизни устарел и стал пугалом для литературной молодежи. История, которую он писал, молодежи не нравилась тоже, не плюнуть в нее было дурным тоном – Пушкин, Грибоедов, Чаадаев, – молодежь желала слушать только про кровавый царский режим и необходимость немедленно его свергнуть. У Карамзина не осталось друзей, с которыми он мог бы поболтать, не было единомышленников, на мнение которых он мог бы опереться, а единственным его собеседником оказался император, про которого еще Наполеон сказал «лукавый византиец». Вместе с тем, самые гнусные силы политической реакции сделали из Карамзина свой тотем – и это ему, должно быть, было особенно смешно, ему, на которого еще в конце прошлого века регулярно писали доносы («гибельный яд в сочинениях Карамзина кроется»). Одиночество в холоде и темноте – это одиночество мысли. Мысли, которая не бывает верной или не верной, – она только возникает, когда человек думает. Пушкину и Чаадаеву нужно будет сильно повзрослеть, чтобы наконец открыть для себя карамзинскую мысль. Грибоедову повзрослеть так и не придется.
Того, кто добрался до вершины Фудзи, не прибьешь мухобойкой-определением: «западник», «славянофил», «патриот», «либерал». Из Карамзина можно надергать цитат для программной статьи журнала «Фобрс», а можно – для передовицы газеты «Завтра»; что, собственно, думал Карамзин – who cares?
Политический вопрос эпохи – отношение к Великой французской революции. Она была благой вестью тогдашней либеральной партии и апокалипсисом тогдашних охранителей, но Карамзин не был ни тем, ни другим. Раньше кого-либо другого в России он понял, что Французская революция была в действительности борьбой двух революций, буржуазной и народной, что буржуазная революция вышла из этой кровавой бани победителем и в конце концов установила диктатуру. И не то чтобы странно было желать для России движения по пути исторического прогресса такой ценой, ценой кровавой бани, дело в другом, в том, что даже для такого развития событий в России не было никаких предпосылок, начиная с той главной, что вместо крепкой, организованной и обладающей самосознанием буржуазии всего и было-то в наличии что несколько десятков аристократических умников – а значит, вместо революции Россия получила бы очередной дворцовый переворот, при том что выгоды переворота не очевидны, а риск гражданской войны чрезвычайно высок. Карамзин был агностиком, республиканцем и считал самодержавие злом – но в то же время он был реалистом и всегда честно до конца додумывал мысль, и поэтому не мог не признать, скрепя сердце, что на русской политической повестке дня стоит выбор между злом текущего самодержавия и злом нового самодержавия после гражданской войны, и в этом выборе гуманист, если только гуманизм – это уважительное отношение к каждой отдельной человеческой жизни, не может не выбрать зло меньшее, а выбрав, не может не отстаивать свой выбор.
«Нашим Тацитом» Карамзин станет только после выхода IX тома – того, в котором про террор Ивана IV, – и это не столько смешно, сколько пугающе – пугающе похоже на День сурка русской истории: ведь и сейчас, чтобы с тобой поздоровались, нужно прежде всего осудить сталинизм.
И если Карамзин и впрямь открыл русскую историю так, как открыл Америку Колумб (земля! земля!), то это значит не только то, что от радости и торжественности подобного открытия захватывает дух, но и то, что человек, впервые ступивший на огромный, чужой и страшный континент, в одно мгновение ока седеет от ужаса и пустоты в груди.
С поздних портретов на нас глядит человек с заостренными чертами лица, нервным (что еще вам от меня нужно?) взглядом и двумя глубокими бороздами между бровей. Этот человек хочет, чтобы его оставили в покое и не донимали глупостями. Он был сочным мальчиком с яркими полными губами и румянцем на щеках, когда решил, что создаст для своей страны литературу, – и он стер руки в кровь, но сделал это, чтобы потом, утратив и сочность, и румянец, оставить созданное им румяным и сочным мальчикам, которые первым делом насмеялись над ним (о! они имели право, ведь они были талантливее). Он дал своей стране ее первую Историю, на этой работе высох, облысел, изнервничался – и в ответ услышал только, что вместо этого ему следовало бы написать оду против кровавого режима, тогда его, пожалуй, зауважали бы (как потом досадовал Пушкин на себя девятнадцатилетнего!). Он, когда его об этом попросили, подал императору записку с изложением своих политических взглядов, и этот текст лег под цензурный запрет на полторы сотни лет – толком его опубликуют только когда будет разваливаться Советский Союз, – но, даже не опубликованная, Записка даст повод либералам проклинать в Карамзине фанатика-реакционера, а патриотам – антинародного провокатора. От всего этого устанешь.
И можно легко представить себе, как вместо того чтобы отложить перо, склониться на поверхность рабочего стола и испустить дух, Карамзин, подобно сказочному полурослику, собирает легкую дорожную сумку, выходит один из своего шумного дома на углу Невского и Фонтанки и идет прозрачной белой ночью, что-то не то напевая, не то бубня под нос, до берега моря, где его ждет лодка, добирается до Кронштадта и садится там вместе с покидающими Средиземье эльфами на корабль, который увозит его на Запад мира, в Европу его души, в Италию его сердца. Маленькая, сухая, подтянутая фигура этого старика удаляется, рябит, он даже не машет нам на прощание, разве что слегка неодобрительно поглядывает из-под бровей – так уходит от нас в новое – хотя, в сущности, Путешествие всегда одно (и то же) – путешествие потомок татарского Черного Князя, великий русский мастер Николай Михайлович Карамзин.
Я люблю кровавый бой
Париж. 1914 год. Четырехлетний мальчик тащит маму за руку к витрине магазина игрушек: «Купи мне кораблик! – кричит он. – С моряком! С одним, нет, двумя, тремя, четырьмя… Кораблик, полный моряков!». По-французски, разумеется, кричит (и мама, кстати, безропотно все покупает). Мальчик лепит из песка фигуры, ходит смотреть на уток (“les gaga!”, – восторженно кричит он; и даже оказавшись в зоологическом саду – мимо слонов и жирафов – идет искать “les gaga”), каждый день мама дает ему мелкие монетки, и он идет на угол rue Roli покупать леденцы, причем с течением времени прилавок магазинчика становится для него все ниже и ниже. Как-то ночью ему показывают летящий над городом, освещенный прожекторами дирижабль – но едва ли мальчик понимает, что перед ним (над ним) – грозное предвестье войны; мальчик, который больше всего на свете любит уток и бананы. Днем он гуляет в парке Монсури, и в этот же парк приходят передохнуть от строевых занятий солдаты (скорее всего, ополченцы); в красных кепи и шароварах, они курят и играют с малышами.
«[В Париже я] впервые полюбил солдат», – напишет уже на седьмом десятке классик советской, да и мировой литературы Виктор Некрасов.
Утки и бананы. Бананы – то, что нет бананов, – самое большое расстройство для мальчика, когда он вернется в Киев. Возвращаться или не возвращаться – в Киев из Парижа в 1915 году – вопрос почище гамлетовского. Бабушка за возвращение, мама – против. Бабушка переживает за детей (Коле пятнадцать, Вите четыре – что с ними будет, когда немцы займут город?), мама уверена, что немцы в Париж не войдут, и к тому же совесть не позволяет ей бросить госпиталь, там – раненые, раненые и раненые. Между тем дирижабли подлетают все ближе, и с них сбрасывают на Париж бомбы.
Старинный дворянский род: документы прослеживают Мотовиловых (это девичья фамилия матери) до первой трети XVI века, дальше – туман: основателем рода был не то Тимофей Мотовило, племянник Андрея Кобылы, от которого ведут свой род Романовы, не то – литовский князь Монтвил-Монтвид, чьи предки в свою очередь воевали вместе с Дмитрием Донским еще в Куликовской битве. К началу XX века от былых сибирских угодий осталось немногое: у семьи шестикомнатная квартира в Киеве на Владимирской улице, «и мебель, и все вещи», среди которых прапрадедушкин диплом Виленского университета от 1825 года, акварели другого прапрадеда (a propos: кто-то из прапрадедов и Некрасову, и Анне Ахматовой – общий) и ломберный столик, за которым, «злые языки говорят, мои предки просаживали свои имения».
В Париж (сначала в Лозанну, а потом в Париж) мать в 1911 году, с двенадцатилетним Колей и грудным еще Витей, уехала учиться; медицинские факультеты во Франции в те годы вообще полны русскими женщинами. Впрочем, дело, может статься, не только в стремлении к знаниям: Париж, наряду с Цюрихом, одна из точек сборки революционной интеллигенции. Скупо и неохотно Некрасов намекает на дружбу своих теток с Троцким, Луначарским – и понятно: раз с ними, то и с другими; но говорить об этом подробно будет неловко – ни члену Коммунистической партии в Советском Союзе, ни ярому антисоветчику в эмиграции.
Да и другое важнее – что выжили: с одного края охваченной войной Европы на другой – через Лондон, Северное море (полное опасностей: мины, подводные лодки), Швецию и Финляндию – семейство возвращается в Россию, в Киев.
1915 год, мировая война в разгаре. Маленький Витя учится говорить по-русски и читать. Первое чтение Некрасова – романы Жюля Верна (дома – полное собрание сочинений) и журнал «Природа и люди», в котором мальчика больше всего увлекают последние страницы, те, на которых печатают хронику военных действий. Его, франкофила, куда больше волнует Верденская мясорубка, чем Деникин, Петлюра и Щорс. В 1917 году в далеком Красноярске от разрыва сердца умирает его отец, банковский служащий, и чуть позже в Миргороде расстрелян местным ЧК брат Коля, которого из-за прекрасного французского, крахмальных воротничков и французских книг приняли за шпиона (юноша, если верить воспоминаниям, был исключительно талантлив: писал прозу, и по-русски, и по-французски, прекрасно рисовал, увлекался театром). Некрасов, которому нет еще и десяти, остается единственным мужчиной в семье.
Его воспитывают бабушка (которая балует), мать (сдержанная в проявлениях своей любви) и тетка (строгая и суровая). Когда взрослому Виктору Платоновичу тетка будет пенять, мол, здоровый лоб и не работает, мать будет защищать его: «Что ты к Вике пристаешь? Твой отец не работал, твой дед не работал, почему Вика должен работать?»
Маленький Вика (так его называют в семье, но так же его будут называть все близкие друзья – до старости) мечтает быть капитаном корабля, машинистом поезда, тореадором, но больше всего – солдатом, французским солдатом – защищать милую Францию «от этих паршивых бошей».
То, что называют иронией судьбы, чаще всего при ближайшем рассмотрении оказывается ее неумолимой логикой: в стране рабочих и крестьян наследник древнего дворянского рода умудрился сделать самую аристократическую карьеру – защищал Родину и писал книги.
Вторая мировая война – ключевой момент всей истории XX века; разумеется, она стала центральным событием для миллионов людей, и для целых поколений советских людей, и для Виктора Некрасова – спасибо, капитан Очевидность! – важно вот что: стал бы Виктор Некрасов писателем (то есть: Писателем), если бы не война? Как знать. Во всяком случае, ничего равновеликого «Окопам Сталинграда» он никогда не написал. Несколько рассказов, тематически примыкающих к повести. И несколько томов в полуавтобиографическом ключе, названия говорят сами за себя: «Взгляд и нечто», «Записки зеваки». Как раз во «Взгляде и нечто» он вспоминает, как Борис Александров – критик, который «сосватал» в «Знамя» кочующую из редакции в редакцию повесть, – сказал ему: «Вам бы для того, чтобы вторую правдивую книгу написать, надо было бы попасть в лагерь».
Вот – еще важнее: «В окопах Сталинграда» ни в коем случае не «человеческий документ», не спонтанное письмо человека, который вдруг, пережив исключительный опыт, записывает «все как было». «Окопам», написанным тридцати-с-лишним человеком, предшествовали годы писательских неудач. Рассказы, повести, пьесы, романы – фантастические, детективные, исторические, психологические, – все это читалось в кругу друзей, исправно отправлялось в редакции и исправно отклонялось, – прежде чем написать тоненькую книжку, которую вы держите в руках, книжку, которая навечно вписала его имя в историю мировой литературы, Некрасов испортил целый грузовик бумаги.
И цистерну керосина. «Окопы Сталинграда» писались в 1945 году в квартире у друзей – дом на Владимирской, рядом с Андреевской церковью (архитектор – Растрелли) был уже уничтожен. И снова тетка: всем знакомым она говорит – каково: у нас на месяц 500 рублей, из них 400 Вика извел на керосин, куда это годится?
Тоненькой книжка вышла по необходимости; была бы толще, если бы не Всеволод Вишневский – в то время редактор «Знамени», – который принял недописанную повесть к публикации, попросив только быстро дописать хоть какой финал. В 1946 году в двух номерах появляется первая публикация Некрасова, причем окончание повести соседствует с историческим докладом Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это был нервный для литературы год; трудно в это поверить сейчас, но тогда публикация «Сталинграда» (журнальное название повести) была серьезным риском. От публикации отказались несколько журналов, из списка на Сталинскую премию Некрасова вычеркнул всесильный Фадеев: да, при большом желании кто угодно кому угодно мог бы объяснить, что повесть – крамольная. Взгляд не дальше собственного носа, Сталин – не для отвода ли глаз? – упоминается лишь однажды, роль партии не освещена вовсе, – всего этого было бы вполне достаточно, если бы автора или опубликовавший его журнал решили мочить. Происходит, однако, прямо противоположное. Правда ли, что Сталин лично в последнюю ночь назначил Некрасова лауреатом премии своего имени и в авральном порядке пришлось переверстывать все газеты, или это не более чем легенда – бог весть; важно то, что утром 6 июня 1947 года Некрасов просыпается не просто профессиональным писателем, но – суперзвездой: повесть автоматически включают в план «все издательства Советского Союза, вплоть до областных и национальных». Суммарный тираж – несколько миллионов экземпляров. В последующие годы «Окопы» переведут на четыре десятка языков. Суперзвезде, как нетрудно посчитать, тридцать шесть лет.
Больше половины жизни: что он делал все это время?
Он был монархистом в начале двадцатых. Уходя в школу, всегда брал с собой карандаш, чтобы править надписи на афишах – пририсовывать «еры» и «яти»; дореволюционная орфография была для него символом веры в царя и Отечество. Был религиозен: каждый вечер истово молился. Тетка и брат возмущались, мать говорила – пройдет (и оказалась права). Не успевал по математике. Терпеть не мог Тургенева. Рисовал, фотографировал, писал трагедии и собирал марки. (Марки останутся навсегда; даже в Сталинграде в оставленных немцами бункерах Некрасов будет прежде всего выискивать драгоценные альбомы. Страсть к фотографии – тоже до старости.)
Искал себя. В 1929 году поступал в художественное училище, но провалился. Отправился в Москву за рекомендательным письмом к Луначарскому (Луначарский жил когда-то в Париже в том же доме, что и маленький Вика, – мать, уходя в госпиталь, оставляла ребенка будущему наркому, и тот выгуливал его вместе со своими собственными детьми). С письмом наркома в кармане («недюжинные архитектурные способности») поступил в Строительный институт. Работал на стройке вокзала в Киеве. Занимался в театральной студии. В литературной студии – тоже.
Кажется, учеба «на архитектора» была для него способом легитимации своих творческих поисков. Не то молодой писатель (этот вирус у него в крови; та самая суровая тетка, еще десятилетней, записала у себя в дневнике: «Одна мечта – стать писательницей!»), не то полупрофессиональный артист. В 1938 году он, оказавшись в Москве, показывался Станиславскому с отрывком из «Ревизора», и тот звал его осенью снова показываться – бог его знает, как сложилась бы судьба, не уйди мэтр из жизни еще до наступления осени.
Два года он путешествовал по стране в составе Железнодорожного передвижного театра: Владивосток, Вятка, Киров, Ростов-на-Дону. Роли – Хлестаков, Вронский и другие, помельче. В Ростове-на-Дону застала война.
Художник? Архитектор? Артист? Писатель? Похоже, всего понемногу. Рисовал неплохо, хотя и не блестяще. На защите диплома (проект вокзала) оппонировал «старейший и лучший киевский архитектор»; защита прошла великолепно, не аплодировали только потому, что запретили аплодировать, – не то давало знать о себе происхождение, не то припомнили, как на втором курсе Некрасов упоенно защищал крамольный конструктивизм, – и «четверку» поставили вопреки мнению оппонента, было бы «отлично». Артистом, судя по всему, тоже был не бездарным. И дело не только в сдержанной похвале Станиславского; есть куда более поздние воспоминания С. Лунгина о том, как в театре (театре им. Станиславского, вот ведь анекдот) Некрасов читал собственную пьесу: «старательно играл за всех действующих лиц, менял голос, акцентировал наиболее важные места <…> выглядел <…> довольно обаятельно». Писал в основном мальчишескую ерунду («что-то “заграничное”, с мягко шуршащими шинами “роллс-ройсами”, детективы с поисками кладов»), и лишь в 1940 году впервые – что-то «про жизнь», рассказ о финской кампании, о которой только и мог знать, что из газет.

