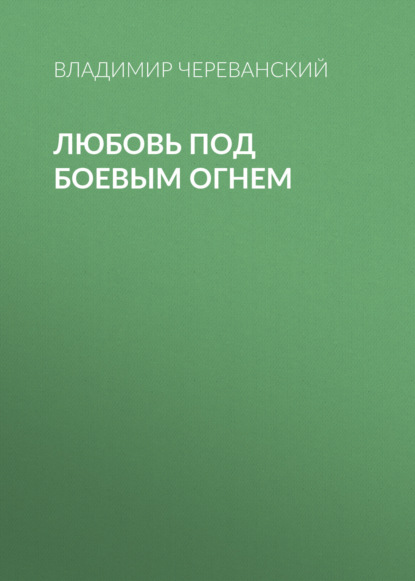 Полная версия
Полная версияЛюбовь под боевым огнем
– И наклонность к приобретению, – вставил от себя Зубатиков. – Немцы повытаскали из Версаля не одни предметы художества, но и всю ценную мебель.
– Господа, – провозгласил наконец капитан компанейского парохода, – помните, что через два часа я снимаюсь с якоря, и едущим в Чекишляр не мешает теперь же идти на пристань.
XIXЧекишляр много повредил авторитету Мольтке, так как вся столовая, забыв великого стратега, засуетилась и занялась расчетами с прислугой за съеденное и выпитое. Прежде, однако, чем чекишлярцы отправились на пристань, в дверях столовой показалась мощная фигура туркмена, обратившая на себя общее внимание. Переводчик познакомил с ним все общество одной общей рекомендациею:
– Тыкма-бай, гость генерала Петрусевича, который просит принять его в свою компанию. Он знает немного по-русски.
Предупреждение это было сделано вовремя, так как коньяк с кофе могли предательски выдвинуть вопрос: как попала сюда эта разбойничья морда?
– Не желает ли Тыкма-бай молока русской кобылицы? – спросил кто-то, достаточно уже изведавший вкус этого молока.
– Я водки не пью, – ответил по-русски Тыкма-бай, – но за стакан воды был бы благодарен.
Русский ответ степняка поднял в обществе бурю восхищений. Послышались приказания:
– Зельтерской воды, лимонаду, айрану!
Тыкма-бай, тронутый этим вниманием, благодарил по правилам степного этикета – приложением руки к сердцу. Вскоре он сделался жертвой офицера, готовившегося в академию, которому трудно было удержаться от ученого допроса.
– Почему население Туркмении делится на такое множество племен: иомуды, гокланы, сарыки, солоры, чодоры, джафарбаи, теке?
– Я не ученый человек, – отвечал скромно Тыкма-бай, – если же у нас так много народа, то значит, мы ничего не делаем неугодного Богу.
– Правда ли, что иомуды самое мирное племя в Туркмении?
– Да, если его не обижают.
– А скажите на милость, кому принадлежит остров Целекен? – вставил свой вопрос господин с классическим носом.
– До сегодняшнего дня он принадлежит иомудам, – отвечал Тыкма-бай, – а завтра, как Бог укажет.
– Не продадите ли этот остров?
– Нет, Тыкма-бай, вы не продавайте ваш остров, – послышались дружеские советы. – Он будет иметь громадную цену. В нем миллионы пудов нефти.
– А какое из туркменских племен самое храброе, солоры или теке? – допытывал офицер, готовившийся в академию.
– Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что люди считают иногда трусость врага за собственную храбрость.
– Почему ваши племена враждуют между собою?
– Каждый желает быть хозяином своей кибитки.
– У вас нет ни хана, ни эмира?
– У нас в каждой кибитке свой эмир.
– А уездного начальника вы очень боитесь?
– И уездный начальник может быть хорошим человеком.
– Тыкма, не хочешь ли поступить ко мне в джигиты? – спросил один из богатых фазанов-недоумков, прибывших с берегов Невы.
– Я не смею перевести ваше предложение, – заметил переводчик. – Генерал очень оскорбится, когда узнает, что мы относимся презрительно к его гостю.
– Да разве мое предложение оскорбительно?
– Вы говорите с человеком, по одному знаку которого сорок тысяч кибиток могут переброситься на сторону наших врагов.
Впрочем, Тыкма-бай, очевидно, уловил эту необдуманно брошенную фразу, так как его высокий лоб мгновенно покрылся морщинами, а в руках сломалась вилка.
– Скажите, Тыкма-бай, – возобновил свое истязание офицер, готовившийся в академию, – много ли пушек у теке? Вы иомуд, вам нечего перед нами скрываться.
– Я человек не ученый, – повторил Тыкма-бай, – и знаю счет только до пятидесяти.
– Следовательно, у них пятьдесят пушек?
– Откуда им взять такую силу? – усомнился батарейный командир.
– А Армстронга и Англию забыли?
– Армстронг требует за свой товар чистенькие денежки, а у них все капиталы в верблюжьих горбах.
– А все-таки я посадил бы эту бритую башку на время экспедиции в трюм какой-нибудь баржи, – надумал объявить приневский фазан под наитием третьего стакана кофе с коньяком.
Понял ли Тыкма-бай это нескромное предложение? Вероятно, понял, так как в его зрачках сверкнуло выражение неудержимой ненависти.
– Господа, позвольте мне покаяться. Я сочиняю марш на взятие Геок-Тепе и затрудняюсь только в одном вступлении…
Покаяние шло от красноводского капельмейстера, не проронившего до настоящей минуты ни одного слова.
– Начните так: пятьдесят барабанов бьют тревогу, – посоветовал Зубатиков. – После тревоги плывут в воздухе звуки нежной флейты… наподобие как бы голубя с масличной веткой в клюве.
– Мне хочется знать, о чем они говорят, – спросил Тыкма-бай у переводчика.
– Они говорят, какой будет праздник, когда мы возьмем Геок-Тепе.
Здесь Тыкма-бай разбил нечаянно рюмку. Со стороны пристани слышались последние призывные свистки парохода. Часть общества поспешно оставила клуб.
– Куда они уходят? – поинтересовался Тыкма-бай.
– В Чекишляр. Здесь вы видите одни только мелочи, тогда как там много и людей, и коней, и пушек.
– Я хочу водки! – объявил внезапно по-русски Тыкма-бай.
Удивленное общество поспешило выступить с радушным предложением кюммеля, хереса, бальзама. Напоить трезвого вообще приятно, а трезвого туркмена и подавно.
Тыкма-бай выпил залпом полбутылки быстро одуряющего алкоголя.
– Спать пойду, – объявил он всему радушному обществу. – Радости в сердце нет… а сил убавилось.
На лошадь он все-таки вскочил бодро и только, к удивлению своего Мумына, повел рассуждение с самим собой:
– Ак-Падша скажет, что Тыкма мошенник, что он унес его медаль… Я сардар, а не воришка, и пусть это знают во всех странах…
Вероятно, с этою целью Тыкма-бай осадил коня перед почтовой конторой, где, как он знал по прежним побывкам в Красноводске, можно отдать всякую вещь, и она придет к друзьям без убытка.
Почтовый чиновник дремал в адской духоте своей конторы, когда к нему грузно ввалился колоссальный туркмен.
– Можешь ли ты, господин, послать мою вещь, куда я хочу? – спросил Тыкма-бай, подбирая в уме русские слова. – Можешь? Тогда возьми эту медаль и пошли ее Ак-Падше. Пусть он знает, что я – сардар всего Теке, а не мошенник, которому нужна чужая вещь.
В руках изумленного почтового приемщика очутилась медаль.
– Где тебя так нагрузило? Пойди на берег да окуни в воду свою бритую башку.
Пренебрегши этим советом, Тыкма-бай вскочил на лошадь и помчался к аулу; здесь он не замешкался и, пристегнув к седельной луке запасного коня, скрылся за горным перевалом. Но едва он показался на вершине перевала, как вокруг него собралась неизвестно откуда вся свита, сопутствовавшая ему по дороге из Теке. Явилось и оружие. Образовался летучий отряд, быстро удалявшийся на восток…
В это время Петрусевич разбирал доставленные ему донесения и телеграммы. Кабель пересекал в ту пору Каспийское море только между Баку и Красноводском, так что последний переговаривался с Чекишляром и атрекской линией кружным путем, через Персию.
В одной из полученных телеграмм этапный командир сообщал, будто народный круг Ахал-Теке избрал бывшего бамийского хана Эвез-Мурада-Тыкма, именуемого в просторечии Тыкма-баем, в сардары с обязанностью объявить газават России. Петрусевич рассмеялся на всю канцелярию.
– До чего может одуреть человек, сидя два года на Сумбаре, – говорил он одному из своих пишущих адъютантов. – На Сумбаре думают, что сардар Теке может объявить газават! Не дадут ли ему в руки и зеленое знамя?
Зная, что только имам страны может объявить газават, Петрусевич посмеялся над ошибкой телеграммы с ученой стороны и оставил ее фактическую сторону без всякого внимания.
– «По слухам, идущим из джафарбайских аулов, – доносил другой этапный, сидевший на Михайловской линии, – избранный народным собранием в сардары Эвез-Мурад-Тыкма послал гонцов в Хиву с просьбой о помощи!..»
– Посоветуйте этому этапному переменить лазутчиков, да и самому почитать кое-что в истории Средней Азии, – обратился Петрусевич к адъютанту. – Такая умница, как мой Тыкма-бай, не пошлет за помощью к хивинскому хану, который отлично понимает свое вассальное положение.
Наконец, Петрусевич вскрыл донесение, несомненно, основательного человека, доставленное со всеми признаками необыкновенной поспешности.
– «Избранный в сардары бывший хан Вами и Беурмы, Эвез-Мурад-Тыкма, проследовал в эту ночь к Красноводску, а спутник его англичанин О’Донован направился вместе с слугой к южноперсидской границе…»
Над этим донесением Петрусевич глубоко задумался.
«Здесь есть какая-то доля правды, – соображал он, пробегая вторично донесение достоверного человека. – Прискорбно, если тамыр изменяет мне как последний двоеданец, виляющий хвостом между Персией и Теке. С другой стороны, много есть и извиняющих обстоятельств в его пользу. Этого человека вынудили стать в ряды наших врагов. Не далее как в прошлом году он явился с покорностью Теке, а господа триумвиры арестовали его и поволокли за своей печальной колесницей. Он бежал… и я делаю вид, что этого не знаю. Разумеется, и каждый бежал бы на его месте. Он умолял не расстреливать Геок-Тепе на его глазах и выпустить его для переговоров, но им нужна была слава!»
– Приведите мне Тыкма-бая… живым, а в случае сопротивления – тоже живым! – приказал наконец Петрусевич ординарцу из хорунжих. – Если же он успел скрыться из Красноводска, то попытайтесь броситься за ним в погоню… хотя это будет совершенно бесполезно…
Ординарец, сильно польщенный данным ему поручением, не замедлил посадить на коней свой взвод казаков, мирно проживавших на заднем дворе генеральского дома. Потревоженным Гаврилычам представилась при этом картина заправской войны.
– Если случится какой грех, – говорил Гаврилыч Гаврилычу, – передай жене поклон и скажи, что чакинец зарубил.
– А почто так?
– На его коне можно всякого человека зарубить.
– А ты стрель его!
– Как же, стрелишь паршивца!
Хорунжий двинул взвод на рысях к аулу.
– Подать сюда Тыкма-бая! – выкрикнул он представшему перед ним старшине. – Живым или мертвым, понимаешь?
Аульный старшина, взглянув на мелькавшую перед ним нагайку, понял, что от него требуют выдачи его закадычного друга.
– В ауле нет Тыкма-бая, он уехал в степь.
– Под арест!
Отослав для чего-то старшину под арест, распорядительный хорунжий двинулся со взводом в степь. Но – увы! – он подоспел только на погляденье вслед удалявшейся группы теке.
Состязание пегашек с аргамаками привело бы к комическому исходу, поэтому хорунжий, несмотря на страшное желание изловить Тыкма-бая, вынужден был остановить взвод и дать очистительный залп по мелькавшей впереди горсточке людей.
XXСуровые интересы войны захватывают громадные пространства. Впрочем, Волге, доставлявшей к морю боевой материал в виде хлеба, пороха и людей, суждено было по ее географическому праву проявить в предстоящей экспедиции усиленную деятельность.
Со времени отъезда князя Артамона Никитича в Крым его усадьба на Княжом Столе пребывала в полном отрешении от окрестного мира и его суеты. Сила Саввич, навесив замки и заменив фрак халатом, ушел в чтение духовных книг, а Антип Бесчувственный хотя и состоял при доме, но в совершенно неизвестном ему звании. Он был на положении забытого человека. Выглядев и в блестящее время своей жизни обеденным ракитовым кустом, он скоро обмохнател до сходства с лесовиком.
Изредка, впрочем, художники, хранившие благодарную память о прелестях гурьевской площадки, появлялись на ней в качестве неустанных созерцателей лунных эффектов и необъятного горизонта. Вот и теперь пароходный свисток вызвал Антипа и его неизменную «Подружку» на послугу, впереди которой виднелось что-то пригодное на усладу или пропитание человека. Волгарь искусно подвел «Подружку» к самому трапу, опущенному за борт для спуска пассажира. В пассажире он неожиданно признал кадетишку и до того засмотрелся на своего друга, что чуть не проскользнул под лопасть винта. Однако поправился, сладил и уцепился багром за сходню.
– Сказывай, ракитовый куст, как гурьевские дела? – был первый вопрос Узелкова.
– Хоть бы дали чуточку опомниться… от радости, я говорю, опомниться! – укорял своего друга Бесчувственный. – А впрочем… что же, если так сказать, то дела у нас особенные: княжна под клобук уходит, вот какие дела!
– А про старшую нет вестей?
– Были слухи, будто она недавно в монастыре объявилась… с повинной… да только мать игуменья не приняла свое дитё. «Иди, – сказано было от нее, – иди под начало… да на год в пекарню, да год с книжкой на богадельню, а не то – с глаз долой!» Княжна не согласилась, да и то сказать, чего ей в пекарню, когда у ней другое рукомесло.
– И уехала?
– Не услежено, не знаю.
«Подружка» подошла к пристани.
– Слушай, Антип, я отдохну на площадке, а когда покажется «Колорадо», подай ему знак принять пассажира.
– Да вы куда?
– На войну, Антипушка.
– Какая же теперь у нас война? Разве какая махонькая?
– С текинцами, это народ храбрый и жестокий.
– Что же, я не спорю, вам это лучше известно. Помахать-то флагом… Отчего не помахать? Да только «Колорадо» не стопорить. «Лебедь» или «Надежда» – те другое дело. А то, ваше благородие Яков Лаврентьевич, остались бы вы на кои сутки в усадьбе, – надумал попросить Бесчувственный. – Может, больше и не увидимся, так поохотиться, значить, напоследях.
Узелков недослышал или не обратил внимания на просьбу старого приятеля и пустился бегом вверх по лестнице к площадке; здесь он перевел дух под старым дубом.
Не уделяя грандиозной панораме Волги ни черточки внимания, он отдался всецело воспоминаниям о недавно пережитом.
«Да, было мгновение, когда в вечно памятную ночь я уже целовал мысленно уста невесты, и какое разочарование! Утром она отправилась к венцу, а потом – в бегство… Нельзя ли, однако, отворить окно и заглянуть в ее комнату?» – закончил свои воспоминания Узелков.
В это время со стороны рощи послышались звуки колокольчиков остановившейся у ворот почтовой брички.
«Точно дядя!» – мелькнуло в его уме при виде запыленного пассажира.
«Точно мой милый племяш!» – мелькнуло в уме пассажира при виде одинокого офицера, стоявшего перед забитым окном опустелого флигеля.
Не прошло и минуты, как они уже целовались. Посыпались перекрестные вопросы:
– Что ты здесь делаешь?
– А ты, дядя, зачем сюда приехал?
– Я поджидаю «Колорадо».
– И я.
– До какого города?
– В Астрахань, а ты?
– Тоже – и прямо на войну! И вот захотел проститься со всем, что было дорого. По мнению Антипа, война будет маленькая, а все-таки и в маленьких войнах убивают насмерть. Я хочу, дядя, оторвать ставню и побывать в комнате Ирины.
– Не проще ли позвать сторожа, спросить у него ключ и обойтись вообще без преступлений, хотя бы и романического характера?
Вскоре Сила Саввич как был в халате, так и прибежал с «житием» в одной руке и со связкой ключей в другой.
Войдя в дом, Узелков нашел комнаты Ирины в совершенно нетронутом виде, точно хозяйка ушла на прогулку неподалеку в парк. На столе лежала объемистая рукописная тетрадь, озаглавленная «Дневник женщины-врача Ирины Гурьевой».
«Не своровать ли? – мелькнуло у него в голове. – Ну это, как дядя скажет. Нельзя ли, однако, узнать, на ком останавливались ее мысли в минуту бегства».
«Отец! – пробегал Узелков последнюю страницу дневника. – Бежать от тебя, как от отца и друга человечества – двойное безумие. Не приходит ли тебе в голову мысль, что я увлечена Холлидеем до степени падения? Ничего подобного! Ты мне веришь, я не способна на ложь и особенно перед тобой, тем не менее бегу от тебя. Из этого дневника ты увидишь, что я не люблю Холлидея, но принадлежу ему, для меня он неотразим! В нем масса загадочной силы. Теперь он требует, чтобы я бежала, и я… покоряюсь».
– Ты читаешь чужой дневник? – спросил Можайский, найдя Узелкова на месте преступления.
– Ах как это интересно! – оправдывался Узелков. – Ведь это исповедь светлой, непорочной души.
– Потому-то и нельзя читать, что это исповедь светлой и непорочной души.
– Неужели, дядя, ты не прочтешь?
– Ни одной строчки.
– Не оставлять же эту драгоценность в добычу мышам, времени и забвению.
– А мы отошлем его князю Артамону Никитичу.
– Ты, дядя, пуританин, а я не в силах относиться так строго к своим поступкам. Притом же ты не любил Ирину, а я… а я возьму здесь хоть что-нибудь на память о ней. Я возьму этот сломанный гребешок, которым она расчесывала свою дивную косу. Или нет, я возьму эту маленькую подушечку; пусть она будет моим амулетом.
Однако Узелкову показалось недостаточным похищение на память о Гурьевке одной маленькой подушки. Ему понадобились и сломанная пряжка, и обрывки кружев, и брошенный пучок полевой травы.
– «Колорадо» бежит! – выкрикнул в окно Антип и побежал к пристани помахать флагом.
Нужно было торопиться. В поспешности Узелков потерял прежде всего пряжку, потом кружева и пучок травы и в конце концов на память о Гурьевке у него осталась только маленькая подушка. Для нее он нашел сохранное место – на груди под сюртуком; при этом он почувствовал двойное удовольствие: грудь сделалась выпуклее и амулет очутился у самого сердца.
Благодаря вынужденной поспешности друзья не обратили внимания на некоторые необычайные явления. Прежде всего слезы Антипа, которыми он проводил кадетишку и Бориса Сергеевича, были далеко не обычным явлением. Этот ракитовый куст имел о происхождении слез очень смутное представление. Более загадочное явление друзья могли подметить на пароходе, а именно на верхней его галерее, откуда было так удобно любоваться Княжим Столом и всем горным берегом. Ландшафт этот привлекал сосредоточенное внимание одной пассажирки, которая, завидев лодку Антипа, поспешно опустила вуаль и скрылась в каюте.
XXIНе успел Можайский устроиться на пароходе, как перед ним предстал волгарь Радункин. Чувствуя себя при капитале, он не чуждался игриво-покровительственного тона.
– Не изволите ли, ваше превосходительство, состоять в погоне за ветлянской чумой? – спросил он во всеуслышание, с целью чтобы вокруг него повеяло ароматом генеральского титула. – Спрашиваю потому, собственно, что Петербург все еще тычет рогатинами в наши тузлуки.
– Хотя шерстью не торгуем, но знакомству очень рады, – ответил Можайский с холодной иронией. – За чумой не гонюсь, но мне приятно встретиться с таким, как вы, знатоком Волги.
– Чуму выдумали люди, которым нужно было всенародно показать мягкость своего сердца и неустрашимость перед Божиим бичом.
– Это убеждение Поволжья или только астраханских купцов? А впрочем, извините, я переоденусь и тогда охотно побеседую с вами за завтраком.
Радункин на пароходе был как дома. Волга знала своего излюбленного сына.
– Привет сельдяным королям! – провозгласил он, подойдя к кружку солидных людей. – Не требуется ли соли? Могу служить полумиллионом эльтонки, хотя бы в рассрочку и без профита.
– Что с тобой стряслось? – удивился сельдяной кружок.
– Ничего не стряслось, а так, ликвидирую соляное дело.
Кружок состоял из разновидностей, которые могли сплотиться только общностью денежных интересов. На почетном месте восседала – и не без кокетства – армянская дама с томными глазами и с растушевкой в разные приятные колеры. Возле нее степенно озирал божий мир отец протоиерей старого калибра, а по другую сторону грузно вздыхал купеческий механизм с неимоверными бриллиантами на жирных пальцах. Около них услаждались шампанским юнец, спешивший в Астрахань укрепляться в правах наследства, еврейчик с портфелем и волгари, не вошедшие еще в большие капиталы.
– Откровенно признаюсь, – исповедовался юнец, укреплявшийся в правах наследства, – мне не ясно филологическое происхождение самого названия «бешенка»? Почему бы ей не остаться при названии, известном еще во времена сарматов?
– Сельдь мы называем бешенкой по ее неимоверной резвости, – заметил отец протоиерей. – Резвость ее такова, что походит даже на помрачение рассудка.
– Тогда назовите ее резвушкой, не правда ли, княгиня? – обратился галантно юнец к армянской даме. – По утверждении в правах наследства я прикажу всем своим ватагам называть бешенку резвушкой. Надеюсь, что и вы, княгиня, изгоните у себя это глупое слово «бешенка»!
– И выйдет из вашей резвушки одно разорение! – буркнул купеческий механизм с бриллиантами.
– Почему же? В филологическом отношении…
– Мы в ваших филологиях не сведущи, но знаем твердо, что от перемены в названии может произойти в капиталах умаление. Не станет мужик потреблять резвушку, когда он привык потреблять бешенку. А впрочем, зовите свою сельдь хоть розой душистой, мы останемся при бешенке.
– Вы говорите, батюшка, что она зовется бешенкой за неимоверную резвость. В чем же проявляется эта резвость?
– Она из воды скачет и даже прыгает ловцу на колени.
– Какая глупая! – заметил юнец, причем пытливо взглянул на колени армянской дамы.
Заметив этот взгляд, дама повеяла на себя платочком.
– Не только на колени, – заметил один из волгарей, не вошедших еще в тело, – а даже бросается на песчаные отмели целыми стадами.
– Это когда птица-рыболов гонит ее своими крыльями, – пояснил отец протоиерей.
– Но как же птица может преследовать рыбу?
– На все, ваше сиятельство, своя манера. Косяк, скажем, идет метать икру из горько-соленых вод в сладкие. Над рекой вьются тогда стаями рыболовы, и вот они дружненько спускаются к самому уровню воды и больше ничего, как похлопывают крыльями. Напуганная сельдь мчится тогда, не глядя на путь, и выбрасывается целыми стадами на берег, а птице-рыболову то-то и нужно.
– А как нынешний улов красной рыбы?
– Да вы красную отличите ли от частиковой? – спросил купец с завидными бриллиантами. – Ваш дяденька, с которым мы имели хорошие дела, оставил свои капиталы, да оставил ли он вам свое рыбоведение? Подержите экзамен: осетр да стерлядь частиковая рыба или красная?
– Разумеется, красная.
– Ничего это, ваше сиятельство, не разумеется! Осетр причисляется к красной, а стерлядь к частиковой породе.
– Ничего, молодой князь выучится, – вступилась за юнца армянская дама и опять повеяла на себя платочком.
– Так вам, господа, не требуется соли? – спросил Радункин. – А соль у меня хорошая и, право, отдаю себе в убыток.
– Пообождем, тузлуки уже заложены, а в амбарах не без запаса.
В это время Можайский и Узелков вышли к рубке и поместились недалеко от кружка сельдяных королей.
– Что новенького? – спросил Радункин, не оставляя своего приятельского кружка. – Что поделывает наш архистратиг Михаил?
– Из новостей могу вам сказать, что состоялось решение сложить акциз с соли, – отвечал Можайский. – Не правда ли это очень крупный подарок всей Нижней Волге?
– Вы это верно знаете? – лихорадочно посыпались вопросы из кружка сельдяных королей. – С какой же, с озерной, с каменной или со всякой?
И юнец с правами наследства на бешенку, и армянская дама с томными очами, и благообразный батюшка, и купеческий механизм – все пришли в раж и быстренько разбрелись по пароходу пошептаться со своими приказчиками. Одному Радункину весть эта была неприятна.
– То-то, Кронидушка, ты так умильно да стыдливо предлагал свой запасец по дешевой цене, – заметил купеческий механизм. – Ох, заберешь ты Волгу в свои руки.
– Господа, господа, тост за Николая Христиановича! – провозгласил юнец с правами наследства. – Его просвещенному взгляду…
– А что это за человек? Мы живем по старине и насчет тостов, если они без чина и звания, очень опасливы. Бывает, что пьешь как бы за человека, а потом от следователя запрос: чему радовался?
– Вы не знаете Николая Христиановича? Вы не знаете министра, подарившего нам безакцизную соль?
– Вот на сей раз действительно стыжусь. Княже, строчи телеграмму!
Юнец сочинил телеграмму с выражением от всего Поволжья восторженной благодарности автору свободной соли. Население «Колорадо», переполненное сельдяными королями и их сподручными, возликовало перед свободною солью, как ликовал некогда иудейский мир перед золотым тельцом…
Добросовестно поддерживая славу знатока Поволжья, Радункин охотно делился с Можайским запасом своих сведений.
– Костычевские горы! – провозглашал он по мере движения парохода. – Здесь чудеснейшие пещеры, из которых выкрикивали: «Сарынь на кичку кинь!»
Об Александровском мосте он заметил, что инженеры, опоясав железным кушаком Волгу, сплотили коренную Россию и Сибирь в отдельную часть света.
– Отныне география должна делить землю на шесть частей: Россию, Европу, Азию…
– Хвалынск! – продолжал он объяснять по мере движения к Астрахани. – У староверов он идет за стольный град.
– Балоково, в котором все жители состоят в мартышках. Так мы зовем приказчиков хлебных торговцев.

