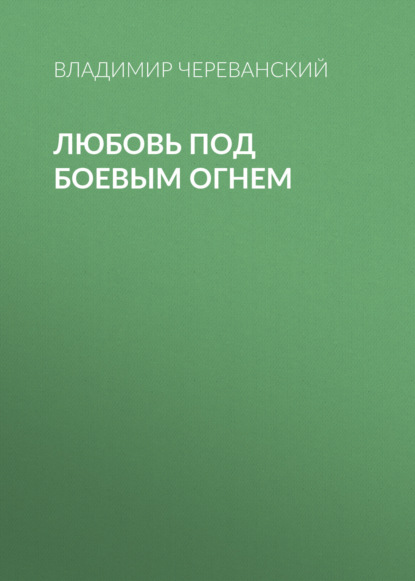 Полная версия
Полная версияЛюбовь под боевым огнем
Команды теке приняли русские, но есаулы и юз-баши, не успевшие еще вытвердить все ее слова, ограничивались сокращенным уставом ротного учения. Во всех случаях юз-баши выкрикивали: «Стройся!» – а есаулы отвечали им: «Справа по одному!» Несмотря на краткость команды, сотни отлично исполняли все необходимые эволюции.
Никогда еще Теке не видело такого торжества. Сардар выступил на смотр собравшейся рати, окруженный блестящей свитой, гостями из Мерва, с джанаралом инглези и с толпой гарцевавших на жеребятах воинственно настроенных подростков.
– Стройся! – выкрикнули юз-баши всего войска.
– Справа по одному! – ответили им есаулы.
Посланники из Мерва были поражены этой воинственной картиной. О’Донован, стараясь запечатлеть в памяти общее впечатление народа, заранее восхищался эффектом своей иллюстрации. Непризванная в ряды войск толпа щелкала от восторга языками, и притом так громко и отчетливо, точно маленькими хлопушками.
По окончании объезда сардар сошел возле аулиэ Джалута с коня и, обратившись лицом к войску, произнес вдохновенно:
– Аллах акбар! Жалую войску и народу все свои стада и кибитки!
Сардар, поистине говоря, не будучи богатым человеком, проявил в этом случае щедрость лучшего из патриотов.
– Что скажет наш друг джанарал инглези про наше войско? – спросил он О’Донована.
– Удивительно пестрая картина! – отвечал О’Донован. – Мне не случалось видеть ничего подобного.
– Джанарал говорит, что текинскому народу суждено совершить чудеса, – перевел Якуб-бай.
– Какова же будет наша сила, когда прибудут пушки королевы?
– Русские испытают тогда участь поглощенных морем детей фараона.
Сардар остался доволен приговором джанарала инглези, но ему важно было знать и мнение Мерва.
– Хотя у нас и теперь уже довольно оружия, но наши мастера продолжают ковать и клынчи, и пики, – сообщил он Коджар-Топас-хану. Видев все это, скажите, может ли Мерв доверить нам жизнь и счастье своих людей?
– Сердца наши расширились от избытка радости, – отвечал серьезный Коджар-Топас-хан, – и наши люди пойдут к вам на помощь без боязни и сомнений.
– А мы не станем тревожить вас, если русские соберутся с небольшими силами, как это было в прошлом году!
Теперь сардару осталось объявить только народу, что корабли уже везут русских сербазов из-за моря, о чем доносят все гонцы из Шагадама. Прежде такого важного объявления нелишним было поднять воображение народной массы и тогда уже обратиться к ее патриотизму. С этой целью сардар приказал зарядить пушку. Пушку зарядили на глазах народа, следившего с необыкновенным любопытством за всеми движениями артиллеристов. Разумеется, заряд состоял из одного пороха.
Сардару подали зажженный пальник.
– Во имя Аллаха! – воскликнул он, наводя пальник на затравку.
– Во имя Аллаха! – повторили глашатаи народу.
– Во имя Аллаха! – повторили тысячи голосов.
Пушка громыхнула, и народу показалось, что от одного ее выстрела потряслись люди, кони, кибитки и песчаные барханы. Многие из народа никогда не слышали пушечного выстрела.
Пушку вновь зарядили.
– Во имя веры! – воскликнул сардар, наводя во второй раз пальник на затравку.
– Во имя веры! – повторили глашатаи.
– Во имя веры! – пронеслось по песчаным барханам.
Вновь всколебалась земля. Народу показалось, что даже в бежавших над ним тучках произошло какое-то замешательство.
– Во имя народа! – воскликнул в последний раз сардар.
– Во имя народа! – пронеслось по барханам волной.
– Во имя народа!
Теперь было видно воочию, что врагу несдобровать.
«Если одна пушка гремит на все Теке, то какой же раздастся гром, когда придут пушки королевы?» – думалось каждому восхищенному зрителю.
Наконец сардар подал знак, что желает говорить о важном деле.
– Нам известно, что русские люди, которым Бог отвел только одну сырую землю, стараются выбраться на сухое место, – говорил он, тщательно отчеканивая каждое слово, чтобы дать возможность глашатаям передавать в порядке его речь. – Отыскивая это место, они заняли земли узбеков и таджиков и теперь сидят уже на затылке хивинского хана. Но, слава Аллаху, мы не таджики, и у нас мальчики не танцуют наподобие девушек. Мы – теке и желаем остаться текинцами до конца наших дней.
Народное кольцо зарокотало общим одобрением.
– Вы знаете, что русские не раз уже беспокоили наше зрение, но всегда они уходили домой, озираясь, нет ли за плечами текинца. Теперь же они сделались дерзкими, они начали смотреть поверх наших шапок и отворять двери, в которые их не просят. Они везут из-за моря все, что нужно для большой войны, и уже воздвигли в Шагадаме и Чекишляре целые горы муки, крупы и соли. У них нет пока верблюдов, но шайтан пошлет им своих слуг, которых и заставит возить тяжести неверных. Нам шайтана не нужно, у нас есть истинные друзья, они спешат к нам со всех сторон. Королева инглези обещает нам множество пушек и тысячу харваров пороха. Наши братья из Мерва здесь, перед вами, а за ними столько тысяч коней, сколько и во сне не увидеть русскому сардару. Но этого мало. Мы воздвигаем крепость, за стенами которой укроем все наши семейства и все наше имущество. Будем же торопиться с ее окончанием и отправим немедленно к Голубому Холму все свободные рабочие руки… – Здесь сардар прервал свою речь, как бы готовясь поделиться с народом важной таинственною вестью. – Обо мне не расспрашивайте и не беспокойтесь, – провозгласил он с поднятой головой. – По плану войны, я должен отправиться на запад, к Шагадаму… А что я буду там делать, вы узнаете по моем возвращении. Аллах акбар!
– Аллах акбар! – ответило все Теке.
Глубоко запала в умы и сердца слушателей речь сардара. Его слово было манифестом об объявлении войны, вызвавшим необыкновенный подъем духа. Мгновенно родилось множество планов на пользу родины, один величественнее другого. Все хотели поделиться с сородичами картинами и образами своего вдохновения, но никто никого не слушал. Напрасно есаулы и юз-баши надрывались в окриках «стройся!» и «справа по одному!» – войска и народ слились в одну массу шумливых и страстных степных политиканов.
Воинственно настроенные женщины собрались также в кружки и повели наравне с мужчинами страстные дебаты.
XVIIМного радостей доставляет перекочевка детям степняка – тем, разумеется, которые достаточно уже сильны, чтобы не бояться бодливых коров, или достаточно ловки, чтобы арканить жеребят. От них не уйдет в степи ни одна ящерица, не поплатившись хвостом, и ни одна черепаха не успеет спрятаться от них вовремя в нору. Придорожным пичужкам тоже нужно беречься глиняных комочков, метко выбрасываемых из самострелов. Впрочем, при медленном ходе каравана борьба и перегонки останутся всегда лучшими утехами.
На этот раз перекочевка теке носила особый отпечаток торжества и величия: впереди везли пушку, окруженную хорошо организованной силой, за ней следовало посольство, возвращавшееся в родной Мерв, а затем уж следовал широкой и бесконечной полосой тяжело нагруженный караван. По сторонам его двигались многочисленные стада, оглашавшие степь концертом из неимоверного сочетания звуков. Девицы гарцевали на аргамаках не хуже своих братьев.
Проследив перекочевку до последней кибитки, сардар возвратился к аулиэ Джалута, где к массе умилостивительных приношений он прибавил баранью голову с необыкновенно длинными рогами и большой кусок красного ситца.
Исполнив этот долг перед покровителем всех храбрых, сардар выступил одвуконь по направлению к заходу солнца. С ним следовали О’Донован, Якуб-бай и небольшая военная свита. Кроме того, к группе всадников присоединилась арба, наполненная коврами, паласами и вообще изделиями текинских мастериц. На этой рухляди сидела Аиша.
На следующий день хода, когда в виду всадников показался Копетдаг, Якуб-бай выступил с своими соображениями.
– Нам никак нельзя ехать вместе с сардаром в Красноводск, – объяснил он О’Доновану. – Там полиция сейчас же спросит, какой дорогой мы попали в степь, что там делали и с кем виделись.
О’Донован согласился с правильностью его доводов, и хотя в качестве британского подданного он считал за собою право путешествовать невозбранно по всему свету, но все-таки ответил:
– Черт с тобой! Веди куда знаешь, а сардару скажи, что я отправляюсь торопить доставку пушек и пороха.
– Джанарал и я отправимся через горы, – объяснил Якуб-бай сардару. – Оттуда он пошлет Аишу королеве инглези и напомнит ей о пушках и порохе.
Сардар одобрил этот план.
Произошла остановка. Все слезли с коней, чтобы подкрепиться силами и обменяться дружескими пожеланиями. Недоверчивый степняк выказал при этом всю тонкость заботы о благе сородичей. Он поминутно прикладывал руки и ко лбу и к бороде и рассыпался в уверениях преданности королеве, а между тем при прощальном слове он без обиняков сказал Якуб-баю:
– Вижу, что ты лжешь, как может лгать одна подлая лисица.
– Что сказал сардар? – спросил О’Донован.
– Он пожелал нам счастливой дороги.
Группа раздвоилась. Сардар отправился со свитой на запад, а О’Донован и Якуб-бай с арбой повернули на юг, по направлению к горному хребту.
На третьи сутки хорошего хода сардар приблизился к Шагадаму, которому русские дали свое название – Красноводск. Сардар появился в Шагадаме без свиты, без оружия, а главное без титула, поднесенного ему народным собранием Теке. При нем остался один есаул Мумын, и то с приниженным видом слуги, которому изредка дарят поношенные халаты.
Обратившись в мирного туркмена, Тыкма-бай остановился в ауле, расположенном на косе между рейдом и морем, где его всегда принимали с большим радушием. Не всякий туркмен мог пользоваться дружбой генерала Петрусевича, а между тем Тыкма-бай получил из рук его медаль и дружеское название – тамыра с правом приходить к нему на чай без приглашения. То было до пресловутой экспедиции неудачников.
Отдохнув в ауле от утомительного пути, Тыкма-бай проснулся раньше, чем солнце успело озолотить верхушки гор, окружающих Шагадам. Две чашки густо заваренного чая отлично восстановили его силы и он отправился – верхом, разумеется – на базар как бы за покупками разных мелочей, в которых так нуждаются в степи эти глупые жены и дочери иомудов.
Но, миновав базар, Тыкма-бай очутился на дальней горной вершине, с которой открывалось беспредельное море.
«Куда ушло то недавнее время, когда туркменские лодки были здесь как у себя дома? – задумался он о судьбе прибрежной Туркмении. – После аломана у Гурьева и даже у Астрахани лодки забегали сюда только для дележа добычи, а теперь?»
А теперь перед его глазами развертывалась иная картина. На рейде двигались суда, у которых паруса были заменены – не без помощи шайтана – огневой силой. Они подходили к длинной пристани, где персияне-рабочие изгибались под тяжестью переносимых на берег ящиков, мешков и связок железа. На что русским столько хлеба и железа? Вероятно, они привезли сюда весь свой урожай до последнего зерна. Но нет, там вдали шли еще суда и, разумеется, не пустые. Дым от них застилал весь горизонт…
Лежавший у ног Тыкма-бая Шагадам давно уже утратил характер крепостцы. Каменная зубчатая ограда его обветшала и кое-где обвалилась, а казарма жила нараспашку, так что в ее окнах, походивших на бойницы, висело только что выстиранное белье.
«При неожиданном нападении да еще с большими силами и с помощью аулиэ Джалута от этой стены останется один мусор, – думал Тыкма-бай, продолжая свои наблюдения с горной вершины. – К тому же этих маленьких сербазов нужно считать по четыре штуки на одного теке. Но разумеется, прежде всего нужно взять в плен генерала Петрусевича, что очень нетрудно. Налево возле пристани виден его дом, открытый со всех сторон, и если приставить по три мультука к каждому окну, то кто выскочит оттуда? Но где же у них пушки?»
Обведя глазами весь Шагадам, Тыкма-бай пришел к заключению, что русские спрятали свои пушки в казарму и, вероятно, туда же скрыли и тыр-тыр.
«Положим, для теке нетрудно принестись сюда вихрем, напасть и даже разорить Шагадам, но дальше что? Разве Петрусевич похож на персидского ильхани? Разве он не выдвинет из каждого окна по тыр-тыр? А кто тогда устоит? Кто поручится, что из Баку не перебросят сюда в одни сутки из-за моря много тысяч сербазов. Инглези дал совет напасть на Шагадам и перерезать его гарнизон, а сам уехал с девчонкой в Иран. Нет, теке не так глупы, чтобы спускаться в колодец на гнилом аркане».
Придя к этому решению, Тыкма-бай бросил прощальный взгляд на крепость и море, носившее когда-то и его лодки с добычей, и отправился в город со смиренным видом степняка, явившегося за покупкой иголок, ниток и других мелочей, необходимых женам и дочерям…
XVIIIТыкма-бай хорошо знал прошлое закаспийской степи и умело отделял, что не всегда доступно уму восточного человека, сказку от истины. Александр Македонский, оставивший здесь следы своего похода, был в его глазах великим сардаром, а не только богатырем, шагавшим для собственного удовольствия через моря и реки и разрушавшим без всякой надобности города и скалы. Он понимал и топографию родной страны, и причины, почему многоводная Амударья иссякла на пространстве между Аралом и Каспием, и, уж разумеется, никто не мог бы объяснить толковее его, почему бедняк туркмен обращается в оседлого человека и, наоборот, человек со средствами переходит в кочевники.
Для Петрусевича, отдававшего свободное время ученым исследованиям о Закаспийском крае, Тыкма-бай был приятнейшим из степняков. К тому же оба они – и носитель высокой культуры, и сын нетронутой природы – были похожи друг на друга.
Наружность генерала представляла удачное сочетание физических и нравственных сил. Большая голова его с необычайно высоким лбом выглядела сурово, но суровость эта говорила о вдумчивости, а не о сухости сердца. Он видел дальше, нежели мог уловить глазами. Не вызывая к себе безотчетной любви, он и не искал ее, довольствуясь серьезным уважением и друзей, и недругов.
Теперь эти две величавые головы вели дружескую беседу на веранде дома, обращенной к рейду и пристани.
– Где пропадал, приятель? – допрашивал своего степного тамыра Петрусевич, превосходно объяснявшийся по-туркменски. – Не задумал ли ты перейти на сторону Теке?
– Я поправлял свои дела, – отвечал Тыкма-бай. – За зиму из-за гололедицы и недостатка корма много пало верблюдов в моем ауле.
– А между тем нам очень нужны верблюды.
– Сколько нужно?
– Не меньше двадцати тысяч.
– Не меньше двадцати тысяч! – воскликнул всегда сдержанный и степенный Тыкма-бай. – Разве можно собрать такой большой караван? Сколько же нужно товара, чтобы навьючить двадцать тысяч верблюдов?
– Бухарский нар поднимает восемнадцать, а хорошо кормленный двугорбый – шестнадцать пудов, – объяснил Петрусевич. – Ваши же туркменские отощали за зиму и едва ли поднимут более десяти пудов. Таким образом, в один путь я подниму на ваших верблюдах не более двухсот тысяч пудов.
– Какого же товара?
– Пригони верблюдов, а товар найдется. Чтобы скорее завязать дело, возьми у меня в задаток столько серебра, сколько сам пожелаешь. Тебе я дам без залога.
– Хозяину нельзя не знать, что положат на спину его верблюда. Теперь перед нами видны целые горы железных столбов, а если положить их на мягкие горбы, то мы получим одних калек. Какой же тогда барыш?
– Мы повезем хлеб, соль, фураж…
– А пушки?
– Для пушек у нас найдутся лошади.
– А ружья и порох?
– Не дело ты спрашиваешь.
– А патроны?
– Допивай чай, и пойдем на пристань. Там ты увидишь все, что мы поднимем в караване.
Красноводский рейд и его набережная представляли в то время оживленную картину. Там всюду шла борьба между культурой и первообразом неприхотливой природы: верблюд с недоумением глядел на страшную фигуру локомотива, а рыбак-туркмен сторонился с ужасом перед паровым катером.
Сильные впечатления должны были оставить в уме Тыкма-бая все эти рельсы, стрелки, крючья, колосники, платформы, фонари… но его занимал один вопрос: где же тыр-тыр?
Таинственные митральезы, получившие в степи характерное название тыр-тыр, очень смущали воображение предводителя теке.
– Ты мне надоел со своими расспросами о тыр-тыр, – объявил ему наконец Петрусевич. – Другой подумал бы, что ты замышляешь недоброе. Поди лучше позавтракай, отдохни, а потом возвращайся ко мне побеседовать о найме верблюдов. Проводите его в клуб, – обратился Петрусевич к своему ординарцу, – и пусть там считают его моим гостем на время пребывания его в Красноводске.
Красноводский клуб обладал замечательной способностью наводить на свежего человека непреодолимую тоску, которая повышалась перед буфетной стойкою до степени черной меланхолии. Властная рука открыла его когда-то на казенные средства со специальною целью соединить заброшенное на окраину общество и как раз достигла противоположного результата. Местные дамы перессорились в клубе, и каждая из них постаралась абонировать себе отдельную стену. Дама одной стены не подходила к даме другой стены, строго следя, чтобы порядок этот соблюдали их мужья и друзья. Бильярдная делилась по временам дня на офицерскую и торгово-промышленную. Буфет угрожал, но не привлекал. Петрусевич возлагал большие надежды на читальню, но и она служила усыпальницей умственных отправлений.
Перед клубом был разведен, опять-таки властною рукой и на казенные деньги, общественный сад, обнищавший до того, что на его гальке и песке влачили грустное прозябание всего несколько кустов тамариска. Отсюда, однако, открывался необычайно красивый вид на величественный рейд. Из-за этой картины чуткая натура могла простить, особенно в лунную ночь, Красноводску все его недостатки и прегрешения, не исключая и уныние клубной залы.
Но вот подкрался день, когда пустота Красноводского клуба сменилась сначала небывалым оживлением, а вскоре и бойкой военно-походной жизнью. Предвестником ее служили какие-то таинственные предприниматели, подолгу шептавшиеся со смотрителем продовольственного склада. Природа наградила их горбатыми носами и акцентом, переходящим наследственно от великого Ирода. Впрочем, это впечатление сглаживалось у некоторых из них ленточками ордена Святой Нины.
По следам предпринимателей задымились пароходы и паровые шхуны из всех западных портов Каспия: из Астрахани, Петровска, Баку и даже из вечно плаксивой Ленкорани. Прежде всех высадились на Красноводском рейде пишущие адъютанты. Но они не успели открыть свои походные столики, как заскрипели перья интендантских столоначальников, защелкали кассиры, заворчали контролеры – и приготовления к войне закипели. За пишущими адъютантами появились боевые, готовые ловить моменты, а там хлынули в Красноводск и все роды оружия.
Клуб распирало табачным дымом, а после обедов и ужинов, особенно за матрасинским, отзывавшимся запахом Апшеронского полуострова, некуда было человеку скрыться от серьезных прений. Все доказывали и объясняли, но никто не хотел слушать. Не только у каждого столика, но и у каждого прибора была своя тема и только в буфете и в бильярдной являлись суждения объективного характера.
Состав посетителей клуба менялся с каждым пароходом, торопившимся принять одних, высадить других и спешить или на юг – в Михайловский залив и Чекишляр, или круговым рейсом к девяти футам у Волги. Менялись люди, но злобы их оставались те же: продовольственная злоба сменялась медицинской, эта артиллерийской, переходившей в инженерную, контрольную, телеграфную с неизбежным вопросом: да кто же у нас будет начальником штаба?
И люди за людьми, и день за днем чередовались лишь с незначительными вариантами в спросе и предложении жизни. В спросе преобладал матрасинский чихирь, а в предложении – критический взгляд на весь живой и мертвый инвентарь предстоявшей войны.
Даже комиссионер Александров, принявший христианскую фамилию вместе с повышением из вахтеров в смотрители, пускался в философию созидания интендантских складов.
– Что такое прибор Раковича? – допрашивал он неизвестно кого за второй бутылкой матрасинского. – Вы скажете, что он действует посредством химии, да на что она мне? У хорошего интенданта вся химия должна быть на конце языка. Возьмите, например, мой язык…
– Прекрасно, предположим, что я взял ваш язык, что же дальше? – поинтересовался не без иронии госпитальный ординатор.
– Посыпьте мне на язык смесь муки и куколя, и я скажу вам, сколько заключается процентов куколя в муке.
– Замечательный язык!
В другом конце столовой пехота нападала на артиллерию:
– Повторяю вам, что моей роте выдали патроны, стреляющие на пятьдесят шагов, не более.
– Уж и на пятьдесят! Но, во всяком случае, при чем тут артиллерия? К тому же не забывайте, что нашими патронами никогда еще не стреляли при сорока пяти градусах Реомюра.
– При чем же тут Реомюр?
– Реомюр? На этот счет в книжке почитайте.
– Милостивый государь!
– Патроны наши изготовлены для Европы, где и быть не может такой адской температуры, как здесь. Очевидно, растопившиеся просальники обволокли зерна, которые и не воспламеняются.
Артиллерийские прения замолкли. Пришла очередь медицины.
– Какова штука! – сообщал во всеуслышание один ординатор другому. – Отрядным врачом назначен Гейфельдер, знаменитейший автор «Полевой хирургии», которая начинается так: «Если ты идешь мимо человека, видишь, что его голова лежит в воде, и желаешь ему помочь, вынь прежде всего голову из воды и положи ее на сухое место…»
Изредка речи столовой прерывались возгласами бильярдной, и особенно обещаниями положить желтого в среднюю.
– Хороши и у вас, доктор, порядки, – говорил контролер Зубатиков. – Сегодня я заглянул в квашню и нашел на ней покрывало со штемпелем «заразное». Простыня из-под тифозного пошла у вас на покрывало для квашни.
Ординатор ошалел. Разговор притих.
– А позвольте узнать, с кем я имею честь?
– Полевой контролер Зубатиков.
– Вы нашли у нас в госпитале покрывало на квашне со штемпелем «заразное»?
– Нашел, и акт составил, и дам ему ход.
– Это подлец комиссаришка виноват! Это все он экономит. Извольте тут лечить, когда он набивает квашню микробами!
Из бильярдной донеслось новое обещание положить желтого в среднюю. На некоторое время Зубатиков, обнаруживший заразную квашню, сделался центром общего внимания.
– Батенька! – адресовался кто-то к нему из бильярдной. – Я вам принесу интендантскую рубаху, которая недостает до пятого ребра.
– Уж и до пятого! – заметил, не особенно, впрочем, громко, Александров.
– Я вам говорю до пятого, так значит, до пятого, – пробуравил появившийся с кием в руках грозного вида капитан.
– Это, разумеется, зависит от роста, – уклончиво объяснил Александров. – На ваш рост, капитан, какую ни надень рубашку, она будет всегда только до пятого.
Польщенный капитан повернул обратно в бильярдную, и оттуда вновь донеслось обещание положить желтого в среднюю.
Столик переговаривался со столиком и комната с комнатой.
– Да кто же, наконец, будет начальником штаба? – слышался любознательный вопрос телеграфного немца. – Извольте, говорят, провести телеграф, а у меня нет ни одного столба, каково положение!
– Мой дядя, генерал-адъютант…
– А у вас дядя генерал-адъютант?
– …пишет, что начальником штаба назначается полковник Гр-ков, которого командующий знает еще по Туркестану. Думали было назначить полковника Куропаткина, но у них там, в Семиречье, нелады с Китаем.
– А Куропаткин все-таки будет в отряде.
– С неба свалится?
– Зачем с неба? Он придет через Хиву со вспомогательным отрядом.
– Пробовали уже проходить эти проклятые пески, да ничего не выходило.
– Будьте спокойны, туркестанцы пройдут, – говорил туркестанец.
– А что слышно об англичанах? – полюбопытствовал инженер Яблочков, мечтавший подвести когда-нибудь мину под просвещенных мореплавателей.
– Поверьте, что они не проспят удобную минуту подставить ножку России, – отвечал офицер, готовившийся в академию. – Они охотно подкупят и натравят против нас всю азиатскую сволочь. Недаром и наш посланник телеграфирует: «Пребывайте на почве трактатов и будьте осторожны».
Вообще не было вопроса, который не разрешался бы здесь быстро и решительно.
– Интересно узнать, кого предпочитает Михаил Дмитриевич, Мольтке или Наполеона?
– Наполеона! – решил общий голос. – Он только и берет с собой в походы приказы Наполеона и сочинения Хомякова.
Явились даже и статские мнения.
– Мы, русские, деремся тогда только, когда нам тошно становится, и если бы нашелся гений вечного мира, мы охотно сдали бы наши знамена на хранение в исторические музеи.
Но офицер, готовившийся к поступлению в академию, не мог оставить эту ересь без ученого опровержения.
– Мольтке не то говорит! По его кодексу, вечный мир есть не более как глупая мечта, а война, наоборот, есть часть Богом установленного порядка. Мольтке прямо указывает, что война развивает благороднейшие качества человека: мужество, преданность, братство…

